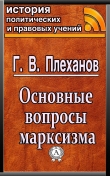Текст книги "Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Вечерний звон"
Автор книги: Николай Вирта
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 47 страниц)
Охранке попались отдельные экземпляры прокламаций, найденные в соборе, несколько штук нашли в соборном алтаре, кое-кто из высших духовных чинов обнаружил их в карманах ряс.
Поиски распространителей листовок ни к чему не привели.
Глава пятая1
Маленький, согбенный старичок, носивший до принятия монашества имя Прохора Мошнина, сын курского купчика, утешавший людей в их горестях надеждой на воздаяния в том мире, где несть печали и воздыханий, далекий от мысли о собственной святости и умерший в Сарове семьдесят лет тому назад, перевернулся бы в гробу, узнай, какой скандал начался вокруг нескольких костей, оставшихся от его тела.
Тамбовский архиерей Георгий, хитрый и злоехидный монах, вытащивший двориковскую знахарку в высшие сферы и за то осыпанный милостями, споткнулся и лишился всех воздаваемых ему почестей из-за костей старца Серафима.
Архиерей был глубоко возмущен тем, что канкан с прославлением мощей саровского угодника начал Победоносцев, старинный его недруг, действовавший притом в обход преосвященного и вырвавший у него первородство идеи, а, стало быть, и все последующие царские милости. Георгий придрался к нарушению правил и обычаев канонизации святых и отказался участвовать в злодейском, как он выразился, святотатстве. Акт о чудесах, якобы совершавшихся на могиле Серафима с первого же дня его смерти, он не захотел подписать. На присланных к нему из Святейшего синода попов и епископов, которым поручили вскрыть гроб Серафима, он кричал, гневно стуча посохом:
– Серафим должен быть прославлен не ранее, как через сто лет после смерти – таков закон и святой обычай! Я никому не позволю прикоснуться к гробу старца. Я запрещаю настоятелю монастыря допускать к могиле Серафима любую комиссию, хотя бы посланную высшими князьями церкви.
Аликс, узнав от Победоносцева о дерзком поведении тамбовского архиерея, пришла в бешенство.
– Вот еще новости! Ждать тридцать лет!.. Только угодник Серафим вымолит нам у господа наследника… Выгнать вон этого подлого старика!
Аликс нажаловалась мужу. Николай, атакуемый женой, потихоньку сдавался, а наветы Победоносцева окончательно решили дело: Георгия перевели в Астрахань.
Его преемник епископ Димитрий оказался человеком более сговорчивым. Привлеченный комиссией Святейшего синода к вскрытию гроба Серафима и увидевший в полусгнившей дубовой колоде лишь рыжевато-седые волосы, несколько легко отделявшихся друг от друга костей и остатки лаптей, он тоже отказался подписать акт о нетленности. И этого архиерея выгнали. Епископом Тамбовским и Шацким назначили петербургского викария Иннокентия – известного карьериста. Не заглянув в гроб Серафима, Иннокентий подмахнул акт вскрытия, признал кости и остатки бороды покойника нетленными мощами и подтвердил своей подписью свидетельства о множестве чудес, творимых угодником со дня кончины и до сей поры.
2
Министр финансов Сергей Юльевич Витте, почва под которым по ряду чрезвычайных обстоятельств сильно покачивалась, обуреваемый желанием приостановить тошнотворное покачивание и снова заслужить доверие царя, подписал ассигновку на сто двадцать пять тысяч рублей, испрошенных Синодом для устройства торжественного прославления новоявленного святого. Впрочем, Витте и тут не преминул подковырнуть любезного друга Победоносцева: в какой-то статье расходов взял да и вычеркнул семьдесят пять рублей.
Об этой дерзости «выскочки» Победоносцев не замедлил сообщить Николаю. Почва под Витте затряслась чувствительнее.
Льстецы и угодники часто сравнивали Витте с Канкриным и Сперанским. Был ли он умнее и мудрее этих двух министров – вопрос не решенный и поныне, но все признавали, что Витте на две головы выше любого мужа, заседавшего в Государственном совете или в кабинете министров. Различными махинациями, продавая за полцены российские богатства иностранцам, путями законными и противозаконными он кое-как укрепил вечно страдавшую склерозом государственную казну, не забывая, разумеется, о собственном кармане. Промышленность процветала, дороги строились, иностранцы валом валили в российский Клондайк и грабили Русь как попало. Сергей Юльевич наживался. Он казался всемогущим, но могущество погубило его: Николай Второй не терпел людей, о которых шла молва, будто бы они неизмеримо умнее его – самодержца и императора.
Приближенные нашептывали царю: Витте заигрывает с революционерами и метит в президенты будущей российской республики. Энергичнее всех в нашептываниях был министр внутренних дел фон Плеве. В нем честолюбие конкурировало с кровожадностью, а мечта о полном и безраздельном влиянии на царя и о диктатуре нагайки, виселицы и каторги не давала ему покоя. Витте и Плеве наушничали царю друг на друга, а Николай, верный своим принципам обманывать всех и вся, утром обещал Витте убрать Плеве, а вечером обещал Плеве прогнать Витте.
Прогнать Витте ему хотелось даже в большей степени, чем Плеве. Витте отчаянно сопротивлялся Николаю в проведении одного плана, который обещал царю миллионный барыш чистоганом.
Расходы непомерно росли: у царя на шее сидела семья человек в пятьдесят – племянники двоюродные и троюродные, дяди и тети, князья великие и не великие… Государь пустил кое-что в оборот: приторговывал винами из собственных виноградников, вложил миллионы в иностранные предприятия и состоял пайщиком английской оружейной фирмы «Виккерс». Но все это была мелочь… Ему нужно было предприятие фантастической прибыльности. Он искал и нашел.
Появилось некое акционерное общество для разработки лесных богатств на реке Ялу в Корее. Единственным и всевластным акционером общества был всероссийский император. Через подставных лиц он выпросил у корейского императора лесную концессию. Но, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Николаю нашептывали, что лес лесом, а за Ялу в горах Кореи лежат такие несметные богатства, что все сокровища Гаруна аль Рашида по сравнению с ними жалкое ничтожество. У Николая потекли слюнки.
– А нельзя ли завладеть Кореей?
– Можно! – отвечали ему. – Пара дивизий – и император корейский подпишет договор на отдачу в концессию русскому императору всех богатств страны – кстати, еще не расхищенных иностранцами.
Но не все шло гладко, как бы хотелось: Корея манила не только русского царя. У японского микадо тоже текли слюнки при лицезрении карты Кореи. Богатства Кореи само собой, но вдобавок какой плацдарм против Китая и России, какое удобное место для приложения энергии японских предпринимателей!
Царь Николай разрабатывал лес на Ялу, микадо следил в оба и вооружался.
Было ясно: без драки не обойтись. Николай сладострастно хотел маленькой победоносной войны и впадал в восторг, мечтал о будущих миллиардах, которые потекут в его карман из корейских недр. Однако не только миллиарды прельщали Николая. Все его предки славились большими делами и военными победами. Чем прославился он? Ходынским кошмаром? Конституцию он давать не собирался, реформы разрешал пустяковые. Других больших дел не предвиделось. Оставалась война. Победа над японцами затмит все прошлые неприятности и пресечет возможные будущие: о всеобщем недовольстве Николай, разумеется, знал.
Итак, воевать! Чем он хуже предков? О командовании армией Николай в те времена еще не думал, у него хватало на это такта. Но у него есть смышленые генералы, и они сокрушат япошек в три счета.
Благоразумные люди предупреждали, что война может оказаться не такой уж короткой и не обязательно победоносной.
– Так вспомните наши последние завоевания! – стоял на своем Николай. – Вспомните скобелевские походы, падение Бухары, Хивы!
Ему указывали, что плохо вооруженные войска ханов Бухары и Хивы не идут ни в какое сравнение с японской армией. Она уже не та, какой была пятьдесят лет назад. Ее обучили лучшие европейские генералы и вооружили мощные европейские поставщики оружия.
– Но у них еще нет военных традиций! – возражал Николай. – Если русские армии в свое время били Карла Шведского, Фридриха Великого, самого Наполеона, неужели мы, вооруженные громадным военным опытом, не разобьем японцев?
– Государь, в те времена, о которых вы изволили говорить, во главе русских войск стояли такие полководцы, как Великий Петр, и не менее великие Суворов и Кутузов.
– У японцев тоже нет Суворовых и Кутузовых.
На том и кончились споры, а дядя и племянники шипели на ухо Николаю:
– Воевать!
– Воевать! – нашептывала по ночам Аликс. – Пусть слава украсит твое царствование, Ники.
– Воевать! – твердил господин русский капитал. – У всех есть колонии, а мы что? Лыком шиты?
– Воюй, Ники! – советовал император германский Вильгельм Второй.
Ему не терпелось стравить родственника с Японией, а затем с Англией и Америкой, чтобы покончить впоследствии с ними, а заодно и с Россией. Воинственный клич «Дранг нах остен!» был выдуман германскими милитаристами как раз в царствование Вильгельма.
Витте, в сущности, тоже был не против того, чтобы отхватить жирный корейский кусок и самому полакомиться у барского пирога. Но он знал, что Япония будет воевать английскими пушками и американскими долларами. Битвы один на один с Японией он не страшился. В войне сразу с тремя могущественными странами, утверждал Витте, России несдобровать.
Победоносная маленькая война, одинаково нужная для царского престижа, и для царского кармана, и для отвлечения народа от смуты, может кончиться очень плохо. Витте уговаривал царя подождать с войной, доказывал, что она обойдется в миллиард рублей золотом и будет стоить десятки тысяч жертв, а исход ее может быть плачевным. Приятель Витте – военный министр Куропаткин указывал, что нельзя снимать войска с Вислы, потому что хотя молодой германский император друг и родственник императора русского, но при удобном случае не преминет всадить нож в русскую спину.
Николай мрачно молчал, слушая шепот, требования и уговоры племянников, Аликс, капиталистов, рассуждения Витте и предостережения Куропаткина. Какое ему дело до казенного миллиарда и десятков тысяч убитых? Война всегда требует денег и человеческих жертв. Война нужна! Император Вильгельм благородная личность и хотя возражает против завоевания Россией Константинополя, о чем Николай так мечтал, но нож в спину он, разумеется, не всадит. Напротив, император Вильгельм, одобряя его планы насчет Кореи, сдержит Англию и воздействует на Америку. Что бы там ни говорил Витте, этот слишком возомнивший о себе министр, но войне быть! Как только окончится постройка Сибирской дороги, можно, благословясь, начинать…
Витте упорствовал, юлил и извивался и, наконец, вывел из себя Николая. Нужна была еще одна капля, чтобы недовольство вылилось в гнев.
Витте сломал себе голову на семидесяти пяти рублях, срезанных в пику Победоносцеву из сметы на саровские расходы. Капля пролилась, и чаша государева гнева переполнилась. Плеве торжествовал: государь сказал ему по секрету, что после возвращения из Сарова он прогонит Витте.
Мстя Витте, Николай (предварительно сильно покряхтев) прибавил к ста двадцати пяти тысячам, отпущенным казначейством на торжества в Сарове, триста тысяч рублей из собственного кармана. Подбавила из личных денег Аликс. Сколько вкатили в всечестные мощи Серафима охрана петербургская, московская, нижегородская и тамбовская, губернаторы, предводители дворянства и «князья церкви», – о том никто не ведал. Какой-то досужий журналист подсчитал, что каждая кость святого Серафима обошлась русскому народу в сто тысяч рублей.
3
Как бы не так, дело было сделано, и государь начертал на деяниях Святейшего синода о причислении старца Серафима к лику святых: «Прочим с чувством истинной радости и глубокого умиления», – приумножив этим опусом собрание своих литературных произведений. Отметим кстати, что Николай был не только самодержцем, но мнил себя великим оратором и литератором.
Его речи и сочинения распубликовывались во всех газетах, как отечественных, так и зарубежных, и вызывали волну разнородных чувств… Мнения, правда, делились. Иные читали сочинения и слушали речи Николая с восторгом, другие с гневом и ненавистью.
Николай в своей литературно-ораторской деятельности достиг вершин лаконичности, законченности и отшлифовки мысли. Самая длинная речь, произнесенная им, заключала в себе не более ста слов, самое выдающееся сочинение – не более пятидесяти. Он не любил вдаваться в описания природы или психологических тонкостей.
«Ай да молодец!», «Скверное дело!», «Вот так так!», «Надеюсь, повешены?» – вот лучшие образцы литературного труда августейшего сочинителя.
«Надеюсь, что союз, установившийся между мной и корпусом жандармов, будет крепнуть с каждым годом!» – такова была речь коронованного Демосфена на приеме истинно русских шпионов, палачей и провокаторов. «Передайте вашим товарищам мою благодарность; объединяйтесь и старайтесь!» – пробормотал он представителям петербургских извозчиков в ответ на их адрес. «Царское спасибо молодцам-фанагорийцам!» – громогласно, под звуки гимна сказал он, обращаясь к усмирителям и подавителям ярославских забастовщиков.
Произнес он речь и прибыв в Саров:
– От имени государынь императриц и от своего сердечно благодарю вас за гостеприимный и радушный прием. Я пью за процветание тамбовского дворянства, за ваше здоровье, господа!
Помимо двух тысяч тамбовских помещиков, собранных в Саров губернским предводителем дворянства князем Чолокаевым, на торжества прибыло более ста пятидесяти тысяч мужиков. За их процветание государь не пил, с ними он не обедал. Как писали газеты, он лишь «изволил милостиво поговорить» с мужиками, выстроенными в два ряда на пути следования царской семьи.
Среди пяти тысяч пейзан, стоявших двойной шеренгой от железнодорожной платформы до монастыря, две тысячи были одетые под мужиков чины полиции и охраны, вызванные из Питера, Москвы, Варшавы, Саратова и Нижнего. Остальные три тысячи были действительно завербованные мужики – преимущественно окрестные кулаки.
Царь, трубили газеты, едет в Саров молиться богу и просить угодника Серафима о ниспослании ему наследника… Государь совершает богомолье вместе со своим любимым и его беззаветно любящим народом… Повторяются добрые старые времена добрых старых русских царей. Поездка еще крепче сплотит воедино самодержавие, православие, народность…
Газеты не писали, что несколько войсковых корпусов охраняли «единение» государя с народом на протяжении всего пути царского поезда от Петербурга до Сарова. В пригородах Москвы, мимо которых мчался поезд их величеств, запечатали чердаки и чердачные окна, а к каждым воротам и калиткам поставили городовых. Перед самой поездкой фон Плеве, в неусыпных заботах об умилительном единстве государя и его народа, приказал выслать из Москвы, Арзамаса и прочих городов двадцать две тысячи подозрительных личностей.
Вдобавок к пяти тысячам кулаков и переодетых полицейских, приветствовавших и охранявших царя по дороге от платформы до монастыря, Плеве поставил тройную цепь войск. Но и этого показалось мало. Хотя кулаки и их бабы были просеяны через три полицейских сита, Плеве приказал каждой деревне, откуда они вербовались, присвоить свой цвет рубах: одной деревне синий, другой – красный, третьей – синий с красным.
– Ежели среди пейзан, паче чаяния, будет обнаружен крамольник, – поучал Плеве охранку, – по цвету рубахи вы тотчас установите адрес злоумышленника, и ему не уйти от вас.
Дни стояли погожие, царю, его своенравной матушке и не менее своенравной жене все нравилось. Криками «ура» их встречали богато одетые верноподданные: дворяне в расшитых золотом мундирах и при шпагах; чиновники и духовенство (попов в Саров согнали с трех губерний, а митрополитов, архиепископов и епископов со всех концов Руси-матушки), колокола звонили, монастырь выглядел нарядно.
Больше всех старался тамбовский губернатор фон дер Лауниц, истинно русский сын православной церкви, владелец четырех поместий, человек еще молодой и бравый, обладавший не по летам слишком просторным туловищем, сидящим на коротких и кривых ногах. Впрочем, что внешность? Суета! Зато он имел надежный аттестат вешателя и усмирителя, что государь ценил в нем превыше прочих качеств.
Лауниц ежедневно докладывал обожаемому монарху о восторженных чувствах мужиков, собравшихся в Сарове, и о небывалом счастье, которое они испытывают, лицезря царя. Не желая докучать государю, губернатор умалчивал о том, что сто сорок семь тысяч из ста пятидесяти тысяч, прибывших в Саров, живут под открытым небом, что единственная санитарная команда, каким-то чудом оказавшаяся в Сарове, каждый день обнаруживала среди богомольцев тифозных или заболевших оспой, что для народа не открыли столовых и люди выпрашивали куски хлеба у полицейских и солдат, а воду пили из стоячих прудов и гнилых болот.
Николай всего этого не знал и сиял радостью: праздник получился ослепительный, свита выглядела словно ряд начищенных самоваров, пейзане подносили хлеб-соль, попы на каждом шагу возглашали многолетие, трапеза везде преотличная, для выпивки предлогов множество: «За вас, верные мои дворяне!», «За вас, ваше преосвященство!», «За вас, господин губернатор!», «За вас, господа!» – и так с утра до ночи, в тиши собственных покоев, на приемах, в монастырских трапезных, на обедах у митрополитов, у земских начальников, у волостных старшин, за завтраком и ужином, а иной раз и в тесном кружке своих людей из свиты – с вечера и до рассвета.
Впереди Николаю и его жене предстояли еще более приятные развлечения: прогулки по живописным окрестностям, неизменное «ура» на всем пути туда и обратно, счастливые, сытые физиономии верноподданных мироедов, поездка с государыней к источнику святого Серафима, извлечение и перенесение мощей угодника в собор и чудеса, кои должны последовать вслед за прославлением.
Фон дер Лауниц и настоятель Саровского монастыря особенно налегали на эту часть программы: исцеление и прочие чудеса святого ставили на широкую ногу. Проверенный, заранее отобранный, тщательно просеянный контингент подлежащих исцелению был налицо. Особо доверенные лица имели беседу с каждым, за кого старец Серафим в своей неизреченной кротости должен вознести молитву ко господу и преподать свою милость. Задаток в счет будущего полного расчета каждому, на которого должно было снизойти чудо, был выдан.
4
После перенесения гроба с костями и волосами Серафима в Успенский собор из церкви Зосимы и Савватия, где они лежали семьдесят лет, отстояв в неимоверной духоте пятичасовую всенощную, Николай и Аликс ушли в отведенные им покои.
Николай устал. Тяжеленный гроб, куда были переложены кости Серафима, он тащил на своих плечах три версты. Правда, эту печальную необходимость с ним делили губернаторы и великие князья, но все же царские плечи ныли и ноги отказывались служить. Он потел, спотыкался и едва добрался до собора.
Вернувшись домой, Аликс с загадочным видом удалилась на свою половину, а Николай пригласил двоюродного дядю великого князя Петра Николаевича выпить перед отходом ко сну по рюмке коньяку.
Николая ждали бумаги, присланные с курьером из Петербурга. Почти все они были из министерства внутренних дел и касались забастовок, распространяющихся все шире и охвативших весь юг.
Министр всеподданнейше докладывал о неудаче миссии генерала-вешателя фон Валя, о беспорядках, принимающих грозный характер, и требовал войск.
Покусывая ус, царь читал некоторые места из донесений вслух. Дядя сочувственно покачивал головой.
– Бездельники! – гневно сказал Николай, швырнув бумаги на стол. – Довели Россию черт знает до чего! Прости, я сейчас разделаюсь с этим.
Он присел и начал писать на бумагах распоряжения военному министерству о срочной высылке войск в южные города, где положение становилось особенно угрожающим.
Надписи были краткими и энергичными: «Стрелять в этих каналий», или: «Зачинщиков, изловив, – в Сибирь», «Расправиться с бунтовщиками без всякой пощады». Отдав бумаги дежурному генералу, Николай удалился в спальню, снял китель и рубашку, протер вспотевшие грудь и шею одеколоном, переменил белье. Вернувшись в кабинет, он достал коньяк, наполнил рюмки, зевнул, выпил. Выпил и дядя. Потом помолчали, покурили, снова выпили и снова помолчали. Царь хотел пооткровенничать с Петром Николаевичем о том, как ему надоели попы и пейзане, но лень было ворочать языком. Он зевал. Выпили еще по одной, снова закурили; и вдруг государь почувствовал себя бодрым, спать уже не хотелось, зевки прекратились. Еще одна рюмка – и захотелось поговорить о том, о сем, узнать новости, сплетни…
Жердеобразный Петр Николаевич, с желтой, испитой физиономией и шныряющими глазками, сказал:
– Ники, сегодня я познакомился с весьма любопытным человеком.
– Гм! – сказал Николай.
– С губернатором саратовским Петром Аркадьевичем Столыпиным.
– Древняя дворянская фамилия, – заметил Николай, внимательно исследуя ногти. – Читал в гербовнике. Преданные престолу люди, очень талантливый род.
– Совершенно верно, – подтвердил Петр Николаевич.
– Знаю Столыпина – дельный человек, – философически заключил Николай и как бы в подтверждение этой мысли весьма искусно выпустил изо рта дым кольцами почти равного размера.
Петр Николаевич подивился искусству племянника, попробовал сделать такие же кольца, но не удалось и предпочел продолжить разговор:
– Мысли Столыпина, он их изложил мне вкратце, касаются неустройства крестьян. Оч-чень оригинально, Ники. Мне кажется, тебе стоило бы послушать его. – Он выпил еще коньяку, пососал ломтик лимона и выпил подряд еще две рюмки.
– Гм! – выдавил Николай.
– Поверь, Ники, я не стал бы навязывать тебе какого-нибудь прожектера или нудную личность. Тебе и без того надоели все эти дурно воспитанные попы и митрополиты с их постными мордами… Советую выслушать Петра Аркадьевича.
– Не поздно ли? – лениво промямлил Николай: перспектива серьезного разговора после пятичасовой всенощной не привлекала его.
– Никогда не поздно принять разумного, истинно русского и преданного престолу человека, Ники! – наставительно произнес дядя. – Напротив, мы часто раскаиваемся, не выслушав такого человека или выслушав его слишком поздно.
Николай за последние дни не видел ни одного человека с оригинальными мыслями. Все тупицы, болтают благоглупости. Гм! Умный человек?! Значит, не только Витте обладает сильным умом, есть и другие? Что ж, можно пригласить Столыпина… А надоест – имеется много приемов, чтобы указать на дверь.
Оказалось, что Столыпин ждал великого князя в его покоях. Послали камер-лакея и через пять минут царю доложили, что Столыпин ожидает в приемной. Николай поспешно поднялся с кресла, застегнул китель, убрал коньяк и рюмки.
5
В гостиную вошел человек исполинского роста. Лицо его было умное, глаза пристальные и немигающие, как у совы, густая черная борода спадала на могучую грудь, кончики усов грозно смотрели вверх. Он производил отталкивающее впечатление. Что-то грубое и жестокое было в его чертах, в усмешке и привычке гипнотизировать собеседника взглядом. Но повадки были исполнены достоинства и сознания собственного превосходства, речь приятной, почтительность к царю не переходила границ хорошего тона. Он не пресмыкался и не льстил, но и ни на одну минуту не забывал, с кем говорит.
После рукопожатий и неизбежно банальных фраз о здоровье его величества, их величеств государынь, о погоде и торжествах Николай, зачарованный взглядом Петра Аркадьевича, а потому кося глаза вбок, сказал:
– Его высочество великий князь сообщил мне, что вы имеете какие-то оригинальные мысли по поводу неустройства наших добрых крестьян. – Он знаком пригласил Столыпина сесть в кресло напротив.
– Государь, – с легчайшим и изящнейшим полупоклоном в сторону царя отвечал Столыпин, – я имею смелость возразить вам. К нашему сожалению, к великому нашему несчастью, эти добрые крестьяне, увы, не такие уж добряки.
Николай всем своим видом изобразил удивление и непонимание.
– Но, простите, Петр Аркадьевич… Ликование народа, радость на лицах, приветствия… Вся эта нарядная и веселая толпа…
Столыпин издал фыркающий звук.
– Опять же возьму на себя смелость, – выговорил он с едва заметной снисходительностью, – заявить вам, государь. Если бы устройство торжеств было поручено мне, радостных лиц и восклицаний в вашу честь было бы во сто крат больше.
Николай недовольно кашлянул: «Гм!.. Кажется, он намекает, что радости и восторги не что иное, как спектакль».
Но Столыпин поспешно отвел еретическую мысль царя.
– Государь, в этих чувствах умиления и радости при виде царя, воскресившего обычаи царей древних, ничего нарочитого нет… Но чувство умиления преходяще. Оно легко возникает при лицезрении государя, но так же легко гаснет. К нашему несчастью, сейчас в народе преобладает не чувство умиления, а чувство гнева. Гнев народный пока дремлет, но и он то и дело прорывается наружу и дает Разиных и Пугачевых. Этого я никогда не забываю. Этого никому не следует забывать.
Петр Николаевич, до сих пор мирно сопевший в своем уголке, встал, объявил, что у него отчаянно разболелась голова, и попросил племянника отпустить его.
Николай простился с дядей и снова сел. Неожиданно слова Столыпина, убежденность и прямота, но убежденность и прямота почему-то приятные (может быть, по контрасту с заносчивым и потерявшим всякую меру Витте), произвели впечатление.
– Гнев? – переспросил он. – Гм! О каком гневе может идти речь, если народ, я видел это сам, так восторженно един с нами в наших помыслах и молитвах?
Столыпин понял из этой фразы, что царь вдобавок ко всему, что говорят о нем, притворщик и актер. Уж кто-кто, а он-то знает, что такое гнев народа. Гнев народный разнес в куски его деда. Его отец прятался от народа в Гатчине, сам он прячется за охраной. «Лицемер, – подумал Столыпин. – Ладно, будем играть».
– Государь, – сказал он проникновенно, – вы назначили меня губернатором саратовским, где большинство населения крестьяне. Мой личный опыт при подавлении мужицких волнений внушает мне, не скрою, тревогу. Я беру на себя дерзость предупредить вас, ваше величество, – надвигается ураган, и дай бог нам силу, чтобы подавить его. Этот ураган уже не будет слепым. Времена стихийных бунтов безвозвратно миновали. Стараниями нескольких поколений революционеров и рядом привходящих обстоятельств глаза народа открыты. Я скажу вам всю правду. В тайниках своих душ крестьянство считает виновником всех его несчастий, бедности и невежества вас, ваше величество.
Николай во время всей этой длинной тирады не шелохнулся. Удавьи глаза гипнотизировали его. Дерзкая, холодная речь заставляла его трепетать. Никто еще не говорил с ним так.
– Продолжайте! – Он нервно смял и выбросил папиросу. – Прошу вас.
– Я уверен, государь, – бесстрастно заговорил Столыпин, – что с надвигающимся революционным ураганом, который разразится через считанные месяцы…
– Месяцы? – воскликнул Николай, этого он, конечно, не предполагал. – Месяцы?..
– Может быть, через год, что не суть важно, – поправился Столыпин. – Повторяю, государь, с этим ураганом мы справимся, если не допустить распространения его на армию. Вашей священной обязанностью, главнейшей заботой должно быть – не допустить измены мужиков, одетых в шинели.
Николай нахохлился. Лицо его, и без того серое, приняло землистый оттенок. «Боже мой, почему же никто из этих негодяев не предупреждает меня о смертельной опасности? Спасать от революции армию! Стало быть, все прочие слои спасти уже невозможно?»
– Государь, – продолжал Столыпин, словно читая мысли царя, – силы революционеров еще не настолько могучи, чтобы сплотить воедино все классы и сословия нашего общества, бунтующих раз от разу мужиков и вечно бунтующих рабочих. У них нет еще популярных и закаленных в огне восстаний вожаков и еще нет такой партии, которая бы могла стать сразу и во главе интеллигенции, и во главе мужиков и рабочих. Партии только формируются. Сила стихий захлестнет их, они не смогут пойти впереди всеобщего восстания. А оно неминуемо, как я уже имел честь доложить вам. Дело только в сроке, только в часе. В том грозном часе, который готовит нам история.
Глаза Столыпина горели холодным пламенем. Лицо его было мертвенно бледным. На лбу выступили капельки пота. Сейчас он не лицемерил – он играл ва-банк.
– В настоящее время, – продолжал он, преодолевая тошноту и слабость, потому что знал, как опасно говорить правду сильным мира сего, – охрана и соприкосновенные с нею органы заняты исключительно борьбой с террористической партией социалистов-революционеров. Кроме того, охрана силится подавить возмущение в буржуазно-либеральных кругах. Что касается последних, то смею напомнить вам, государь, слова одного француза, сказавшего, что как только либерал становится министром, он перестает быть либералом.
Николай коротко и невесело посмеялся.
– Но террор не так уж страшен государству, ваше величество, где аппарат охраны и подавления достаточно крепок. Когда придет время и подходящие обстоятельства, мы раздавим революционный террор террором массовым. Это сильное средство, но единственно возможное. Господин министр внутренних дел фон Плеве прав в одном: русский человек смиряется лишь при виде виселицы. Кроме того, – Столыпин жестко усмехнулся, – есть еще много способов борьбы с этой разношерстной по идеям террористической организацией.
– Я слушаю, слушаю вас, – подбодрил его Николай.
Столыпин пропустил мимо ушей царское поощрение, ибо сегодня царь кричит «браво», а завтра дает пинка.
– Но несравненно сложнее, государь, борьба с теми, кто отрицает террор. Люди, отрицающие индивидуальный террор, объединены в Российской социал-демократической партии. Все последние события на Кавказе, на юге и во многих иных местах – дело этой партии, государь. Метод ее – возбуждение громадных масс, главным образом рабочих. Но кто таковы наши рабочие, как не вчерашние мужики? Циркулируя в массе крестьянства, рабочие несут в села идеи социал-демократов, идеи во сто крат страшнейшие, нежели убийства, чинимые террористами. Государь, нет такого более или менее крупного города, где бы не существовал комитет этой партии, тайная типография, кружки и агенты-конспираторы. Но и эта партия пока еще только в зародыше. Представьте, что будет, когда она распространится по России, подобно лаве, извергнутой вулканом?
Николая передернуло: «Этот губернатор знает больше меня. Кругом только лесть и обман. А между тем вокруг творится черт знает что!.. Мне не раз говорили о социал-демократах, но как-то по-рыбьи, вяло и невразумительно. Надо принять меры. Самые строжайшие!»
Помолчав и подумав, Николай заметил уклончиво:
– Все это может быть и так, но к чему вы, собственно, ведете, я не уяснил. Нас не страшат эти партии.