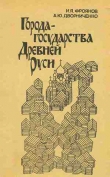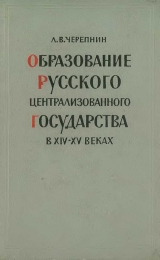
Текст книги "Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси"
Автор книги: Лев Черепнин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 73 (всего у книги 77 страниц)
Итак, «Житие» Евфросина помогает раскрытию классовой сущности псковской церковной реформы 1468 г. В какие же формы она вылилась? Во-первых, была сделана выписка из Кормчей книги (Номоканона), которая должна была служить уставом при решении вопросов в области церковного суда и управления. Утвержденная на собрании духовенства пяти псковских соборов грамота с текстом, взятым из Кормчей книги, была водворена на хранение в государственный архив (в «ларь»). Во-вторых, из среды духовенства были выбраны и утверждены на вече в качестве правителей церковными делами два попа: Андрей Коза и Харитон. Последний, правда, недолго занимал предоставленный ему пост и скоро сбежал в Новгород к архиепископу [2442]2442
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 165–166.
[Закрыть].
Имевшая целью укрепление позиций господствующей церкви, реформа 1468 г. отличалась охранительным характером. В то же время ей присущи и некоторые прогрессивные черты. Во-первых, известный демократический оттенок имела форма ее проведения: новые церковные порядки были приняты на вече с участием мирян, зафиксированы в «мирудокончанной грамоте». Во-вторых, и система церковного управления после 1468 г. стала более демократичной: судебные и административные функции по церковным делам сосредоточились в руках городского духовенства. Наличие демократических моментов в мероприятиях по реорганизации в 1468 г. церковного управления в Пскове (при ее общей консервативно-охранительной направленности) объясняется, очевидно, довольно значительной ролью, принадлежавшей городскому населению в обсуждении религиозных вопросов. Это наложило свой отпечаток и на ход реформы и на ее результаты.
Приехавший в Псков новгородский архиепископ Иона прежде всего признал незаконной утвержденную на вече грамоту, потребовал от посадников и духовенства ее уничтожения и отмены введенных на вече новых порядков. Архиепископ настаивал на том, что ему должна принадлежать полнота церковной власти в Пскове: «…А яз тоа сам хочю соудити здесь, а вы бы есте тоую выняли грамотоу подрали». Однако посадники и священники настаивали на целесообразности сохранения принятых ими нововведений. Иона обещал перенести этот вопрос на рассмотрение митрополита. Летопись приписывает новгородскому архиепископу следующие слова: «…и сам, сынове, отвасслышю, чтосиа вещь велика силно, и христианствоу развратно, а божиим церквам, мятно, а иноверным радостно, христиан видяще в таковеи живооуще слабости, и от них оукорен за небрежение наше» [2443]2443
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 166–167.
[Закрыть]. Видно, что, хотя архиепископ стремился к удержанию в Пскове власти в своих руках, падение авторитета церкви, как феодальной организации, как политического института, как идеологической силы, вызвало у него тревогу.
В октябре 1469 г. в Псков прибыли из Москвы посланцы от Ивана III и митрополита Филиппа. В митрополичьей грамоте указывалось, что должна быть восстановлена власть новгородского архиепископа над псковской церковью, «зане же тое дело искони предано святителю оуправляти…» [2444]2444
Там же, стр. 168.
[Закрыть]Великий князь и митрополит боялись предоставления церковной автономии Пскову, ибо это могло бы повести и к усилению политической самостоятельности Псковской республики. Псковские же бояре и духовенство не желали ссориться с московскими властями. Поэтому злополучная грамота с выписками из Номоканона в начале 1470 г. была извлечена из «ларя» и публично уничтожена на вече.
В 1470 г. в Новгород было отправлено из Пскова посольство из бояр во главе с посадником Яковом Ивановичем Кротовым для того, чтобы сообщить архиепископу о решении церковного вопроса («тех на владыце святительскых покладати вещей»), а также договориться по ряду спорных дел (о захваченных в Новгороде и посаженных в поруб псковских гостях и «людях» псковского посла и т. д.). Из Новгорода посольство, возглавленное Я. И. Кротовым, должно было поехать в Москву. О результатах поездки Я. И. Кротова и других бояр в Новгород и Москву летопись сообщает очень глухо, но видно, что не все спорные между новгородцами и псковичами вопросы были урегулированы. Псковских гостей новгородское правительство выдало только «головами», а их товары, очевидно, были задержаны в Новгороде.
Между тем новгородский архиепископ Иона, воспользовавшись решением митрополита об уничтожении грамоты 1468 г., стеснявшей его власть в Пскове, стал допускать беззакония в области церковного управления. Иону обвиняли в симонии. Он за «мзду» давал грамоты на право производства церковной службы вдовым священникам и дьяконам. Псковский летописец – современник говорит, что архиепископ поступал так «по своемоу обычаю злому, неуздержянномоу нравоу, сребролюбиа ради…» [2445]2445
Там же, стр. 170.
[Закрыть]В Пскове нарастало недовольство действиями новгородского архиепископа, а значит, росла оппозиция новгородскому боярскому правительству. Она шла, по-видимому, из среды посадских людей, но захватывала и псковских бояр.
* * *
Тем временем подготавливалась московско-новгородская война. В декабре 1470 г. в Псков приехал великокняжеский боярин «поднимати псковичь на Великои Новъгород». Начиная наступление на Новгородскую республику, московское правительство желало обеспечить себе поддержку псковского населения. Идеологически предполагаемый поход на Новгородскую землю московская великокняжеская власть обосновывала как начало борьбы за восстановление «старины» в отношениях между Москвой и Новгородом. «Старина» же эта усматривалась в признании Новгородской земли великокняжеской «вотчиной». Псковичам московский посол предложил на вече от имени великого князя оказать ему помощь в укреплении его политической власти в Новгородской земле.
Псковское правительство действовало осмотрительно и осторожно. Оно отправило послов в Новгород с предложением своего посредничества в московско-новгородских отношениях. В этих целях псковичи просили предоставить им «путь» через Новгородскую землю в Москву.
Новгородские власти отказались от псковского посредничества в урегулировании мирным путем своих взаимоотношений с московским великим князем, потребовав от псковичей военной помощи против Москвы: «а вы бы есте за нас против великого князя на конь оуссегли по своемоу с нами миродокончанью…» [2446]2446
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 173.
[Закрыть]На псковском вече, где выступал новгородский посол, выявилось враждебное отношение части псковского населения (бояр, купцов) к Новгороду. Пострадавшие в свое время псковские гонцы («обиднии люди»), в течение полугода просидевшие в Новгороде в заключении («в порубах приобижени», «измоучени в железах от биричов»), лишившиеся товаров и денег, заставили людей, сопровождавших новгородского посла, возместить им «серебром» их убытки. По главному вопросу – о военной поддержке Псковом Новгорода в случае его войны с Москвой – новгородскому послу был дан весьма уклончивый ответ: «как вам князь великои отслет взметноую грамотоу, тогда нам явите, а мы о том отгадав вам отвечаем». В то же время псковское правительство обещало верность Ивану III («а по князе великом няптася псковичи на Великои Новгород послоу князя великого») [2447]2447
Там же, стр. 174.
[Закрыть].
Внешнеполитическая обстановка для Псковской земли в рассматриваемое время была неблагоприятной. В 1469 г. на Псковскую землю напали шведы. В 1470 г. псковские послы вместе с польским королем и великим князем литовским Казимиром IV разбирали в Полоцке пограничные конфликты (споры «о земли и воде, о пороубежных местех и о обидных делех»), причем король «оуправы не оучинил никакове обидным делом…» В том же году состоялся съезд литовских и псковских послов в Березничах, также не приведший ни к каким результатам. В марте 1471 г. в Псков приезжал посол рижского магистра, предъявивший претензии на часть псковской территории [2448]2448
Там же, стр. 169, 171–172, 174–175.
[Закрыть]. Тогда же псковские послы ездили в Вильно, но опять не смогли там добиться от Казимира IV урегулирования порубежных недоразумений.
Находясь в таких сложных внешнеполитических условиях, Псковская республика, естественно, стремилась к сохранению союза с московской великокняжеской властью.
Напряженной была и внутренняя обстановка в Пскове. Обострился земельный вопрос. В 1470 г. сгорела церковь в псковской волости Усистве. Вместо нее стали строить две другие церкви. И тут, по словам летописца, началась «крамола». Произошла она от «невежь и от простых», т. е. от рядовых масс псковского населения: горожан, а может быть, и окрестных сельских жителей. Они предъявили права на землю, принадлежавшую старой (сгоревшей) церкви (стали «бестоудством и злобою отнимати даное богови в наследье тъи божии церкви»). Но в действия «препростой чади» вмешались посадники, выделившие на вече приставов, которые должны были судебным порядком оспаривать у монастыря его владения. Каков социальный смысл того, что произошло в Усистве? В борьбе за церковную земельную собственность можно, по-видимому, заметить две линии. Во-первых, выступают черные люди, живущие на государственной земле, часть которой отошла к церкви, а они хотят ее вернуть. Летописец чрезвычайно неблагожелательно относится к тем, кто посягает на церковные имения. Это – «невегласи, злии человеци, мздоиматели», «ни храмов устрашающеся божиих, мятоущи святыми божии церквами» [2449]2449
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 175–176.
[Закрыть]. Но движением «препростой чади» стараются овладеть представители господствующего класса, посадники. Им важно, во-первых, ввести это движение в легальное русло, повести разбор дела о церковной земле судебным порядком. Во-вторых, посадники, вероятно, стремятся предупредить самовольный раздел земли черными людьми, хотят сохранить ее как землю государственную, черную, тяглую.
Еще одна «крамола», описанная летописцем, произошла в связи с тем, что «другии человеци», «отрекшеся мира и яже в мире» (т. е. как монахи, так и миряне), «начаша воздвизатися и препростую чядь възднимати по миру на самую соборноую апостольскоую церковь, на дом святыя Троица, истязуя от нея воды и земля, даноя в наследье божиа в дом святыа Троица…»По всей видимости, старцы какого-то монастыря и связанные с ними светские лица стали подговаривать рядовых черных людей помочь им овладеть землей, принадлежавшей Троицкому собору. В данном случае, по-моему, самое интересное – это то, что черные люди, «мир», начинают рассматривать себя в качестве распорядителей земельных фондов. Чтобы получить землю, принадлежавшую Троицкому собору (речь идет о земельном участке, переданном ему дедом боярина Матуты Дионисиевича – старым посадником Нежатой), монахи обращаются к содействию «мира», «мир облеская лживыми словесы». И роль «мира» является решающей: вече выносит приговор о передаче земельного вклада Нежаты из Троицкого собора в монастырь, не названный летописцем по имени.
Летописец помещает в связи с рассказом о двух изложенных им случаях «крамолы» по земельным делам длинное витиеватое рассуждение, в котором обличает «обидевшаа святыя церкви» [2450]2450
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 176–177.
[Закрыть]. Обличение это вызвано обострением в рассматриваемое время в Псковской земле борьбы за землю между светскими и духовными феодалами, а главное – антифеодальными движениями, одним из видов которых были захваты церковных владений черными людьми. В обстановке внутренних социальных противоречий, так же как и внешнеполитических осложнений, господствующий класс Псковской земли нуждался в поддержке московской великокняжеской власти.
В середине июня 1471 г. в Псков прибыл из Москвы великокняжеский дьяк с приказанием псковскому правительству объявить войну Новгороду («положити розметнии грамоти»). Псковичи отправили в Новгород с «разметными грамотами» подвойского, а великокняжескому дьяку обещали выступить в поход в Новгородскую землю тотчас вслед за выступлением московских войск. В конце июня в Псков приехал московский боярин Василий Зиновьев, назначенный воеводой над псковским войском, которое должно было быть послано в Новгородскую землю. 10 июля псковская рать вышла в поход, а 12 июля начала войну в пределах Новгородских волостей. Псковские военные силы действовали на новгородской территории до середины августа. После заключения московско-новгородского Коростынского докончания, псковская рать 15 августа 1471 г. вернулась домой.
В декабре 1471 г. в Пскове побывали послы из Великого Новгорода и подтвердили мирное докончание. В связи с этим летопись сообщает, что псковские посадник и бояре «тогды же и лняноую грамотоу подраша, вынемше из ларя; и бысть всем християном радость велие, с 8 бо год она была в лари, да много Христианом истомы и оубытков в тоя времяна было» [2451]2451
Там же, стр. 186.
[Закрыть]. Не совсем ясно, какая же грамота была уничтожена? Летописное известие о «льняной грамоте» можно понимать двояко: или в смысле определения материала, на котором написан текст, или же в смысле указания на содержание текста. Вернее последнее, так как в русских источниках XV в. обычно отсутствуют специальные упоминания о льняной бумаге. Содержание упомянутой грамоты могло быть посвящено определению повинностей крестьян по поставке землевладельцам или государству льна или изделий из него. Но возможно, что речь в грамоте шла об условиях вывоза льна из Псковской области (обложение пошлинами и т. д.). Я думаю, что правильнее будет принять второе предположение, так как известие об уничтожении льняной грамоты помещено в летописи в связи с рассказом о заключении мира между Псковом и Новгородом, а политические осложнения между ними были связаны и с затруднениями в развитии торговых отношений. Итак, ликвидация льняной грамоты означала облегчение условий вывоза товаров из Псковской земли. Значит, новгородско-псковское мирное соглашение 1471 г. должно было благоприятно отразиться на дальнейшем экономическом развитии северо-западных русских земель.
После победы, одержанной московскими войсками над новгородскими в 1471 г., и стеснения самостоятельности Новгородской республики московское правительство делает постепенно шаги к ущемлению политических прав Пскова. Князь Ф. Ю. Шуйский, очевидно, не без ведома Ивана III, которого он ставил в известность о своих поступках, начал действовать авторитарно, не считаясь с псковскими порядками («…нача на Псков к великомоу князю засилати грамоти, а сам надо Псковом творячи силно…»).
В начале 1472 г. из Пскова в Москву отправились послы договариваться с великим князем «о своих старинах». Летопись довольно четко определяет позицию, занятую в это время в отношении Псковской республики Иваном III. Он признавал за Псковом право присылать в Москву на утверждение своих кандидатов в псковские наместники, но требовал от населения подчинения власти назначенного наместника, который, с его точки зрения, подлежал контролю лишь великого князя. «…Кои боудеть вам наместник от мене вам князь надобе, я вам не стою; а того бы есте не беществовали, котореи оу вас боудеть начнет творити силно, то яз ведаю, а вас свою вотчиноу жалоую».
Недовольные поведением Ф. Ю. Шуйского, псковские послы просили Ивана III прислать в качестве наместника в Псков князя И. В. Стригу-Оболенского. Но, предоставляя в принципе Пскову право выдвигать кандидатов в наместники, Иван III практически и в этом вопросе решил проявить свою власть. Он отказался назначить псковским наместником И. В. Оболенского, заявив, что он ему «здесе оу себе надобе». Под тем же предлогом отклонил он и кандидатуру в псковские наместники князя И. В. Бабича. Лишь третий кандидат в наместники, выдвинутый от имени Псковской республики, князь Я. В. Оболенский, получил утверждение Ивана III.
Соблюдая полную лояльность в отношении московской великокняжеской власти, псковское правительство устроило торжественные проводы Ф. Ю. Шуйскому, покинувшему псковское наместничество. Его провожали до рубежа посадник, дети боярские, сотские, подвойские. Но Ф. Ю. Шуйский, по словам летописи, «забыв добра псковского и хрестьного целованиа», переехав границу Псковской земли, ограбил посадника, сотских, подвойских, отнял у них коней и отпустил их к Пскову «мало не нагих» [2452]2452
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 186–188.
[Закрыть]. Московский наместник, чувствуя за собой поддержку великого князя, демонстрировал свою силу и безнаказанность. Однако утверждение в Пскове на своем посту в феврале 1473 г. нового наместника – Я. В. Оболенского произошло в традиционных формах взаимоотношений Псковской республики с князьями. Посадники, духовенство и «всь Псков», т. е. собравшиеся на вече горожане, «посадиша» Я. В. Оболенского «на княжении» в Троицком соборе. Я. В. Оболенский со своей стороны «крест поцелова на вече к Псковоу на соуду и на пошлинных грамотах и на всех старинах псковскых» [2453]2453
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 192.
[Закрыть].
Формально московское правительство признавало самостоятельность Псковской республики, в государственном аппарате которой великокняжескому наместнику отводилось законом определенное, весьма ограниченное место. Фактически же наместник в своей повседневной деятельности все более и более выходил из этих законных рамок. Великий князь его молчаливо поддерживал. А псковское правительство часто было лишено возможности протестовать, поскольку нуждалось в военной помощи Москвы для борьбы с внешней опасностью.
В это время у Псковской республики обострились отношения с Ливонским орденом. Намечавшийся на сентябрь 1472 г. съезд псковских и ливонских послов по урегулированию земельных и других споров был сорван по вине магистра. Летом 1473 г. съезд состоялся (на реке Нарове), но не привел ни к каким результатам. Псковское правительство стало готовиться к войне и обратилось за военной помощью к Ивану III. В конце 1473 г. в Псков прибыло московское войско во главе с князем Д. Д. Холмским. Это обстоятельство заставило ливонских рыцарей быть более уступчивыми. В начале 1474 г. были оформлены мирные соглашения Пскова с ливонским магистром и с Юрьевом [2454]2454
Там же, стр. 55–56, 193–199.
[Закрыть].
За поддержку вооруженными силами, полученную из Москвы, Пскову пришлось расплачиваться постепенной утратой своей самостоятельности. Правда, падение независимости Псковской республики растянулось на длительное время. Но в 1474 г. Иван III уже открыто заявил о своем желании пересмотреть те начала, на которых строились взаимоотношения московского правительства с Псковом. Великий князь стал особенно придирчиво относиться к ритуалу, согласно которому вели с ним сношения псковские власти. Он выразил «нелюбовь» и «гнев» «до своей вотчины до всего Пскова» в связи с тем, что к нему вместо псковских «больших послов» прибыл гонец. Он не принял одно псковское посольство и «спровадил» его «с подворья». Согласившись принять вторично отряженных к нему из Пскова послов, Иван III высказал им намерение ознакомиться с теми княжескими грамотами, в которых говорилось бы о привилегиях Псковской республики, с тем чтобы выяснить, каковы же в действительности были эти старинные привилегии. «Рад есми отчиноу свою оустроене держати, аже ми положите прежних князей великых грамоты послинныя». Ясно, что московское правительство задумало ревизию политического строя Пскова. С мая по ноябрь 1474 г. в Москве находился псковский наместник Я. В. Оболенский. Очевидно, при его участии московским правительством была разработана программа дальнейшего наступления на порядки Псковской республики [2455]2455
О событиях в Пскове в конце 70-х – 80-х годах XV в. см. мою статью в журн. «История СССР», 1958, № 3, стр. 145–171.
[Закрыть].
§ 5. Классовая борьба в Новгороде в 1471 г. и поход на Новгород московских войск
Вопрос о походе московских войск на Новгород в 1471 г. уже достаточно изучен советскими учеными. Поэтому я не буду останавливаться на нем подробно, а сосредоточу свое внимание главным образом на одном моменте: на расстановке классовых сил в Новгороде в это время и на влиянии происходившей там классовой борьбы на исход столкновения московских военных сил с новгородскими [2456]2456
О событиях в Новгороде в 1471 г. см. ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 449–450, 456, 465, 499–513; т. IV, ч. 1, вып. 3, стр. 609; т. V, стр. 275; т. VI, стр. 7–15, 191–194; т. XII, стр. 125–141; т. XVIII, стр. 224–233; т. XX стр. 280–296; т. XXIV, стр. 188–191; т. XXV, стр. 284–290; «Иоасафовская летопись», стр. 62–71; «Псковские летописи», вып. 2, стр. 54–55, 172–185; УЛС, стр. 88–89.
[Закрыть].
Обострение отношений между Новгородом и Московским княжеством намечалось с конца 60-х годов XV в. Большая повесть о походе Ивана III на Новгород в 1471 г., составленная в Москве и отражавшая интересы московской великокняжеской власти, намечает причины такого обострения. Новгородцы не уплачивали в великокняжескую казну пошлин и не исполняли других своих повинностей; они захватили земли, в свое время уступленные новгородским правительством великому князю; присылали от имени веча людей на двор великого князя на Городище и чинили «бесчестие» великокняжескому наместнику; незаконно арестовали на Городище от имени великого князя и подвергли пытке бывших там князей и их людей; нападали из пограничных Новгородских волостей на владения великого князя и его братьев и т. д.
Вопрос о новгородско-московских отношениях изучаемая повесть рассматривает односторонне. Она касается лишь тех нарушений старинных договорных отношений между Новгородом и великокняжеской властью, которые допускали новгородцы, и ничего не говорит о попытках стеснения независимости Новгородской республики московским правительством.
Окончательный разлад московско-новгородских отношений летописи связывают со смертью новгородского архиепископа Ионы и с приездом в Новгород из Литвы князя Михаила Олельковича. Иона умер 5 ноября 1470 г. Михаил Олелькович приехал в Новгород 8 ноября 1470 г. Летописи указывают, что Михаил Олелькович был прислан в Новгород по просьбе новгородцев польским королем и великим князем литовским Казимиром IV («ис королевы роукы новогородци испросен…») [2457]2457
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 172. К. В. Базилевич сомневается в достоверности этого известия и считает, что Михаил Олелькович был приглашен новгородцами независимо от Казимира ( К. В. Базилевич, Внешняя политика Русского централизованного государства, стр. 94). Однако доказательства Базилевича недостаточны.
[Закрыть].
Московские летописи (Львовская и другие) расценивают призыв новгородцами Михаила Олельковича как выражение их намерения выйти из подчинения московской великокняжеской власти и перейти в подданство к Литовскому государству («…не покаряющимся новугородцом великому князю и в воли его быти не хотящим»). Тайно от Ивана III из Новгорода было послано посольство к Казимиру IV, заключившее с ним договор. Признав своим князем Михаила, новгородцы согласились и на церковное подчинение Литве, решив утверждать своего архиепископа в Киеве [2458]2458
ПСРЛ, т. XX, стр. 282, 285.
[Закрыть]. Узнав о поведении новгородцев, московский великий князь и митрополит прислали в Новгород своих представителей уговорить их отказаться от таких намерений. Но это не привело к положительному результату. Тогда великий князь решил начать против Новгорода войну.
Симеоновская и другие летописи указывают, что обращению в Литву предшествовало посольство из Новгорода в Москву к великому князю с просьбой утвердить в качестве архиепископа на место умершего Ионы намеченного в Новгороде кандидата – Феофила. В своем разговоре с новгородскими послами Иван III применил к Новгороду термин «отчина моя». Это было воспринято в Новгороде как покушение на новгородскую независимость, что и побудило новгородцев разорвать мирные отношения с московским великим князем и послать послов (Панфила Селифонтова и Кирилла Иванова сына Макарьина) в Литву для переговоров с Казимиром IV. Переход под протекторат последнего был обусловлен сохранением политических порядков Новгородского государства. Это было подчеркнуто в обращении новгородских послов к королю: «волныи есмы люди, Великии Новгород».
В каких же кругах новгородского общества созрело и кем было принято решение о переходе под власть Литвы? Все летописи подчеркивают, что вопрос этот обсуждался и был принят на вече по инициативе новгородских бояр. Так, в Типографской летописи читаем: «и сняшяся посадници на вечь и новогородцькие бояре вечници и крамолници и соуровии человеци и вси новогородци и послаша к оканномоу ляху и латынину королю». «Крамольниками» и «вечниками» здесь названы бояре. Это они, следовательно, выдвигают проект о союзе с Литвой, но характерно, что проводят они этот проект через вече, его принимают (хотя бы формально) «вси новогородци». Следовательно, бояре не решаются действовать сепаратно, они хотят придать своему решению характер общенародного приговора. Правда, тут же Типографская летопись (в некотором противоречии с предшествующим изложением) заявляет, что боярский проект встретил (очевидно, на вече) и оппозицию: «земстии же людие того не хотяху…» [2459]2459
ПСРЛ, т. XXIV, стр. 188–189.
[Закрыть]
Более детально останавливаются на обсуждении в Новгороде проекта о союзе с Литвой летописи Симеоновская и другие. Прежде всего они указывают, что вопрос о переходе в подданство к Литовскому государству вызвал большие волнения в Новгороде. Разные социальные группы склонны были решать этот вопрос по-разному. «И так възмятеся весь град их, и въсколебашася яко пьяны», с укором пишет московский летописец, «овии же хотяху за великаго князя по старине к Москве, а друзии за короля к Литве». К заключению договора с Казимиром IV склонялась боярская партия во главе со вдовой посадника Исаака Борецкого Марфой и ее детьми. Часть боярства (старые посадники, тысяцкие, лучшие люди, житьи люди) настаивала на сохранении союза с великим князем Иваном III. Но самое интересное в летописном изложении – это указание не на расхождения между боярскими партиями, а на то, что активно действующей силой на вече выступал народ. Правда, летописец, сторонник московской великокняжеской власти, рассказывает об этом предвзято, тенденциозно. Он говорит, что «изменники» (т. е. сторонники партии Борецких) специально платили деньги черным людям за то, чтобы они поддерживали их предложения на вече: «…начаша наимовати худых мужиков вечников, на то за все готови суть по их обычаю». Подкупленная «чернь» якобы звонила на вече в колокола, кричала: «за короля хотим!» – и забрасывала камнями тех, кто поддерживал великого князя московского. Конечно, можно допустить, что в Новгороде были люди, оказавшиеся вне существовавших в это время социальных групп, лица без определенных занятий и лишенные средств к существованию. Они могли продавать свои голоса. Но попытка летописца представить дело так, что продажными были все те черные люди, которые стали на путь разрыва с великокняжеской властью, явно не заслуживает доверия. Очевидно, летописный рассказ об участии худых «мужиков вечников» в обсуждении проекта о приеме в Новгород независимого от Москвы князя надо понимать в том смысле, что среди части посадских новгородских людей этот проект нашел соответствующий отклик, и отстаивали они его с оружием в руках. Вечевые собрания превращались в острые классовые столкновения: «и велико неустроение бяше в них, и межи себе ратяхуся, сами на ся въстающе» [2460]2460
ПСРЛ, т. XVIII, стр. 225–226.
[Закрыть]. Конечно, не могло быть общности социальных интересов у бояр и черных людей. Одни защищали интересы феодальной аристократии, другие – утопическую идею вечевой демократии, охраняемой «добрым» князем.
В Софийской первой и других летописях содержатся подробные указания на планы Марфы Борецкой. Она якобы хотела выйти замуж за одного литовского пана, который стал бы в качестве королевского наместника во главе всей Новгородской земли. Сообщником Марфы Борецкой был владычный ключник Пимен, мечтавший о том, чтобы сделаться новгородским архиепископом по назначению из Киева. По словам летописца, Марфа Борецкая широко раздавала деньги народу, завоевывая этим популярность. «…И того ради многи людие на сонмище к ней схожахуся и многи послушаху прелестных и богоотметных словес ея…» [2461]2461
ПСРЛ, т. VI, стр. 5–6.
[Закрыть]Трудно сказать, сколь достоверны приведенные летописные сообщения о проектах Марфы Борецкой и Пимена. Но в этих сообщениях интересны опять-таки указания на настроения части «людей» (т. е. горожан), выступавших против московской великокняжеской власти.
Конечно, не боярская идея о переходе Новгорода в подданство Литве встретила сочувствие в некоторых кругах посадского населения. Нет, их привлекала идея иметь независимого от московского правительства князя. Учитывая экономические интересы новгородцев, ведших торговлю с русскими, украинскими, белорусскими землями Литовского государства, можно понять, почему для них казалась приемлемой кандидатура в князья сохранившего православие Михаила Олельковича, связанного с населением Киевщины. Многим казалось, вероятно, что призыв Михаила Олельковича в большей мере облегчит возможность сохранения вечевых порядков, а вече как никак было органом, через который черные люди пытались добиваться удовлетворения своих нужд. Для черных людей характерна наивная вера в то, что близкий народу князь защитит его интересы.
Михаил Олелькович пробыл в Новгороде недолго. В марте он уехал оттуда в Киев. Его отъезд еще больше обострил социальные противоречия в Новгороде. Борецкие и их сообщники активизировали свою деятельность. Летописи снова обвиняют их в широком применении системы подкупов. Они якобы «наименовали злых тех смердов, убииць, шилников и прочих безъименитых мужиков». Летописец относится с презрением к той «черни», которую старались привлечь на свою сторону бояре, принадлежавшие к партии Борецких. Он сравнивает черных людей со «скотами», которые лишены разума и способны только кричать. Но и «безсловесиые животные» не кричали так, как «новогородстии людие, невегласи», именовавшие себя «Великим Новымгородом». Приходя на вече, они били в колокола и «кричаху и лааху, яко пси, нелепаа глаголаху: за короля хотим!» [2462]2462
ПСРЛ, т. XVIII, стр. 227.
[Закрыть]Перед нами сатира (а вернее, даже пасквиль), принадлежащая перу озлобленного противника новгородских вечевых порядков, идеолога централизованного государства. Из злостных реплик летописца видно, что «злые смерды» и «безъименитые мужики» представляли силу, которую сумели использовать в своих интересах Борецкие и их сообщники. Еще раз повторяю, что «безъименитых мужиков» прельщал не переход под власть Литвы, а возможность получить своего местного князя.
Москве, очевидно, уже давно велась подготовка к войне с Новгородом. Походу на Новгород был придан характер большого политического акта. Подчеркивалось, что это поход, вызванный отпадением новгородцев из православия в «латинство». В марте 1471 г. Иван III созвал в Москву своих братьев (удельных князей), епископов, князей, бояр, воевод, «воев» (т. е. простых воинов) и известил их о намечающемся военном выступлении. В Новгород были посланы «разметные грамоты». В Тверь и Псков Иван III послал послов с просьбой о военной помощи. В конце мая 1471 г. из Москвы отправилось войско (под предводительством Бориса Матвеевича Слепца Тютчева) к Вятке, откуда оно должно было двинуться в Двинскую землю. На помощь этому войску, по великокняжескому предписанию, должна была прийти рать с Устюга. В начале июня 1471 г. из Москвы выступила по направлению к Русе рать во главе с князьями Даниилом Дмитриевичем Холмским и Федором Давыдовичем Пестрым-Стародубским. Туда же должны были двинуться отряды детей боярских князей Юрия и Бориса Васильевичей. В середине июня 1471 г. вышли по направлению к Волочку и на Мсту полк под руководством князя Ивана Васильевича Стриги-Оболенского и отряд татарского царевича Даньяра. 20 июня 1471 г. выступили основные военные силы во главе с Иваном III, направившись через Волоколамск в Торжок. Братья Ивана III – князья Юрий, Андрей, Борис Васильевичи и князь Михаил Андреевич верейско-белозерский, отправились в поход прямо из своих «отчин».