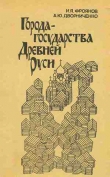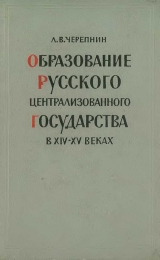
Текст книги "Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси"
Автор книги: Лев Черепнин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 72 (всего у книги 77 страниц)
Итак, была найдена приемлемая на данном этапе и для московского великого князя, и для псковского правительства политическая система. Верховным главой Псковской земли являлся великий князь московский. Представителем его в Пскове был князь – наместник, выдвигавшийся псковскими властями и заключавший с ними договор о соблюдении законов и обычного права Псковской республики. Утверждаемый вечем, псковский князь одновременно получал назначение в Псков от великого князя в качестве московского наместника. Конечно, подобная система не могла быть устойчива. В зависимости от соотношения политических сил она неизбежно должна была привести или к возрождению политической независимости Псковской республики, или к включению Пскова в состав единого Русского государства с центром в Москве.
После шестинедельного пребывания в Новгороде Василий II выехал в Москву. За ним отправился и князь Юрий Васильевич, проведший в Пскове свыше трех недель. Проводы ему были устроены столь же почетные, что и встреча. Пребывание этого князя недешево обошлось псковичам. Помимо содержания его со свитой в течение довольно длительного срока, псковичам пришлось еще уплатить ему на вече 100 рублей при его отъезде. Известное значение посещение Юрием Васильевичем Пскова имело для урегулирования взаимоотношений Псковской земли с Ливонским орденом. Немецкие послы приходили в Псков и вели с Юрием Васильевичем переговоры. Вскоре между Псковской республикой и «Немецкой землей» было заключено перемирие на пять лет [2427]2427
«Псковские летописи», вып. 1, стр. 59–60; вып. 2, стр. 51, 147–148.
[Закрыть]. На оформление перемирия потребовалась санкция великого московского князя Василия II. Значит внешняя политика Псковской республики берется под контроль московским правительством.
И. В. Стрига-Оболенский княжил в Пскове около года, а затем, в 1461 г., уехал в Москву. Причины относительно недолговременного его пребывания на псковском княжеском столе летописи не раскрывают. О дальнейших событиях в Пскове летописные памятники говорят противоречиво. Они сходятся в том, что вместе с И. В. Стригой-Оболенским в Москву отправились псковские послы (посадник и бояре) к великому князю с «даром» в сумме 150 рублей и с просьбой, чтобы он «печаловалъся своею отчиною мужьми псковичи», «и дал бы князя» для Псковской земли. Вернувшись в Псков, послы доложили на вече о своих переговорах с Василием II («правиша посольство на вечи»). По словам послов: «князь великии свою отчину жалует, мужии псковичи добровольных людей, врекается стояти и боронити за дом святыя Троица и за мужии псковичь». Через некоторое время в Псков приехал новый великокняжеский наместник, князь Владимир Андреевич, встреченный, судя по Псковской первой летописи, «с великою честию»; судя по Псковской второй летописи, «с честию». Таким образом, приведенные летописные данные как будто говорят о том, что назначение великим князем князя Владимира Андреевича наместником в Псков было согласовано с псковскими послами. Но, судя по Псковской теретьей летописи, новый наместник был прислан из Москвы не в соответствии с пожеланиями псковичей: «того же лета прислаше князь великои Василеи Васильевичь наместника своего во Псков на княжение князя Володимера Андреевича, а не по псковскому прошению, ни по старине». Тем не менее «псковичи приаша его с честью и посадиша его на княжение во Пскове» [2428]2428
«Псковские летописи», вып. 1, стр. 61; вып. 2, стр. 52, 149.
[Закрыть]. Как примирить эти разноречивые показания?
Судя по тому, как развивались в Пскове дальнейшие события, имеются основания думать, что в данное время вопрос о желательном характере московско-псковских отношений различно решался разными общественными слоями. Первоначальное относительное и временное единство по этому вопросу среди псковского населения кончилось. Часть господствующего класса Псковской земли, стремившаяся укрепить свои позиции при поддержке московской великокняжеской власти, по-видимому, уже соглашалась с новой политической линией, принятой Василием II применительно к Псковской республике: посылать туда наместников по собственному выбору. Послы, ездившие в Москву в 1461 г., очевидно, держались именно таких взглядов. Но указанная политическая линия, которую стала проводить великокняжеская власть, вызывала протест со стороны широких масс черных людей. Вероятно, ей не сочувствовала и часть феодалов. Подробное изложение в летописных сводах отчета послов, прибывших из Москвы, на псковском вече, говорит о том, насколько злободневной и острой была для псковичей тема о дальнейшем порядке выбора на месте или назначения из Москвы псковских князей. Эта тема возбуждала широкий и глубокий общественный интерес. Можно предположить, что послы не совсем точно информировали вече о том, о чем они договорились в Москве с Василием II, о мере уступок, которые они сделали московскому правительству касательно его права посылать в Псков по своему усмотрению князей. Могло быть и так, что Василий II обманул псковских послов, обещав им посчитаться с их мнением относительно кандидатуры на пост нового наместника в Псков, но не выполнив своего обещания и отправив через некоторое время на этот пост того, кого он счел нужным.
Бесспорны два факта. Во-первых, приезд в Псков князя Владимира Андреевича, назначенного из Москвы наместником, означал серьезный перелом в политической истории Псковской республики. Рушились старые политические порядки, в соответствии с которыми князья были выборными. Московское правительство теперь считает себя правомочным посылать в Псков своих представителей. Во-вторых, партия сторонников подчинения московской великокняжеской власти из среды псковского боярства была достаточно сильна. И в числе псковских горожан имелось много таких, кто считал отвечающим собственным интересам выполнение условий, поставленных московским правительством. Поэтому приехавший из Москвы наместник был принят с соблюдением всех соответствующих его положению церемоний. Но в летописях уже ничего не говорится об оформлении властями Псковской феодальной республики докончания с новым князем, о том, что с него взяли обязательство соблюдать псковскую «пошлину». А псковские летописи обычно очень последовательны в своих сообщениях о форме присяги, приносимой князьями Пскову и псковичами князьям. Очевидно, в данном случае такой двусторонней присяги и не было. Псковская третья летопись лишь указывает, что Владимира Андреевича «посадиша на княжении во Пскове».
Около полутора лет пробыл князь Владимир Андреевич в Пскове. Осенью 1462 г. он был оттуда изгнан. Псковская первая летопись сообщает об этом в таких выражениях: «…псковичи выгнаша из Пскова князя Володимера Андреевича; а иныя невегласы псковичи, злыя люди, сопхнувше его степени». Несколько короче, но примерно в тех же тонах, имеется сообщение об изгнании Владимира Андреевича из Пскова во второй Псковской летописи: «Выгнаша псковичи князя Володимира Ондреевича изо Пскова, а иныя люди на вечи с степени съпхнули его…». Псковская третья летопись говорит не только о том, что псковичи прогнали своего князя-наместника, но и пытается объяснить их поступок: «…а он приеха не по псковской старины, псковичи не зван, а на народ не благ» [2429]2429
«Псковские летописи», вып. 1, стр. 62; вып. 2, стр. 52, 150.
[Закрыть].
Приведенные летописные сведения требуют более глубокого анализа. Удаление из Пскова Владимира Андреевича нельзя рассматривать как простой разрыв псковскими властями договорных с ним отношений. Он не был князем, избранным Псковом, взявшим перед ним определенные обязательства и получившим соответствующие права. Владимир Андреевич являлся великокняжеским наместником, признанным местными псковскими властями. Поэтому выступление против него можно расценивать только как восстание. И смещен со своей должности он был не какой-то группой боярства, а восставшим народом. В пользу этого вывода говорит летописная терминология. Участников движения, в результате которого был изгнан великокняжеский наместник, летописи называют, как уже указывалось, «люди», «злыя люди, невегласы», а причину изгнания видят в том, что он «на народ не благ». Очевидно, правление Владимира Андреевича было тяжелым для народных масс. Из летописного рассказа можно вывести заключение, что над князем Владимиром Андреевичем устроили вечевой суд, принявший народный характер. По вечевому суду он был приговорен к лишению должности, в знак чего его свели (в летописном изображении – столкнули) с вечевого помоста и выгнали из города. Под давлением народа тут же, на вече, очевидно, был поставлен вопрос о гарантиях на будущее, в силу которых назначение таких наместников, как Владимир Андреевич, стало бы невозможным.
Как понимать слова Псковской третьей летописи о том, что князь Владимир Андреевич в свое время прибыл в Псков «не по псковской старины, псковичи не зван…»? Может быть, это – выпад против великого московского князя или даже вызов ему? Я думаю, что нет. Псковичи не собирались вести борьбу ни с московской великокняжеской властью, ни с Василием II персонально. Напротив, сразу после того, как Владимир Андреевич был смещен, в Москву отправились из Пскова посадник и бояре для урегулирования отношений псковского правительства с великим князем. Очевидно, поскольку народное восстание в Пскове было направлено против московского наместника, но не против центрального московского правительства, его жертвой могли сделаться и стоявшие у власти в Псковской республике бояре, в какой-то мере ответственные за политику князя Владимира Андреевича. Чтобы отвести от себя народный гнев, они и выдвинули объяснение (можно думать, заявленное на вече), согласно которому снимали с себя ответственность за действия князя-наместника, ибо он не был ими приглашен в Псков и его назначение из Москвы без согласия псковичей противоречило старинным правовым нормам Псковской земли. Та же аргументация с присоединением указания на притеснение князем Владимиром Андреевичем псковского населения должна была помочь псковским боярам убедить в Москве великого князя согласиться на замену князя Владимира Андреевича в Пскове в качестве наместника другим кандидатом. Взрыв народного недовольства был слишком серьезным и не считаться с ним не могли ни боярское правительство в Пскове, ни московская великокняжеская власть.
В другой своей работе я пытался доказать, что в связи с восстанием 1462 г. в Пскове была произведена кодификация феодального права (как актов княжеского законодательства, так и записей юридических норм Псковской республики). Созданный в результате этой кодификации судебник Псковской земли – «Псковская Судная грамота» – был утвержден на вече. Толчком к составлению и принятию в качестве основного закона Псковской республики Псковской Судной грамоты было массовое народное движение. В тексте этого законодательного памятника, в целом отражающего интересы господствующего класса, феодальное правительство Пскова было вынуждено закрепить некоторые постановления, являвшиеся результатом уступок феодалов широким массам горожан и отчасти крестьянства. Эти уступки были вырваны народом в результате классовой борьбы. В Псковской Судной грамоте подробно также развиты положения, определяющие взаимоотношения князя и псковских властей, – вопрос, получивший в 60-х годах XV в. особую политическую остроту.
Изгнанный из Пскова «со многим бесчестием», князь Владимир Андреевич поехал «на Москву к великому князю жаловатися на псковичь». Следом за ним в Москву направились псковские послы объясняться с великим князем по поводу обвинений, выдвинутых против псковичей бывшим наместником, «и просити князя во Псков, по псковской старине, которой князь Псковоу люб». В это время Василий II уже умер, и великим московским князем стал его сын Иван III. В течение трех дней он отказывался принять псковское посольство, подчеркивая тем самым, что изгнание князя Владимира Андреевича он оценивает как выступление псковичей против великокняжеской власти («и не пусти их собе на очи 3 дни, гнев держа про своего наместника князя Володимера…»). Через три дня, однако, послы добились (с большим трудом – «много троудившеся», как говорит Псковская вторая летопись) аудиенции у великого князя. В результате переговоров последний согласился «жаловать» «отчину свою… Пскова доброволных людии по старине: которого князя хощете, и яз вам того дам». Псковским послам было предложено выяснить в Пскове, какой князь является желательным кандидатом в наместники, и затем сообщить об этом в Москву посредством грамоты, отправленной со специальным гонцом [2430]2430
«Псковские летописи», вып. 1, стр. 62–63; вып. 2, стр. 52, 150–151.
[Закрыть].
Примирение Ивана III с псковскими властями и его решение вернуться к принятой Василием II в 1460 г. системе утверждать наместниками в Пскове князей, избираемых местным правительством, явились следствием трезвой оценки создавшейся обстановки. Настаивать сейчас на возвращении в Псков изгнанного оттуда князя Владимира Андреевича значило быть готовым к новому там восстанию. Московскому правительству приходилось идти на некоторые уступки, чтобы сохранить уже завоеванные позиции в Псковской земле.
Вернувшись в Псков, послы изложили на вече результаты своих переговоров с великим князем («…и повествоваша посольство на вечи пъсковичем…»). Можно предполагать, что это вечевое собрание было широким и активным, что на нем достаточно громко звучали голоса черных людей. Ведь речь шла о том, какой отзвук в Москве нашло недавнее псковское восстание, какой ответ принесли от великого князя послы по вопросу о смещении московского наместника и порядке его замещения новым.
Было решено просить Ивана III утвердить псковским князем И. А. Звенигородского. Следует думать, что это была кандидатура не только боярская; очевидно, с ней согласились и более широкие круги горожан. В Москву из Пскова послали гонца с грамотой, в которой фигурировало имя И. А. Звенигородского как лица, намеченного для утверждения в качестве псковского князя.
Постепенно псковские бояре, испуганные недавним народным восстанием, снова начинают наступление на народные массы. По данным Псковской третьей летописи, в 1463 г. «посадник псковкыи степенный Федор Никифорович отнял оу ползобенья палицу», т. е. лишил горожан возможности контроля над хлебными мерами. Это было стеснение прав посадских людей. О том, как они реагировали на подобное мероприятие, данных, к сожалению, нет.
В марте 1463 г. псковский гонец приехал из Москвы обратно в Псков с сообщением, что «князь великий жаловал псковичь, дал князя во Пъсков Ивана Звенигородцкаго». А в апреле того же года в Псков явился и сам И. А. Звенигородский. Псковское боярство старалось обеспечить себе руководящую роль в государственном управлении и в то же время создать популярность в широких массах населения политикой защиты старинных законов, обеспечивающих права выборных городских властей. Поэтому при утверждении И. А. Звенигородского на княжение в Пскове вернулись к порядкам, существовавшим там до 1462 г. Князю И. А. Звенигородскому предоставили «всю княжую пошлину», а он принес присягу («целова крест») «по псковской пошлине и по их воли» [2431]2431
«Псковские летописи», вып. 1, стр. 63–65; вып. 2, стр. 53, 151–153.
[Закрыть]. Документом, определявшим права князя и местных выборных властей в области выполнения различных государственных функций в Псковской феодальной республике, была теперь Псковская Судная грамота.
Взаимоотношения Пскова с московским правительством по-прежнему строились на признании им верховной власти великого князя. Московское правительство со своей стороны оказывало Пскову военную помощь и контролировало внешнюю политику Псковской республики. В первой половине 1463 г. ливонские немцы напали на Псковскую землю и в июне этого года «по псковскому челобитию» из Москвы было прислано в поддержку псковичам войско во главе с воеводой Ф. Ю. Шуйским. После ряда военных действий между Псковом и Орденом был заключен мир на 9 лет. А в сентябре 1463 г. Ф. Ю. Шуйский покинул Псков. При отъезде он заявил на вече: «Мужи псковичи, отчина князя великаго, доброволнии люди, бог жаловал, святая живоначалная Троица, князя великаго здравием с Немцы оуправы взяли, а по своей воли, а нынече на вашей чьти вам кланяюся» [2432]2432
«Псковские летописи», вып. 1, стр. 65–68; вып. 2, стр. 53, 154–156.
[Закрыть]. Из этих слов видно, что московский воевода (в соответствии с полученными из Москвы инструкциями) признает самостоятельность Псковской республики в рамках ее добровольного подчинения великокняжеской власти, как верховному органу, соблюдающему и контролирующему политические порядки Псковской земли. Весьма шаткая и неопределенная правовая основа для псковско-московских политических отношений, которые в действительности обусловливались более глубокими социально-экономическими условиями, определявшими процесс государственной централизации!
§ 4. Политические взаимоотношения московской великокняжеской власти и Псковской феодальной республики в 60 – первой половине 70-х годов XV в.
К середине 60-х годов наметилось обострение политических взаимоотношений между Новгородской и Псковской республиками. Летопись Авраамки рассказывает об этом в очень недоброжелательном тоне по отношению к псковскому правительству: «…и начаша псковичи луковать своим братом старшим Великим Новымгородом…», «а злей свой нрав исполниша», «а свой злый наров обнажиша, ослепи бо злоба их». В псковских летописях, напротив, содержатся обвинения в отношении новгородцев.
В чем заключались причины нарушения новгородско-псковских мирных отношений? Таких причин было несколько. Новгородцы не оказали Пскову помощи во время его войны с Орденом. В псковских летописях говорится: «а новогородцы тогда не помогоша псковичем ни словом, ни делом противу Немець, а псковичи много им биша челом, они же челобития псковскаго не прияша». Враждебная псковичам летопись Авраамки, не отрицая того факта, что новгородцы не приняли участия в военных действиях псковичей против Ордена, объясняет это тем, что новгородское правительство заботилось, «како бы кровь крестьянскаа не излилася» [2433]2433
ПСРЛ, т. XVI, стр. 213; «Псковские летописи», вып. 1, стр. 68; вып. 2, стр. 157.
[Закрыть]. Очевидно, новгородское боярство желало, чтобы псковские власти подчиняли его контролю свою внешнюю политику; псковское же правительство стремилось к самостоятельным внешнеполитическим действиям.
В 1464 или в 1465 г. между Новгородской и Псковской республиками произошел конфликт. Летопись Авраамки рассказывает, что псковичи «с новгородци жиша не братолюбно и хлеб отьяша домовныи святей Софеи и отца своего архиепископа владыкыИоны…» Речь идет о землях новгородского дома св. Софии, которые были насильственно захвачены псковичами. Но кем именно был произведен этот захват? Псковским крестьянством, или феодалами, или, наконец, псковским правительством? Надо думать, что вернее всего последнее, так как споры с новгородскими властями о софийских землях ведутся официальными представителями Псковской феодальной республики. Псковские летописи в качестве причины завладения Псковом новгородскими землями выдвигают отказ новгородского правительства помочь псковичам в войне с ливонскими немцами [2434]2434
«Псковские летописи», вып. 1, стр. 71; вып. 2, стр. 160.
[Закрыть].
Наконец, третьей причиной осложнения новгородско-псковских политических взаимоотношений явилось стремление Пскова добиться церковной независимости от Новгорода. Псковское правительство стало добиваться от великого московского князя, чтобы он предписал митрополиту направить в Псков особого епископа из числа псковичей.
Находясь во враждебных отношениях с Новгородом, псковские правители стремятся заручиться поддержкой московской великокняжеской власти. В конце 1463 г. в Москву был направлен из Пскова гонец с грамотой к великому князю. В ней выражалась благодарность Ивану III за присылку воеводы Ф. Ю. Шуйского «на оборону противу Немець». Такая благодарность имела определенный дипломатический смысл. Ею подчеркивалось, что московское правительство поддержало псковичей в трудных условиях войны, новгородские же власти не сделали этого. Далее, в грамоте, отправленной к Ивану III, псковские власти жаловались на новгородских правителей, которые не пропускают через Новгородскую землю псковских послов. В силу этого не удалось направить из Пскова в Москву официальное посольство из «людей честных посадников псковских». В другой грамоте, посланной в Москву, ставился вопрос о назначении в Псков епископа из местных жителей («а нашего же честнаго коего попа или игумена человека псковитина»).
Московский великий князь занял осторожную позицию в дипломатической переписке с Псковом. Стараясь использовать в своих интересах новгородско-псковский конфликт, он в то же время стремился сохранить политический нейтралитет, не поддерживая открыто ни одну из столкнувшихся между собой сторон, не связывая себя прямыми обещаниями, данными кому-либо из них. По поводу жалобы на то, что новгородские власти не пропускают через территорию Новгородской республики псковских послов в Москву, Иван III выразил недоумение («и князь великий тому подивился»), как это могло случиться, раз Новгород связан с Московским великим княжеством союзными договорными отношениями: «како им не пропустити ваших послов ко мне, а будучи оу мене в крестном целовании». Решение вопроса о назначении в Псков епископа Иван III отложил до того момента, когда в Москву явятся из Пскова «послы честныя люди».
В январе 1464 г. из Пскова было направлено в Москву специальное посольство из трех посадников, вручившее великому князю «дар» в сумме 30 рублей. Но и на сей раз Иван III уклонился от решения поставленного псковичами вопроса о предоставлении Пскову церковно-политической самостоятельности, дав по этому поводу довольно неопределенный ответ псковским послам: по указанному делу надо предварительно посоветоваться с новгородским правительством.
До псковского посольства в Москве побывали новгородские послы, просившие у великого князя военной помощи против Пскова. По-видимому, великий князь не хотел в данный момент разжигания псковско-новгородской войны, которая могла бы привести и к внутренним осложнениям для Русского государства и к ослаблению безопасности северо-западных границ Руси. Поэтому он отказал новгородским послам в их просьбе. Псковским послам Иван III так объяснил свою позицию: «и яз, князь великои, хотячи межи вами миру и тишине, воеводы есми своего [новгородцам] не дал, им [новгородцам] есми ходити на вас не велел». В то же время московский великий князь потребовал от новгородских правителей, чтобы они предоставили «путь чист» псковичам для поездок в Москву [2435]2435
«Псковские летописи», вып. 1, стр. 69–70; вып. 2, стр. 53, 157–159.
[Закрыть].
Псковская третья летопись глухо говорит еще об одном псковском посольстве, побывавшем в Москве в 1464 г., но не раскрывает его целей и результатов.
Не добившись военной помощи от Ивана III, новгородские правители начали переговоры с Орденом о совместных действиях против Псковской республики. «И новогородцы же биша челом немцем, чтобы им пособили противу псковичь; и немцы ркошася пособити». Это обстоятельство заставило псковское правительство пойти на мирные переговоры с новгородскими властями. В 1465 г. в Новгород отправились два псковских посадника и ряд бояр. Псковские правители соглашались отдать Новгороду земли св. Софии, отказавшись только возместить стоимость собранного за два года с этих земель хлеба и вернуть доходы, полученные с эксплуатации имевшихся там рыбных промыслов [2436]2436
Там же, вып. 1, стр. 71–72; вып. 2, стр. 160–161.
[Закрыть].
Псковско-новгородские мирные переговоры были длительными и бурными («и много бысть о том истомы»), но в конце концов мир был заключен. Псковичи согласились также по-прежнему подчиняться в церковном отношении новгородскому архиепископу. В 1466 г. новгородские послы прибыли в Псков и в их присутствии на псковском вече было торжественно подтверждено новгородско-псковское мирное докончание. Затем в Псков приехал новгородский архиепископ, которому в знак признания его власти была устроена торжественная встреча.
Середина и вторая половина 60-х годов XV в. – время большого строительства в Пскове. Возводились церкви и укрепления. В строительстве большое участие принимали посадские люди. Видно, что возросла активность посадского населения.
Со второй половины 60-х годов XV в. московский великий князь стремится к усилению своих политических позиций в Пскове. В 1466 г. князь Иван Александрович Звенигородский покинул пост великокняжеского наместника в Пскове. Его отъезд из Пскова, судя по летописям, не был вызван политическим конфликтом с псковским населением. В летописи говорится: «Того же лета на осень князь псковский Иван Александровичь псковичем оудари челом на вечи за все добро псковское, и поеха изо Пскова». Псковичи якобы били челом И. А. Звенигородскому, «дабы ся остал», но он «не восхоте и поеха изо Пскова на Москву, а псковичи проводила его с великою честию» [2437]2437
Там же, вып. 1, стр. 72; вып. 2, стр. 162.
[Закрыть]. После этого в Москву отправились из Пскова в качестве послов посадник и ряд псковских бояр для того, чтобы договориться с великим князем о новом наместнике. В качестве такового в Псков был назначен князь Ф. Ю. Шуйский. Сопоставляя между собой все эти данные, можно прийти к выводу, что смена посадников в Пскове была произведена по инициативе московской великокняжеской власти. А вызвана такая смена была, по-видимому, тем, что Ф. Ю. Шуйский казался московскому правительству администратором, в большей степени, чем И. А. Звенигородский, подходящим для проведения линии подчинения. Псковской республики аппарату централизованного Русского государства.
Ф. Ю. Шуйский добился значительно больших полномочий в Пскове, чем его предшественники. Он получил право посылать наместников (обладавших судебными функциями) во все 12 псковских пригородов, в то время как до этого княжеские наместники назначались только в 7 пригородов Пскова. Псковская третья, летопись отмечает это нововведение как существенное нарушение псковской «пошлины»: «и из веков княжии наместники не бывали, колко ни есть княжеи бывало во Пскове на столоу, а наместники княжии были только на 7 пригородах псковскых» [2438]2438
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 164.
[Закрыть]. В то же время Ф. Ю. Шуйскому удалось достигнуть соглашения с псковским правительством по вопросу о разделе административных и судебных функций в пределах псковских пригородов. Если в пригороды посылались княжеские наместники, то в то же время за их деятельностью осуществляли контроль старосты отдельных концов города Пскова. В 1468 г. при участии Ф. Ю. Шуйского был произведен раздел территории пригородов между псковскими концами.
В конце 1468 г. в Пскове была проведена церковная реформа. Псковское духовенство поставило вопрос на вече об организации, выборных органов верховного управления местными церковными делами. Реформа ставила своей целью прежде всего получение Псковом известной независимости в церковной области от власти новгородского архиепископа. Псковские церковники заявили на вече: «…здесь правителя всей земли над нами нетоуть, а нам о себе тоя крепости оудержати не мощно попремежи себе о каковых ни боуди церковных вещех». Когда несколько позднее в Псков приехал из. Новгорода архиепископ Иона, представители псковского белого и черного духовенства указали ему, что, поскольку он бывает в Пскове лишь наездами, в городе необходимо создать постоянный местный верховный орган церковного управления.
Второе, к чему стремилось псковское духовенство, – это укрепление авторитета церкви. На вече церковники говорили, что они хотят «во всем священьстве крепость поддержати». Новгородскому архиепископу Ионе священники и монахи докладывали: «не мощно нам тобе всего и сказати», насколько «при сем последнем времени о церквах божиих смоущенно силно в церковных вещех в священниках», «тии сами ведають тако творяще все бестоужество». Как надо понимать все эти заявления псковских церковников? Конечно, здесь могут иметься в виду такие явления, как падение нравственности служителей культа, нерадивое исполнение ими своих обязанностей, мздоимство и т. д. Но думаю, что главное не это, а религиозное вольнодумие отдельных духовных лиц, критика ими православной церкви, распространение ересей. Дополнительные аргументы в пользу высказанного предположения я приведу ниже.
Наконец, псковское духовенство, ставя вопрос о создании местного органа церковного управления, мотивировало свое предложение тем, что при отсутствии такого органа миряне вмешиваются в церковные дела. На вече церковники упрекали мирян: «а вы ся в то иное и миром встоупаете, а чрес святых апостол и святых отець правила» [2439]2439
«Псковские летописи», вып. 2, стр. 165–166.
[Закрыть]. Текст этот лаконичен и допускает возможность разного понимания и толкования. Возможно, что духовенство возражает против привлечения его представителей к светскому суду. Можно думать, что речь идет о захватах церковных земель как проявлениях классовой и внутриклассовой борьбы. Наконец, весьма вероятно, что вмешательство мирян в дела церкви выражалось в критике религиозных догматов и церковных порядков, в избрании духовных лиц из среды мирян и т. д., т. е. во всем том, что с точки зрения православной ортодоксии квалифицировалось как ересь.
О том, что в конце XV в. вольнодумие в религиозных вопросах было довольно распространено среди псковских горожан, свидетельствует один интересный литературный памятник – «Житие» Евфросина. Рассказывая о религиозных спорах между Евфросином и священником Иевом Столпом, названное «Житие» говорит, что последний «не токмо убо бяше по вечищем их велегласно вопия и глаголя и проповедуя всему градскому народу, но и проходя паче торжища и сонмища, таже и позорища, купно же и по беседам седалищным и по пировным вечерям возмущая и колебая всего града все множество безчислено народа…» [2440]2440
«Памятники старинной русской литературы», вып. 4, стр. 92.
[Закрыть]Итак, на вечевых собраниях, на торгах, во всех публичных местах, где собирался народ, на пирах и братчинах, на мирских беседах происходило обсуждение тем, связанных с религией и церковью. Тем самым подрывались основы православной ортодоксии, культивировавшей веру в авторитет церкви и не признававшей за человеческим разумом права на ниспровержение этого авторитета. В свете приведенных сообщений «Жития» становится понятным стремление псковских церковников принять меры борьбы против религиозного вольнодумия.
Из «Жития» Евфросина можно извлечь материал, касающийся социального состава кругов, оппозиционных в отношении официальной церкви; кругов, в которых появлялись еретические настроения. Так, в числе идейных противников Евфросина было «мало чяди от священник, и нецыи клеветари… таже и от диакон не мнози суще, сице же и от народа мало возсташа людий на святаго…» Рядовое духовенство, городские ремесленники, посадские люди – это как раз та среда, где рождались и распространялись еретические течения, на борьбу с которыми была направлена церковная реформа, проведенная в Пскове в 1468 г. Очень интересно, что «Житие» Евфросина уподобляет идейную борьбу, которую вели с официальной церковью религиозные вольнодумцы, действиям разбойников: «яко нецыи разбоиницы ко старейшине срыскахуся, и строяще речи, и рать народа движуще» [2441]2441
«Памятники старинной русской литературы», вып. 4, стр. 83.
[Закрыть]. Объективно это означает сопоставление двух форм проявления классовой борьбы: 1) в сфере идеологической; 2) в области социальной.