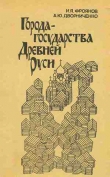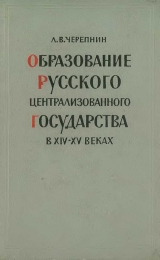
Текст книги "Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси"
Автор книги: Лев Черепнин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 77 страниц)
Михаил Александрович опять бежал в Литву, а московские войска предприняли наступление на Тверскую землю. Сначала в Тверские волости вошли отдельные военные отряды из Москвы и Волоколамска, а в сентябре 1370 г. туда направился «с всею силою» князь Дмитрий Иванович. Остановившись на реке Родне, он отправил своих воевод с ратыо к городу Зубцову, который был осажден, а через 6 дней взят и сожжен. Население из города московские воеводы «выпустили куды кому любо…». Московские войска захватили также Микулин, «повоевали» и «пожьгли» тверские села, перебили и взяли «в полон» их жителей. Рогожский летописец с полным основанием расценивает действия в Тверской земле московских вооруженных сил как большое зло для местного населения («и много зла сътворив христианом»). В Рогожском летописце помещена чрезвычайно важная и яркая деталь. Из-за больших дождей тверские крестьяне не успели вовремя произвести жатву яровых хлебов («то же время бышеть дождево добре, хлеба ярного не жинали»). А из-за войны хлеб так и остался несжатым.
Никоновская летопись, дающая тенденциозное изложение событий с позиций московской великокняжеской власти, считает поход Дмитрия Ивановича в Тверскую землю карой, учиненной населению за враждебные Московскому княжеству действия тверского князя Михаила Александровича («и смириша тверичь до зела»).
В борьбе с московской великокняжеской властью Михаил Александрович тверской стремился заручиться поддержкой не только Литвы, но и Орды. В Рогожском летописце содержится известие (отсутствующее в большинстве сводов) о том, что, после того как Михаил Александрович бежал в Литву, в Тверь явились ордынские послы Капьтагай и Тюзяк и привезли тверскому князю ярлык на тверское княжение. Очевидно, он в свое время делал шаги к получению ярлыка, желая укрепить свои политические позиции в ожидании надвигающейся войны с Московским княжеством. Не переговоры ли Михаила Александровича с Ордой заставили московское правительство в августе 1370 г. порвать с ним сношения и послать рать в Тверскую землю?
Узнав в Литве о разорении московскими войсками Тверского княжества, Михаил тверской направился в середине ноября оттуда в Орду и, одарив многих ордынских князей, добился получения ярлыка на великое княжение всей Руси. Орда, по-видимому, охотно вмешалась в происходившие на Руси распри и содействовала столкновению тверского князя с московским, рассчитывая, что это столкновение приведет к общему упадку политической силы Руси. Вместе с ордынским послом Сарыхожей Михаил Александрович явился в Русскую землю в качестве общерусского великого князя («и взем ярлык, и вышел был на княжение на великое, зовучися сам князь великыи»). Но его противник, Дмитрий Иванович московский, принял меры к тому, чтобы помешать ему реализовать право, предоставленное ханским ярлыком. Чтобы задержать Михаила Александровича на путях из Орды, были расставлены заставы, организованы его поиски («…переимали его по заставам, и многыми путмы ганялися за ним, ищуще его») [1817]1817
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 92–93; т. XIII, стр. 17; т. XI, стр. 13, т. XVIII, стр. 110; т. XX, стр. 193; т. XXIII, стр. 116; т. XXIV, стр. 126; т. XXV, стр. 185–186.
[Закрыть]. Настигнуть Михаила Александровича, однако, не удалось, и он с небольшой дружиной опять бежал в Литву. Вряд ли укрепиться на Руси тверскому князю помешали лишь предосторожности, принятые великим князем московским. Михаил Александрович становился все более непопулярным из-за своих связей с литовскими феодалами, с ордынскими ханами, которых он приводил на Русь и которые грабили народ. Городское население не поддерживало Михаила тверского, как это можно видеть и из приведенного выше текста Никоновской летописи (сожалеющей в связи с описанием усобицы тверских князей о той социально-политической розни, которая наблюдалась на Руси) и из некоторых последующих событий.
В Литве Михаил Александрович всячески добивался, чтобы Ольгерд организовал второй поход на Москву и помог ему одолеть его противника – великого князя Дмитрия Ивановича. Второй поход на Русь литовских военных сил под руководством Ольгерда («другая Литовщина») состоялся в конце ноября 1370 г. Ольгерд выступил в Русскую землю, «събрав воя многы, в силе тяжце», в сопровождении своих братьев, сыновей, «прочих» литовских князей, смоленского князя Святослава Ивановича «с силою смоленьскою», тверского князя Михаила Александровича. Серьезное сопротивление литовские полки встретили со стороны русских воинов под Волоколамском (26 ноября). Два дня длился бой, но литовское войско так и не смогло овладеть городом. Под Волоколамском был смертельно ранен одним литовцем князь Василий Иванович Березуйский, которого летопись характеризует как храброго и заслуженного воина («иже преже много мужьствова на ратех и много храбровав на бранех…»). Не взяв Волоколамска, литовское войско продолжало свой путь к Москве и 6 декабря осадило столицу княжества. В Москве находился великий князь Дмитрий Иванович. Его двоюродный брат – серпуховско-боровский князь Владимир Андреевич стоял с полком под Перемышлем. Со стороны Пронска двигался к Москве бывший в союзных отношениях с Дмитрием Ивановичем пронский князь Владимир Дмитриевич, «а с ним рать рязанская». Ольгерду грозила опасность быть окруженным русскими войсками. В этих условиях осада Москвы не могла закончиться успешно для литовских захватчиков. Она продолжалась больше, чем в 1368 г., – 8 дней. Захватчики выжгли окрестности города («загородие») и часть посада, перебили и забрали в плен много людей, но овладеть Московским кремлем не смогли. Не рассчитывая на военный успех («оубоявся»), Ольгерд стал просить великого князя Дмитрия Ивановича заключить с ним мир. Московское правительство также стремилось кончать войну и согласилось на перемирие. Обратно в Литву Ольгерд возвращался, чувствуя себя уже далеко не так, как в 1368 г. Летописи ничего не говорят теперь о грабежах русского населения литовскими захватчиками. Наоборот, подчеркивается, что Ольгерд уходил из Руси «с многым опасением, озираяся и бояся за собою погони» [1818]1818
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 94–95; т. XV, стр. 429–430; т. VIII, стр. 17; т. XI, стр. 14; т. XVIII, стр. 110; т. XX, стр. 193; т. XXIII, стр. 116; т. XXIV, стр. 126–127; т. XXV, стр. 185–186.
[Закрыть].
Совершенно очевидно, что в Москве был учтен печальный опыт «первой Литовщины». Ко вторичной встрече Ольгерда московское правительство подготовилось лучше, мобилизовало военные силы. Правда, литовские войска и на этот раз не были задержаны по пути в Москву и дошли до самой столицы Московского княжества. Но здесь они ясно убедились, что Москвы им не взять, да и оставаться долее на Руси небезопасно [1819]1819
Походы Ольгерда на Москву подробно описаны М. Н. Тихомировым в книгах «Древняя Москва (XII–XV вв.)», стр. 46–49, «Средневековая Москва в XIV–XV веках», стр. 277–280.
[Закрыть].
Нельзя упускать из поля зрения еще одного существенного фактора, сыгравшего несомненную роль в качестве побудительного мотива к отступлению литовских захватчиков. Широкие массы населения русских сел и городов были страшно раздражены против них и тех русских феодалов, при содействии которых они пришли на Русь. В результате «первой» и «второй» «Литовщины» была уничтожена масса народа. Крестьяне были лишены возможности заниматься мирным сельским трудом. Ведь не может не броситься в глаза такой разительный факт: летописец, уделяющий свое основное внимание политической истории Руси, междукняжеским отношениям, считает тем не менее нужным сразу после описания похода на Русь Ольгерда в 1370 г. сказать несколько слов о сельскохозяйственных работах этого года. Значит ему была хорошо ясна связь между разорительными войнами и состоянием земледелия. В Рогожском летописце говорится, что зима 1370 г. «бяшеть тепла», снег стаял ранней весной («снег стекл заговев великому говению»), и это дало возможность убрать не сжатый в Тверской земле прошлой осенью хлеб («не жатый хлеб пожали по всем Тферьскым волостем в великое говение»). Но Никоновская летопись добавляет, что жать можно было только там, где не прошли литовские войска («где рать не бывала Литовьскаа») [1820]1820
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 95; т. XI, стр. 14.
[Закрыть]. Там же, где побывали иноземные полчища, хлеб пропал.
По уходе из пределов Руси литовских полков во главе с Ольгердом Михаил Александрович поехал в Орду за ярлыком на великое княжение, а его войска пытались рассчитаться за нападение московско-волоколамских военных сил в 1369 г. на Тверское княжество. Но пострадали при этом опять-таки мирные жители. Так, по Рогожскому летописцу, тверские рати под Волоколамском «…люди многи побили той, который опроче стяга ходили», т. е. уничтожили много народа из числа тех, кто не выступал под полковым знаменем, не участвовал в ратных действиях в Тверской земле в 1369 г. Подобная политика тверского князя вызывала все большее недовольство населения. Его непопулярность все возрастала.
10 апреля 1371 г. Михаил Александрович вернулся из Орды с ярлыком на великое княжение в сопровождении посла Сарыхожи. Из Твери князь Михаил с ордынским послом направился «подле Волги мимо Кашин» во Владимир для занятия великокняжеского стола. Но Дмитрий Иванович московский не захотел ему «сступитися княжениа великаго». Между обоими претендентами на великокняжеский владимирский стол разгорелась борьба. Интересные данные об этой борьбе сообщают Рогожский летописец и Тверской сборник. Согласно сведениям этих сводов, князь Дмитрий Иванович привел к присяге («к целованию») по всем городам бояр и «людей» (по Никоновской летописи – «черных людей», т. е. торгово-ремесленное население) в том, что они не признают великим князем Михаила Александровича («…не датися князю великому Михаилу…»). Сам Дмитрий Иванович вместе со своим двоюродным братом, серпуховско-боровским князем Владимиром Андреевичем, и с ратью стал в Переяславле, чтобы помешать тверскому князю проехать во Владимир [1821]1821
Анализируя эти и другие факты, И. У. Будовциц делает верный вывод, что население русских городов поддерживало московских князей в их борьбе за политическое объединение Руси. ( И. У. Будовниц, Поддержка объединительных усилий Москвы населением русских городов, стр. 122).
[Закрыть]. Ханский посол (по Рогожскому летописцу, «тотарин с баисою», т. е. с ханским повелением – грамотою) прислал из города Мологи, где он находился с Михаилом Александровичем, предписание московскому князю явиться во Владимир «к ярлыку» (т. е., очевидно, присутствовать при возведении на великокняжеский стол Михаила Александровича). Дмитрий Иванович отвечал: «к ярлыку не еду, а в землю на княжение на великое не пущаю» (речь идет о князе Михаиле, которому Дмитрий Иванович не желает уступить великое княжение и поэтому не дает ему пройти во Владимир), «а тебе, послу, путь чист» (т. е. ханского посла московский князь не будет задерживать и предоставит ему свободный проезд). Затем Дмитрий Иванович дипломатично пригласил посла Сарыхожу в Москву. Тот, предвидя, что там можно будет получить «многыа дары», передал ярлык князю Михаилу, а сам принял приглашение московского князя и явился к нему в Москву. Михаил Александрович вернулся через Бежецкий Верх в Тверь. Не ошибшись в своих расчетах и «поймав многи дары» у князя Дмитрия, Сарыхожа выехал в Орду. В конце мая туда же отправился сын великого тверского князя Иван Михайлович, а 15 июня – великий московский князь Дмитрий Иванович [1822]1822
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 95–96; т. XV, стр. 430.
[Закрыть].
Летописный рассказ требует интерпретации. Очевидно, довольно решительные и активные действия Дмитрия Ивановича объясняются тем, что он имел какую-то поддержку со стороны жителей Московского и Тверского княжеств. Судя по приведенным летописным сообщениям, он опирался не только на бояр, но и на торгово-ремесленное население городов Верхнего Поволжья. Рогожский летописец и Тверской сборник приписывают Дмитрию Ивановичу инициативу приведения бояр и горожан к присяге. Это весьма возможно. Но, очевидно, навстречу этой инициативе развертывалось движение в городах в сторону союза с московской великокняжеской властью, ведущей борьбу с литовскими захватчиками и их пособником – великим князем тверским.
Поддержка горожан позволила Дмитрию московскому занять довольно смелую позицию в отношении Орды и не явиться на вызов ханского посла. Однако московская великокняжеская власть вовсе не шла на разрыв с Ордой. Для этого у нее не было еще достаточных сил. Стремясь к достижению своей цели (сохранению права на великое владимирское княжение), Дмитрий Иванович вынужден прибегать и к дипломатии, и к подкупам ордынских правителей. Пригласив в Москву Сарыхожу и одарив его, Дмитрий Иванович завоевал себе союзника и подготовил почву в Орде для того, чтобы получить ярлык на великое княжение.
В Рогожском летописце имеется интересное рассуждение по поводу политики золотоордынских ханов, которые разжигают распри среди русских князей. В результате между князьями возникают войны, причиняющие народу неимоверные страдания. Ордынские правители, «омрачив сердце своя многым златом и сребром», получаемым с различных претендентов на русский великокняжеский стол, «безбожною своею лестию ввергъли мечь и огонь в Русскую землю на крестианьскую погыбель», «сотворили мятежь в Русской земли». Если сочетать приведенную оценку вредных последствий татаро-монгольской политики на Руси с мыслями, изложенными б рассмотренном выше тексте Никоновской летописи о вреде княжеских усобиц, способствующих углублению общественных противоречий, то мы сможем себе представить довольно целостную идеологию умеренной в своих социально-политических требованиях части горожан, объясняющую занятую ими позицию в борьбе московского и тверского князей. Мир социальный может сохранить сильная великокняжеская власть, способная обеспечить мир политический и внешнеполитическую безопасность страны, – таковы основы этой идеологии.
В некоторых летописях (Ермолинской, Симеоновской, Львовской, Воскресенской, Типографской и др.) описывается эпизод прихода Михаила Александровича (после отъезда князя Дмитрия Ивановича в Орду, а по Никоновской летописи – до этого события) во Владимир и его попытки занять великое княжение. Жители Владимира, судя по этим летописям, не приняли князя Михаила («и не прияша его, рекуще: «Про что тебе взяти великое княжение?»») [1823]1823
ПСРЛ, т. XXIII, стр. 116; т. VIII, стр. 18; т. XI, стр. 15; т. XVIII стр. 110; т. XX, стр. 193; т. XXIII, стр. 116; т. XXIV, стр. 127.
[Закрыть]. В Рогожском летописце и Тверском сборнике этого эпизода нет. Однако его возможность не исключена.
После отъезда в Орду московского великого князя Дмитрия Ивановича, в Москву явились послы литовского князя Ольгерда. В отсутствие Дмитрия Ивановича, которого официально представлял митрополит Алексей, был заключен (в соответствии с условиями перемирия 1370 г.) московско-литовский договор, скрепленный затем браком серпуховско-боровского князя Владимира Андреевича и дочери Ольгерда – Елены [1824]1824
ДДГ, стр. 21–22, № 6. Анализ этого договора см. Л. В. Черепнин, указ. соч., ч. 1, стр. 45–50.
[Закрыть]. Интересно, что в этом договоре великое княжение называется «отчиной» (т. е. наследственным владением московских великих князей). Такова же терминология Симеоновской летописи. Значит московские князья уже стали отрицать права ханов распоряжаться великим княжением.
Михаил Александрович тверской продолжал военные действия в ряде русских земель, рассчитывая тем самым нанести урон своему противнику. Он двинулся сначала к Костроме, затем, повернув обратно, захватил и сжег Мологу, Углич, Бежецкий Верх. Тогда же, по-видимому, Михаил Александрович заключил договор о военном союзе с новгородским правительством [1825]1825
ГВНП, стр. 28–30. Об этом договоре см. Л. В. Черепнин, указ. соч, ч. 1, стр. 306–310.
[Закрыть].
Длительная усобица на Руси изнуряла население, подрывала экономику страны. Истощенный в результате кровавой междукняжеской смуты, народ страдал также от недорода, вызванного засухой 1371 г. Люди голодали. Цены на хлеб и другие продукты питания росли и из-за неурожая и из-за разорения страны феодальной войной («бяше же тогды жито дорого, и меженина в людех и оскудение брашна, дороговь велика»). Никоновская летопись указывает, что в 1371 г. был «глад велий по всей земле» [1826]1826
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 95–97; т. VIII, стр. 18; т. XI, стр. 15; т. XVIII, стр. 110–111; т. XX, стр. 193; т. XXIII, стр. 116; т. XXIV, стр. 127.
[Закрыть].
Ярлык на великое владимирское княжение достался в Орде московскому князю Дмитрию Ивановичу. Перевес материальных и военных сил был на его стороне. Михаил же Александрович, согласно летописи, получил из Орды следующий ответ: «княжение есмы тебе дали великое, и давали ти есмы рать, и ты не понял, рекл еси своею силою сести, и ты сяди с кем ти любо». Этот летописный текст не совсем понятен. Почему же тверской князь отказался от военной помощи ему со стороны татаро-монгольских правителей? Возможны два объяснения. Или ордынское правительство, проводя в данном случае свою обычную политику, построенную на шантаже, обусловило выдачу тверскому князю ярлыка на великое княжение тем, что он завоюет его собственными силами, а затем самого же обвинило в излишней самонадеянности. Но может быть, и сам Михаил Александрович боялся открыто привести на Русь татаро-монгольское войско, ибо его содружество с литовскими захватчиками уже достаточно подорвало его авторитет среди населения.
Победа над своим соперником в Орде обошлась Дмитрию Ивановичу недешево. Право на великое княжение он купил за большую сумму и на Русь прибыл (осенью 1371 г.) обремененный большим долгом («…прииде из Орды с многыми длъжникы…»). Расплачиваться за этот долг пришлось трудовому народу, на который были возложены новые податные тяготы («и бышеть от него по городом тягость даннаа велика людем»). Несмотря на это, горожане не стали поддерживать тверского князя Михаила («а ко князю к великому к Михаилоу так и не почали люди из городов передаватися»). Последняя цитата взята из Рогожского летописца, в котором сохранилось тверское летописание, далеко не с доброжелательных позиций оценивающее деятельность московского правительства. Тем важнее и надежнее для нас свидетельство Рогожского летописца о позиции горожан, искавших союза с сильной великокняжеской властью [1827]1827
Интересные соображения о политике Орды в отношении Руси в 60–70-х годах XIV в., в период борьбы между Дмитрием Ивановичем московским и Михаилом Александровичем тверским, см. у А. Н. Насонова в книге «Монголы и Русь», стр. 129–130.
[Закрыть].
Но феодальная война продолжалась. Московские войска выгнали из Бежецкого Верха тверского наместника и «грабили» тверские волости. Московский великий князь при этом использовал вражду между великим князем тверским Михаилом Александровичем и удельным князем кашинским Михаилом Васильевичем и заключил союз с последним. Михаил Васильевич приезжал в Москву, «взял мир» с великим князем Дмитрием Ивановичем, после чего кашинские бояре разорвали договор с великим тверским князем Михаилом Александровичем («сложили» к нему «целование») и перешли на сторону московского правительства.
Князь Михаил Александрович со своей стороны вел наступление на своего противника – князя московского. В конце 1371 г., по его приказанию, тверскими войсками была взята Кистма, а кистемские воеводы захвачены в плен и приведены в Тверь. Весной 1372 г. сам Михаил Александрович повел рать на Дмитров, «а посад и села пожьгли, а бояр и людии изнимав и жен в полон привели в Тферь». Война велась тверским князем снова при помощи литовских феодалов («подведе таи рать литовскую»). В числе участников нового вторжения в Русскую землю разные летописи называют литовских князей Кейстута Гедиминовича, Витовта Кейстутовича, Андрея Ольгердовича, Дмитрия Друтского. В то время как Михаил Александрович возглавил поход, окончившийся разгромом Дмитрова, литовская рать под предводительством князей Кейстута Гедиминовича и Андрея Ольгердовича полоцкого разоряла Переяславский посад и окрестные села, захватывая имущество горожан и крестьян, уничтожая крестьянский скот («и скоты их исколота»). В дальнейшем литовские и тверские войска соединились и направились к Кашину, с населения которого взяли «окуп», а кашинского князя Михаила Васильевича заставили подчиниться великому князю тверскому Михаилу Александровичу. Возвращаясь в Литву (Кейстут Гедиминович – через Торжок, а Андрей Ольгердович и Дмитрий Друтский – через Тверь), литовские князья продолжали грабить мирных жителей («много зла сътворили христианом») [1828]1828
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 96–100; т. XV, стр. 430–431; т. VIII, стр. 18–19; т. XI, стр. 15; т. XVIII, стр. 110–112; т. XX, стр. 193–194; т. XXIV, стр. 127–128; т. XXV, стр. 187.
[Закрыть].
Наиболее трагический эпизод в феодальной войне 1372 г. – это разорение тверскими войсками в 1372 г. Торжка. Весной этого года новгородские бояре и «мужи» великого князя приехали в Торжок «города ставити» (т. е. для работ по возведению городских укреплений) и договорились с новоторжцами действовать совместно против великого тверского князя Михаила Александровича («и соединившеся вси с новоторжцы заедино, укрепишася крестным целованием, еже быти всем заедино, и заратишася со князем Михаилом тверским»). Затем новгородцы и новоторжцы изгнали из Торжка тверских наместников, арестовали тверских гостей и купцов, отняли у них имущество, захватили лодьи с товарами, а некоторых перебили («…а что гостей тверских и торговцев поимаша и пограбиша, а иных побиша, а лодей с товарами отъимаша»).
Из этого описания видно, что новгородские бояре действовали в союзе с великокняжеской властью и новоторжскими горожанами. Однако самое интересное – это то, что указание на участие в событиях 1372 г. великокняжеских «мужей» содержится далеко не во всех летописях, а из этого видно, что изгнание тверских наместников было в значительной мере делом, осуществленным по инициативе самого новоторжского торгово-ремесленного населения. Произошло восстание горожан Торжка против тверских властей. Они обратились за военной помощью в Новгород. Новгородское правительство оказало им поддержку, ибо было само заинтересовано в удалении из Торжка тверских наместников и включении города в сферу политического влияния Новгородской республики.
«Строительство города» в Торжке в 1372 г. – это подготовка оборонительных сооружений для борьбы с Тверским княжеством. Так понимает дело Никоновская летопись: «и град поставиша крепок зело, и остроги вся уготоваша, и силу многу собраша, уготовишася на бой противу князя Михаила Александровичя тверскаго». Конечно, перед нами уже позднейшая интерпретация событий, верно, однако, схватывающая существо вопроса.
Задержка тверских гостей и купцов и захват их товаров преследовали цель подорвать материальные ресурсы Тверского княжества, экономически его изолировать и тем самым ослабить политически. Но возможно также, что в расправе новоторжцев с представителями тверского купечества играли роль и социальные мотивы. Вероятно, в этой расправе участвовали новоторжские черные люди, испытывавшие засилие со стороны крупной тверской торговой верхушки.
Рогожский летописец, стоящий на позициях, доброжелательных в отношении тверского князя Михаила Александровича, расценивает выступление городского населения Торжка в 1372 г. против тверских властей как результат злого умысла со стороны новгородцев и новоторжцев («…съвещаша зол совет…») и упрекает их в отсутствии «смирения» («всяко бо, рече, възносяися смирится, а смиряяся, възнесеться»). Подобная оценка дает, мне думается, основание сделать вывод, что в глазах тверских феодалов отпор, полученный ими в Торжке, являлся не актом сопротивления, которое во время войн один соперник оказывает другому, ему равному. С их точки зрения, жители Торжка «вознеслись», «возгордились» и подняли руку на своих властей. Словом, судя и по содержанию, и по манере изложения Рогожского летописца, речь должна идти о городском восстании.
И далее летописец ведет рассказ в том же направлении. Собрав войско, Михаил Александрович 31 мая подошел к Торжку и потребовал, чтобы ему выдали тех, кто избил тверских купцов и захватил их имущество, а также приняли обратно его наместников: «кто моих тферичь бил и грабил, тех ми выдайте, а аз оу вас не хочу ничего, а наместника моего посадите». Но в городе продолжалась «котора», «весь град» был объят «злобою», не желая «покоритися» князю Михаилу. Новгородцы и новоторжцы, «въружася» и «похвалившеся силою своею и мужьством», вышли из города и начали сражение с тверской ратью. Итак, весь «град», все городское население поднялось на борьбу с тверскими властями, от гнета со стороны которых оно только что освободилось в результате «которы» (восстания).
Примерно так же (только в ином аспекте, не столь благожелательном к тверскому великому князю) излагают события в Торжке и другие летописцы. «И бысть между ими раздор, и смятеся весь град, иже ни мало хотяху покоритися, и посылаху послы своя с ответы, а все с высокоумием…», – читаем в Новгородской третьей летописи. Опять подчеркиваются «раздор», «смятение» в Торжке, «высокоумие» новоторжских «граждан» (горожан), которые («купно» с новгородскими боярами) отправляются «битися со тверичи». Словом, во всех летописях речь идет о вооруженном выступлении против тверских феодалов, сначала захвативших власть в Торжке, а затем оттуда изгнанных.
«На поле» за городом произошло большое сражение («бысть у них сеча велика»). Ряд новгородских «мужей», возглавлявших новгородские военные силы, пали в бою. Было убито и много рядовых воинов, многие попали в плен. После этого среди новгородцев, произошло замешательство («смятошася зело»). Часть их обратилась в бегство «на поле» (в направлении Великого Новгорода), часть стала отступать к Торжку. Воспользовавшись замешательством в рядах противника, тверичи подожгли новоторжский посад. Все летописи как будто сходятся в том, что тверские войска одержали победу из-за отступления новгородцев. Новоторжские горожане («граждане»), по-видимому, держались стойко.
Все летописцы (сочувствующие как тверскому князю, так и новгородским «мужам» или новоторжским «гражданам») одинаково говорят, что поджог Торжка причинил ужасные бедствия его жителям. По Рогожскому летописцу, благодаря сильному ветру город сразу весь воспламенился и скоро превратился в пепел («и удари с огнем ветр силен на город, и поиде огнь по всему городоу, и погоре город весь»; «в едином часе бяшеть всем видети град велик, бещисленое множество людии в нем, в том же часе пожьже его огнь, и преложишеться в вуглие, и потом пепел…»). Люди гибли в пламени пожара на площадях и улицах; прятались в каменных церквах, но огонь охватывал их и там; бежали к реке и тонули. Те же, «кто избежал из города от огня», остались нищими, ибо ничего не могли захватить с собой из имущества.
Новгородская первая и другие летописи дополняют эту жуткую картину рассказом о бесчинствах, которые творили на пепелище, где когда-то был город, тверские войска [1829]1829
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 101–103; т. XV, стр. 431–433; т. III, стр. 230; т. IV, стр. 68–69; т. V, стр. 232–233; т. VII, стр. 19–20; т. XI, стр. 18–19; т. XVIII, стр. 113; т. XX, стр. 194–195; т. XXIII, стр. 117–118; т. XXIV, стр. 128–129; НПЛ, стр. 371–372.
[Закрыть]. Власть тверских феодалов над Торжком была восстановлена. Новгородское правительство было вынуждено мириться с тверским князем Михаилом Александровичем и направило ему проект мирных условий [1830]1830
ГВНП, стр. 32–33, № 17. См. об этом договоре Л. В. Черепнин, указ. соч., ч. 1, стр. 311–317.
[Закрыть].
В середине 1372 г. великий тверской князь Михаил Александрович в третий раз подговорил к походу на Русь Ольгерда Гедиминовича. По-видимому, то обстоятельство, что Михаилу Александровичу удалось при помощи литовских князей захватить несколько городов, побудило Ольгерда еще раз испытать свои силы в борьбе с Московским княжеством. Под Любутском (по одним летописям, 12 июня, по другим, 12 июля) литовские и тверские войска соединились. Московская рать во главе с великим князем Дмитрием Ивановичем вышла им навстречу. Согласно данным Рогожского летописца и Тверского сборника, полки неприятелей выстроились друг против друга близ Любутска. Их разделял овраг, а кругом раскинулся лес («бяшеть бо дебрь глубока зело»). Простояв несколько дней, неприятели разошлись, согласившись на мир («и бяшеть им враг от в спасение», – говорит летопись [1831]1831
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 103; т. XV, стр. 433.
[Закрыть]). По Ермолинской и другим летописям, московская рать сначала разбила сторожевой литовский полк; тогда в войске Ольгерда произошло замешательство («замятня»), что и заставило его уйти за овраг. А последний был настолько крут и глубок, что неприятели не могли из-за него вступить в бой и поэтому заключили мир [1832]1832
ПСРЛ, т. XXIII, стр. 118; т. IV, стр. 69; т. V, стр. 233; т. VIII, стр. 20; т. XI, стр. 19; т. XVIII, стр. 113; т. XX, стр. 194–195; т. XXIV, стр. 129.
[Закрыть]. Обе летописные версии производят несколько странное впечатление. Как будто у противников и не было серьезных военных намерений! Можно лишь думать, что Ольгерд излишне доверился информации своего зятя, тверского князя, о состоянии Московского княжества. Он недооценил военную крепость последнего, столкнувшись же лицом к лицу с вооруженными московскими силами, предпочел уклониться от решительной схватки.
Одним из средств воздействия на тверского великого князя Михаила Александровича явились для Дмитрия Донского выкуп в Орде его сына Ивана Михайловича (на это московский князь не пожалел «серебра») и заключение его в Москве («и начаша его держати в-ыстоме»). Михаил Васильевич кашинский снова «целование сложил ко князю к великому к Михаилу Александровичу», и явился в Москву «в ряд» (т. е., очевидно, для заключения договора с великим князем Дмитрием Ивановичем), а затем поехал в Орду (по-видимому, для получения кашинского удела как независимого от великого тверского князя Михаила Александровича владения). В 1373 г., после смерти Михаила Васильевича кашинского, его сын со своими боярами снова перешел на службу к Михаилу Александровичу тверскому («приехал» к нему «с челобитием и вдашася в его волю»).
После рассказа о всех вышеизложенных актах московского и тверских князей летописи вдруг неожиданно для читателей сообщают о заключении мирного договора между Дмитрием Ивановичем московским и Михаилом Александровичем тверским. Первый отпустил из заточения в Тверь сына Михаила – Ивана Михайловича, последний вывел своих наместников из Торжка [1833]1833
Обязательство об этом имеется в договоре, заключенном во второй половине 1373 г. или в начале 1374 г. Михаилом Александровичем с новгородским правительством (ГВНП, стр. 33–34, № 18. См. Л. В. Черепнин, указ. соч., ч. 1, стр. 311, 316).
[Закрыть]. И летописец с удовлетворением восклицает: «И бышеть тишина, и от оуз разрешение Христианом, и радостию възрадовалися, а врази их облекошася в студ» [1834]1834
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 104–105; т. XV, стр. 433–434; т. XI, стр. 19.
[Закрыть]. У читателя остается недоумение: почему вдруг сразу такая идиллия? А перелистывая летопись дальше, задаешь и другие два вопроса. Почему эта идиллия столь быстро кончилась и уже в 1375 г. московский князь Дмитрий Иванович организовал поход против своего бывшего противника и недавнего союзника, закончившийся взятием Твери? И как удалось Дмитрию Ивановичу собрать для этого похода военные силы из целого ряда русских княжеств?
Ответ на все эти недоуменные вопросы может быть лишь один: мирный договор 1374 г. обе стороны рассматривали как временную передышку и обе они готовились к новой войне.
Поводом к новой московско-тверской войне послужил отъезд из Москвы в Тверь в 1374 г. сына московского тысяцкого Ивана Васильевича Вельяминова и крупного представителя московского купечества Некомата Сурожанина. Чем был вызван отъезд указанных лиц? Перед рассказом об этом событии летописи сообщают, что в сентябре 1373 г. в Москве умер «последний тысяцьскыи» Василий Васильевич Вельяминов «в черньцех и в скиме» [1835]1835
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 108–109; т. XV, стр. 334; т. VI, стр. 69; т. VIII, стр. 21; т. XI, стр. 21; т. XVIII, стр. 115; т. XX, стр. 195; т. XXIII, стр. 118; т. XXIV, стр. 130.
[Закрыть]. Со смертью В. В. Вельяминова должность московского тысяцкого была великим князем Дмитрием Ивановичем упразднена. Это вызвало протест со стороны сына последнего тысяцкого И. В. Вельяминова и некоторых московских купцов, к числу которых принадлежал прежде всего Некомат Сурожанин. Раздраженные политикой московской великокняжеской власти, два названных лица переехали в Тверь на службу к противнику князя Дмитрия Ивановича – Михаилу Александровичу.
Можно ли считать ликвидацию должности тысяцкого в Москве наступлением великого князя на права горожан? Если ответить на этот вопрос положительно, то становится непонятным, почему это наступление началось как раз накануне намечавшейся войны Московского княжества с Тверским? Не подрывал ли подобным мероприятием князь Дмитрий Иванович свою собственную опору? Вспомним, что в предшествующие годы как раз поддержка горожан в значительной мере обеспечила ему победу над тверским князем. Заглядывая несколько вперед, мы можем увидеть, что и в 1375 г., во время похода на Тверь, московский князь также в большой степени опирался на городские полки. Наконец, для оценки характера политики Дмитрия Ивановича московского в отношении городов в годы, предшествующие московско-тверской войне 1375 г., весьма важно также привлечь летописное известие о построении в 1374 г., по инициативе двоюродного брата Дмитрия Ивановича – князя Владимира Андреевича серпуховско-боровского кремля в Серпухове. Горожанам («гражаном»), живущим в Серпухове, лицам, прибывающим туда для торговли («человеком торжьствующим») и вновь обосновывающимся в городе на поселение («людем приходящим»), князь предоставил «великую волю и ослабу и многоу льготу…» [1836]1836
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 106; т. VIII, стр. 21; т. XI, стр. 20; т. XVIII, стр. 114; т. XX, стр. 195; т. XXIII, стр. 118; т. XXIV, стр. 130.
[Закрыть]. Речь идет о податных льготах горожанам и о каких-то правах городского самоуправления. При этом городское население было подчинено княжескому наместнику – окольничему Я. Ю. Новосильцу. Вряд ли Владимир Андреевич действовал в отношении горожан иначе, чем его двоюродный брат – великий князь московский. Поэтому можно думать, что упразднение тысяцких в Москве в 1373 г. вовсе не преследовало цели ухудшения экономического положения и ущемления прав горожан, а ставило своей задачей подчинение горожан (через великокняжеского наместника) непосредственно великому князю, при сохранении тех льгот и привилегий, которыми они ранее пользовались. Тысяцкие, выходцы из крупной боярской фамилии Вельяминовых, обладавшие значительными земельными владениями и политической силой, связанные с видными представителями городской купеческой верхушки, становились серьезными соперниками московских великих князей. Надо было их устранить, не отказываясь от союза с горожанами, а, напротив, стараясь сделать этот союз более крепким. Именно так и поступил великий князь Дмитрий Иванович. Тем самым он превратил своего политического соперника, сына последнего тысяцкого – И. В. Вельяминова, в прямого противника, открыто переметнувшегося на сторону врага Московского княжества – князя тверского. И. В. Вельяминов нашел единомышленников (в лице Некомата Сурожанина, а может быть, и других) и среди видных зажиточных московских купцов, по своему положению уже приближающихся к феодалам.