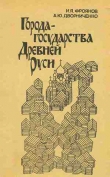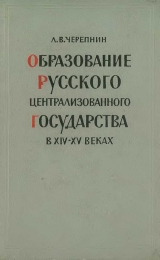
Текст книги "Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси"
Автор книги: Лев Черепнин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 77 страниц)
С середины 50-х годов XIV в. наблюдается дальнейшая активизация наступления литовских феодалов на русские земли. В 1356 г. литовские войска захватили Белую и Ржеву и «повоевали» Брянск и Смоленск [1766]1766
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 61; т. XVIII, стр. 97.
[Закрыть]. В 1357 г. Брянск перешел под власть Литвы. Незадолго перед этим ярлык на брянское княжение получил в Орде князь Василий смоленский, который вскоре умер. После его смерти в Брянске имели место какие-то волнения. Как говорит летопись, «лихостию лихих людей» там произошла «замятьня велика», приведшая к «опустенью града» [1767]1767
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 65.
[Закрыть]. Можно думать, что утверждение литовского господства в Брянске вызвало антифеодальное выступление горожан, имевшее в тоже время освободительный характер. В 1358 г. можайская и волоколамская рати «выслали вон» литовцев из Ржевы, но в следующем, 1359 г. город снова попал в руки литовских феодалов. Тогда же под власть Ольгерда перешел Мстиславль и он «литву свою в немь посадил». Попытка смольнян освободить от литовского гарнизона Белую успеха не имела [1768]1768
Там же, стр. 67–68.
[Закрыть].
Агрессия на Русь литовских феодалов в значительной мере затрудняла процесс объединения русских земель. Наряду с борьбой против ордынского ига русский народ должен был вести борьбу и с литовскими захватчиками. Это распыляло его силы.
* * *
На северо-западную границу Руси с 30–40-х годов XIV в. участились набеги шведских войск и отрядов ливонских рыцарей. Отражали эти нападения военные силы Новгородской и Псковской земель. Но собственных их сил для борьбы с иноземной агрессией было недостаточно. Поэтому Новгород и Псков искали помощи как у русских, так и у литовских князей, а возможность и стремление оказать такую помощь новгородскому и псковскому населению в значительной мере определяли политический успех тех или иных князей в Новгородской и Псковской землях.
Как указано, некоторые новгородские области, в том числе Карельская земля, в 1333 г. были переданы «в кормление» новгородскому князю Нариманту Гедиминовичу. Это обстоятельство было, по-видимому, связано с ухудшением положения карельского населения и поэтому вызвало его недовольство новгородским правительством. В 1338 г. в Корельском городке вспыхнуло восстание против Новгорода. Карелы вошли в сношения со шведами, перебили при их участии русских (новгородских и ладожских) купцов, затем убежали в Выборг и оттуда совершали нападения на русское население. Трудно сказать, в какой мере в восстании 1338 г. играли роль моменты борьбы трудового карельского населения против феодальной эксплуатации и фискального гнета со стороны новгородских землевладельцев и литовского князя-наместника и в какой мере в нем проявились сепаратистские тенденции карельской знати к отделению от Новгорода. Последнее обстоятельство, вероятно, имело место. Это видно из того, что инициатива сдачи Корельского городка шведам принадлежала воеводе Валиту Корелянину (очевидно, представителю социальной верхушки карельского населения). Правда, через некоторое время он снова перешел на сторону новгородцев и помог им вернуть Корельский город [1769]1769
НПЛ, стр. 348; ПСРЛ, т. V, стр. 220.
[Закрыть].
Во время новгородско-шведской войны литовский князь Наримант не оказал новгородцам поддержки. После ряда военных действий шведских войск в Обонежье, под Ладогой, в районе Толдожского погоста и т. д. и ответного похода новгородцев в шведские области, населенные карелами, в 1339 г. между Новгородом и Швецией был заключен мир [1770]1770
НПЛ, стр. 348–350.
[Закрыть].
Хотя после подавления в 1340 г. восстания в Торжке великий князь Семен Иванович и направил в Новгород своего наместника, фактически московская великокняжеская власть никакой военной помощи новгородцам против иноземных захватчиков не оказывала. В первые годы правления князя Семена позиции московской великокняжеской власти в Новгородской земле были вообще слабы и новгородские власти ориентировались скорее на противников Москвы. Не случайно в 1342 г. из Твери в Новгород приехал якобы для обучения грамоте у архиепископа Василия молодой тверской князь Михаил (сын Александра Михайловича) [1771]1771
Там же, стр. 354.
[Закрыть].
Лишь в 1346 г. наметилось московско-новгородское сближение., вызванное, по-видимому, в значительной мере задачами общей борьбы с литовской агрессией. Новгородский архиепископ Василий приезжал в Москву «звать князя великаго в Новгород». Это было официальное приглашение великому московскому князю занять новгородское княжение. Семен Иванович принял это приглашение, побывал в Новгороде, а оттуда отправился в Орду. Во время пребывания Василия в Москве митрополит Феогност пожаловал ему право носить «кресчатые ризы» – символ известной самостоятельности новгородской церкви. Пожалование это было, по-видимому, во-первых, вознаграждением за то рвение, которое Василий, как представитель господствующей церкви, проявил в борьбе с еретиками. Во-вторых, передача митрополитом новгородскому архиепископу «кресчатых риз» представляла собой как бы компенсацию за официальное признание им власти московского великого князя [1772]1772
Там же, стр. 358.
[Закрыть].
Новгороду скоро потребовалась помощь со стороны московских военных сил. В 1348 г. шведский король Магнус предпринял поход в Ижорскую землю. Это был настоящий крестовый поход, во время которого местное население подвергалось насильственному обращению в католичество. Захватив Орехов, король, по словам летописи, «ижеру почал крестити в свою веру, а который не крестятся, а на тых рать пустил». Новгородское правительство обратилось за поддержкой к великому князю Семену Ивановичу. Тот дипломатично обещал новгородцам свою помощь, но долгое время оттягивал свою поездку в Новгород, а отправившись туда, вернулся с дороги и в конце концов послал вместо себя своего брата Ивана Ивановича. Но и тот не стал участвовать в военных действиях и, «не приняв владычня благословенна и новгородского челобитья», быстро выехал из Новгорода [1773]1773
НПЛ, стр. 360.
[Закрыть]. Это было время политических осложнений между Литвой и Русью, и московским князьям было не до Новгорода [1774]1774
А. Е. Пресняков, Образование Великорусского государства, стр. 288.
[Закрыть].
После того как Магнус отошел от Орехова, оставив там военный гарнизон, новгородцам удалось освободить от шведов город.
В 1350 г. новгородцы перешли в наступление на шведов, совершили поход к Выборгу «и волость около города воеваша и пожьгоша» [1775]1775
НПЛ, стр. 362.
[Закрыть]. Это был значительный военный успех. Шведские набеги на Новгородские земли надолго прекратились.
Поход Магнуса на Ижорскую землю 1348 г. послужил темой для одного литературного произведения, сохранившегося в некоторых русских летописях, – «рукописания», или «духовной грамоты», Магнуса. Произведение отличается сатирическим характером. В форме рассказа самого шведского короля изображен ряд неудач (полупечальных – полукомических эпизодов), которые претерпел Магнус вследствие своей неудачной попытки завоевать Новгородские земли. В начале «рукописания» дана краткая историческая справка о русско-шведских отношениях начиная с 40-х годов XIII в., причем проводится мысль, что всякие попытки шведской агрессии встречали со стороны русских (со времен князя Александра Ярославича Невского) отпор [1776]1776
ПСРЛ, т. VII, стр. 216–217.
[Закрыть].
Итак, Московское княжество постепенно занимает все более видное место среди других княжеств. Московское правительство стремится усилить свои позиции в Новгороде, Твери, Нижнем Новгороде и в ряде случаев добивается этого, завоевывая авторитет у местных феодалов. Но в рассматриваемый период московские князья не делают еще серьезной попытки наступления на других крупных русских князей. Это объясняется в значительной мере тем, что, с одной стороны, обострение классовой борьбы, а с другой стороны, усложнение внешнеполитической обстановки (нападения на Русь литовских, шведских феодалов, ливонских рыцарей) требовали консолидации сил феодалов разных княжеств. Правда, такая консолидация далеко не всегда имела место.
В отношении Орды московские князья продолжают сохранять покорность, откупаясь народными средствами от татарских набегов. Подобная политика имела известное положительное значение в том смысле, что развитие Руси совершалось теперь в условиях большей безопасности от нападений ордынских князьков и феодалов. Но если такая политика и способствовала возвышению Московского княжества, то надо всемерно подчеркнуть, что фундамент Московского княжества – основы будущего Русского централизованного государства – был заложен народным трудом, доставлявшим те средства, которые князья отвозили в Орду, отводя от Руси ее удары.
§ 7. Социальные движения в Московском княжестве в 40–50-х годах XIV в. Борьба между Московским и Нижегородским княжествами в конце 50 – начале 60-х годов XIV в.
Задачи внутренней политики ближайших преемников Калиты – трех его сыновей (Семена, Ивана и Андрея) в пределах земель, присоединенных к Московскому княжеству, были сформулированы в их договорной грамоте, относящейся к 1350–1351 гг. [1777]1777
Л. В. Черепнин, указ. соч., ч. 1, стр. 23.
[Закрыть]
Данное докончание завершило усобицу между великим московским князем Семеном Ивановичем и его братьями, которую можно считать первой феодальной распрей в среде князей – потомков Калиты. В распре этой приняло участие боярство, она затронула и другие слои московского общества.
Данные о феодальной усобице можно почерпнуть из самой грамоты 1350–1351 гг. Во-первых, показательна следующая статья: «А кто имет нас сваживати [наши бояре?] [1778]1778
Здесь грамота разорвана, и текст восстанавливается предположительно.
[Закрыть], исправы ны учинити, а нелюбья не держати, а виноватого казнити по исправе». Из статьи можно сделать вывод, что между князьями произошла какая-то ссора, отражавшая в значительной степени борьбу между разными группами боярства, поддерживавшими разных князей. Во-вторых, в докончании сыновей Калиты имеется указание на конкретного виновника княжеской «свады», боярина Алексея Петровича Хвоста. Он «вшел в коромолу к великому князю», т. е. принял участие в заговоре против Семена Ивановича, и поплатился за это. Князь Семен Иванович потребовал от своих братьев, чтобы они не принимали виновного боярина к себе на службу и предоставили великому князю расправиться с Алексеем Хвостом и его семьей так, как он сочтет нужным («…волен в нем князь великии и в его жене и в его детех»). Имущество Алексея Петровича Хвоста было конфисковано великим князем; часть этого имущества последний передал своему брату Ивану, взяв с него обязательство ничего не возвращать опальному боярину и не оказывать ему никакой поддержки [1779]1779
ДДГ, стр. 13, № 2.
[Закрыть].
Княжеская усобица середины XIV в. нашла известный отклик в духовной грамоте великого князя Семена Ивановича 1353 г. Воспоминаниями об этой усобице, по-видимому, продиктована заключительная часть этой грамоты, в которой князь Семен дает совет своим братьям соблюдать политическое единство («жити заодин»), следуя завещанию их отца Ивана Калиты, не слушаться «лихих людей», которые станут разжигать между князьями вражду («…хто иметь вас сваживати»), а опираться на «старых бояр, хто хотел отцю нашему добра, и нам» [1780]1780
Там же, стр. 14, № 3.
[Закрыть]. Очевидно, Семен Иванович различает среди московского боярства дие группы: сторонников и противников великокняжеской власти. Первых он именует «старыми боярами», вторых (к ним, конечно, принадлежал и Алексей Хвост) – «лихими людьми».
Если договор Семена с братьями, завершивший княжескую «сваду», был заключен в 1350–1351 гг., то, следовательно, сама «свада» относится примерно к 1349–1350 гг. Для Московского княжества рубеж 40-х и 50-х годов XIV в. был временем внешнеполитических осложнений. Как указывалось в предыдущем параграфе, в это время литовский великий князь Ольгерд сделал попытку заключить союз с Ордой против Московского правительства. Войска короля Магнуса напали на Новгородскую землю, и Новгород обратился за военной помощью к великому князю московскому. Московское правительство сумело, как было указано, парализовать возможность литовско-ордынского сближения. Но это, надо думать, было достигнуто путем каких-то обязательств (вероятно, прежде всего финансового характера, по уплате новой дани), взятых московским великим князем перед Ордой. Необходимость улаживать дела Московского княжества в Орде отвлекала князя Семена Ивановича и от активного участия в новгородских делах. В 1348 г. он отправился с войском в Новгород, с тем чтобы поддержать его в борьбе со шведскими захватчиками, но вынужден был вернуться в Москву, поскольку туда прибыли ордынские послы.
В другой своей работе я уже указывал, что выступление части боярства (в том числе Алексея Петровича Хвоста) с оппозицией великому князю Семену Ивановичу было вызвано недовольством ориентацией последнего на союз с Ордой [1781]1781
Л. В. Черепнин, указ. соч., ч. 1, стр. 22.
[Закрыть]. К тому, что я говорил ранее, я теперь добавил бы, что это недовольство выразилось, вероятно, во-первых, в критике московского правительства за его стремление удовлетворить денежные запросы Орды, что приводило к отягощению поборами русского населения (прежде всего горожан). Во-вторых, по. всей вероятности, оппозиционным боярством ставился вопрос относительно того, что великий князь неумело руководит военными силами и это приводит его к подчинению всем требованиям Орды и вообще к пассивности в области внешней политики. В договорной княжеской грамоте 1350–1351 гг. имеется такое условие: «А что ся оучинить просторожа от мене или от вас, или от моего тысяцьского и от наших наместников, исправа ны оучинити, а нелюбья не держати» [1782]1782
ДДГ, стр. 13, № 2.
[Закрыть]. Очевидно, московскому великому князю предъявлялся упрек в каком-то конкретном военном просчете («простороже»).
Вероятно, выступая против Семена Ивановича, Алексей Хвост и его единомышленники пытались найти поддержку со стороны братьев великого князя, и это им удалось. Между князьями произошла «свада», во время которой (судя по их последующему договору 1350–1351 гг.) был поднят ряд политических вопросов (о правах удельных князей, об организации государственного аппарата и вооруженных сил и т. д.). Лишь после того, как все недоразумения по указанным пунктам были урегулированы специальным договорным трактатом и удельные князья отказались от дальнейшей поддержки Алексея Хвоста, княжеская распря закончилась. Видно, что князь Семен добился для себя ряда преимуществ материального и политического характера, что привело к усилению великокняжеской власти.
После смерти в 1353 г. Семена Алексею Петровичу удалось восстановить свое положение. В 1357 г., как видно из летописного известия о его насильственной смерти, он был тысяцким. Можно предполагать, что в своей борьбе за власть Алексей Петрович находил опору в среде горожан, чему не могла не содействовать его оппозиция политическим мероприятиям покойного князя Семена Ивановича, в интересах Орды усиливавшего налоговый гнет.
После смерти Семена Ивановича в среде московского боярства разгорелась новая борьба, принявшая особенно обостренные формы в 1357 г. Летописи рассказывают, что в феврале этого года тысяцкий Алексей Петрович был найден в Москве убитым. Труп его обнаружили на площади рано утром, «в то время, егда заоутренюю благовестять». Обстоятельства убийства остались неизвестными. По словам летописца, «оубиение же его дивно некако и незнаемо аки ни от кого же никимь же…». Но в то же время летописи подчеркивают, что насильственная смерть московского тысяцкого была результатом заговора против него ряда бояр: «Тое же зимы на Москве вложишеть дьявол межи бояр зависть и непокорьство дьяволим наоучениемь и завистью оубьен бысть Алексии Петровичь тысятьскии…» [1783]1783
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 65.
[Закрыть]
О том, что гибель Алексея Петровича последовала в результате политического убийства, осуществленного по решению его противников из числа бояр, видно также из последующих событий. Скоро после того, как погиб тысяцкий, видные московские бояре с семьями уехали в Рязань. Этот отъезд летописи ставят в прямую связь с желанием бояр избежать ответственности за совершенное ими убийство. «Тое же зимы по последьнемоу поути большие бояре московьскые того ради оубииства отъехаша на Рязань с женами и з детьми». Если вспомнить, что Рязанское княжество вело в это время враждебную политику в отношении княжества Московского, что в 1353 г. рязанские войска захватили принадлежавшую до этого Москве Лопастну, то станет ясно, что московские бояре за пределами своего княжества нашли приют в неприязненном московскому правительству феодальном лагере. Вероятно, у московских и рязанских бояр был предварительный сговор.
Из кратких летописных известий трудно составить представление о расстановке сил среди московского боярства. Но, по-видимому, группа Алексея Хвоста проводила курс на укрепление Московского княжества, усиление его военных сил и постепенное освобождение его политики от опеки Орды. Группа Василия Васильевича Вельяминова, бывшего тысяцким при князе Семене, надо думать, отстаивала линию подчинения Орде и была против активизации внешней политики Московского княжества. Если все, что я говорю, верно, то становятся понятными известия летописей о дальнейшей судьбе московских бояр, бежавших в Рязань. Рогожский летописец рассказывает, что князь Иван Иванович, побывав в 1358 г. в Орде, «принял» там бояр, которые «были на Рязани», – среди них Василия Васильевича (вероятно, имеется в виду Вельяминов). Согласно Никоновской летописи, Иван Иванович по возвращении из Орды в Москву вызвал туда двух бояр, «иже отъехали были от него на Рязань» [1784]1784
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 66; т. X, стр. 230.
[Закрыть]. Очевидно, в Орде линия поведения указанных бояр получила одобрение.
Последний вопрос, связанный с политической борьбой, происходившей в Москве в 1357 г., сводится к следующему: вышла ли эта борьба за пределы чисто боярской среды и затронула ли она более широкие общественные круги? Думаю, что имеются основания ответить на этот вопрос утвердительно. Уже то обстоятельство, что труп московского тысяцкого был выброшен в центр Москвы, на площадь, говорит за то, что убийцы хотели устрашить горожан. Последние в свою очередь, очевидно, реагировали на убийство тысяцкого активно. Никоновская летопись отмечает, что отъезд в 1357 г. бояр был вызван в значительной мере «мятежом», поднявшимся в Москве из-за убийства Алексея Петровича. «И бысть мятежь велий на Москве того ради убийства» [1785]1785
ПСРЛ, т. X, стр. 229.
[Закрыть]. М. Н. Тихомиров, по-моему, с достаточным основанием предполагает, что бегство бояр из Москвы в 1357 г. «может быть объяснено выступлением против них черных людей [1786]1786
М. Н. Тихомиров, Древняя Москва, стр. 133; его же, Средневековая Москва в XIV–XV веках, стр. 222 и 172–175.
[Закрыть]. Но особенно интересно, с моей точки зрения, то обстоятельство, что события, связанные с убийством Алексея Петровича в 1357 г., напомнили летописцу обстоятельства убийства около 200 лет тому назад князя Андрея Юрьевича Боголюбского. «Неции же рекоша, яко втаю свет сотвориша и ков коваша нань, и тако всех общею доумою, да яко же Андреи Боголюбыи от Кучьковичь, тако и сии от своеа дроужины пострада» [1787]1787
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 65.
[Закрыть]. А вспомним, что случилось в день гибели Андрея Боголюбского. Его убили бояре, но смерть князя дала толчок крупному восстанию, в котором приняли участие мелкие княжеские слуги, горожане, даже крестьяне. Восставшие «разграбили» княжеский двор, захватили его «имение», стали избивать княжескую администрацию. Вероятно, что-то подобное надо подразумевать под «велиим мятежом», случившимся в 1357 г. в Москве.
* * *
Говоря о внутренней политике московских князей, нельзя совсем не коснуться такого важного вопроса, как вопрос о поддержке, оказываемой московской великокняжеской власти церковью, хотя область церковных политических отношений специально не рассматривается в данной книге. С 1354 г. главой русской церкви стал один из видных представителей московского боярства – митрополит Алексей, выдвинутый на этот пост еще великим князем Семеном Ивановичем. Я не буду останавливаться на всех обстоятельствах его утверждения на русской митрополии. Эта сторона дела достаточно подробно освещена А. Е. Пресняковым [1788]1788
А. Е. Пресняков, Образование Великорусского государства, стр. 290–298.
[Закрыть]. Укажу лишь на некоторые моменты. Исследователи подчеркивают, во-первых, что поставление константинопольским патриархом в митрополиты на Русь великокняжеского кандидата и человека русского (а не византийца) по национальности было важным явлением, послужившим известным этапом в развитии русско-византийских церковно-политических взаимоотношений. Константинопольская патриаршая кафедра пошла на существенные уступки Руси, что означало важный политический успех московской великокняжеской власти.
Второе обстоятельство, отмечаемое исследователями, сводится к тому, что усилившееся в 50-х годах XIV в. наступление на Русь литовских феодалов нашло отражение и в области церковных отношений. Литовский князь Ольгерд выдвигал своих кандидатов в митрополиты: сначала Феодорита, затем Романа (родственника жены Ольгерда – Ульяны, являвшейся дочерью тверского князя Александра Михайловича). «Сын боярина тферьскаго», Роман, представлялся политически удобным кандидатом в митрополиты и тверским князьям. В 1354 г., по сообщению Рогожского летописца, произошел небывалый раскол в русской церкви («…мятежь сотворишется, чего то не бывало преже сего»). Константинопольский патриарх утвердил сразу двух митрополитов «на всю Русскую землю». Это обстоятельство, повторяю, было следствием перенесения в сферу церковных отношений политической борьбы, которая происходила в то время между Великим княжеством Литовским и княжеством Московским. Среди двух митрополитов началась распря («и бышеть межи их нелюбие велико»). Потребовалась новая поездка Алексея и Романа в Константинополь, в результате которой первый был поставлен митрополитом «на Русьскую землю», второй – митрополитом на земли «Литовьскую и на Волыньскоую» [1789]1789
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 63–65.
[Закрыть](без Киева). Таким образом, Ольгерду не удалось осуществить через константинопольского патриарха свои планы, и это обстоятельство, несомненно, означало известный политический успех Руси.
Наибольший интерес для нас представляет роль митрополита Алексея во внутренней политике московской великокняжеской власти. Я уже указывал, что он был выходцем из боярской среды (его отец – боярин Федор Бяконт). При митрополите Феогносте Алексей был его наместником, а незадолго до своей смерти Феогност поставил Алексея епископом во Владимир. Еще при жизни Семена, как я говорил, Алексей был намечен кандидатом в митрополиты. Очевидно, он принимал большое участие в политической жизни и не случайно Семен Иванович, давая в своей духовной совет своим братьям не слушать «лихих людей», кто будет их «сваживати», а следовать указаниям «старых бояр», наряду с этими боярами (и даже перед ними) упоминает «владыку Олексея».
Процитированное мною (вторично в данном параграфе) место из духовной Семена Ивановича проливает свет на политические связи владимирского епископа, а затем митрополита Алексея. Он был, следовательно, близок к тем «старым боярам», к которым принадлежал тысяцкий Василий Васильевич Вельяминов, и являлся противником тех бояр (именуемых Семеном «лихими людьми»), которые поддерживали Алексея Петровича Хвоста. Этот вывод подтверждается и другими данными. О связях Алексея говорится в его «Житии». Он находился в близких отношениях со Стефаном, братом Сергия Радонежского, а Стефан являлся духовником великого князя Семена Ивановича, тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова, брата последнего, Федора, «и других, боар старейших». Кстати сказать, представители рода Вельяминовых, из которых пост тысяцкого занимал не один Василий, были давно связаны с московской митрополичьей кафедрой. Так, в «Житии» митрополита Петра рассказывается, как он перед своей смертью, желая сделать некоторые распоряжения Ивану Калите, которого в это время не оказалось в Москве, «призывает некоего именем Протасиа, его же бе князь старейшину града поставил» [1790]1790
ПСРЛ, т. XI, стр. 31; т. X, стр. 193.
[Закрыть]. По всей видимости, речь идет о тысяцком Протасии (из рода Вельяминовых).
Если Алексей принадлежал к той группе «старых бояр», единомышленников великого князя Семена, в число которых входили Вельяминовы, то, очевидно, он разделял и их политические взгляды. В исторической литературе очень подчеркиваются национальные мотивы в деятельности Алексея. Так, А. Е. Пресняков пишет, что он «вдохнул» в великокняжескую политику «определенное идейное содержание – церковно-религиозное и тем самым национальное» [1791]1791
А. Е. Пресняков, Образование Великорусского государства, стр. 290.
[Закрыть]. Подобное утверждение требует значительных оговорок. Алексей в 50-х годах всецело разделял программу великокняжеской власти, которая еще не выдвигала лозунга борьбы с ордынским игом, а старалась избегать конфликтов с Ордой, откупаясь от нее деньгами. Так, в 1357 г. митрополит Алексей по зову ханши Тайдулы побывал в Орде. В ряде летописей об этом сказано очень коротко. И лишь в более поздних летописных сводах появляется витиеватый, рассказ о торжественной встрече, оказанной Алексею Джанибеком с его сыновьями, «князьями» и «вельможами». Встреча эта трактуется как исполнение пророчества о мирном сожительстве льва (ордынского хана) и агнца (представителя русской церкви: «…лев и агнець вкупе почиют» [1792]1792
ПСРЛ, т. XI, стр. 33.
[Закрыть]. Созданная, по-видимому, в церковных кругах, повесть о поездке в Орду Алексея консервативна, ибо она культивирует мысль о мирном, безконфликтном развитии русско-ордынских взаимоотношений, в основе же этой идеи лежали реальные линии той программы московских «старых бояр», которая разделялась и митрополитом Алексеем.
Существенной стороной деятельности митрополита Алексея было основание в разных местах монастырей [1793]1793
М. К. Любавский, указ. соч., стр. 17–30.
[Закрыть]. Эти монастыри сыграли большую роль как в распространении феодального землевладения, так и в укреплении великокняжеской власти, ибо многие монастыри как феодальные корпорации были тесно связаны с московскими князьями, являлись проводниками их политики.
* * *
После смерти в 1359 г. великого князя Ивана Ивановича митрополит Алексей сделался фактически верховным правителем в Московском княжестве, ибо сыновья покойного князя Дмитрий и Иван были еще слишком малы.
Это было время, когда уже намечались предпосылки распада Золотоордынского государства. В 60-х годах XIV в. в Орде усилились феодальные смуты. В 1357 г. к власти пришел хан Бердибек, убивший своего отца хана Джанибека и перебивший своих братьев. Об этом коротко говорит Рогожский летописец: Бердибек «отца оудави, а братью изби, а сам седе на царство» [1794]1794
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 66.
[Закрыть]. Дальнейшая междоусобная борьба в конце 50 – начале 60-х годов XIV в. привела к последовательной и очень быстрой смене в Орде ханов Кульны, Науруза, Кидыря, Тимур-Ходжы, Кильдибека и др. [1795]1795
А. Н. Насонов, Монголы и Русь, стр. 117–124; Б. Д. Грекови А. Ю. Якубовский, указ. соч., стр. 261–280.
[Закрыть]В одно и то же время в Сарае действовали два хана: Абдаллах и Кильдибек, а после смерти Кильдибека – Абдаллах и Амурат (Мюрид). От Орды отпадали целые области, захватываемые отдельными князьками: Болгары, Наручадская земля (область по реке Мокше) и т. д.
Интересно, что в русских летописях подробно описаны ордынские смуты. «И бысть в Орде замятня велика» [1796]1796
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 69.
[Закрыть], – читаем в Рогожском летописце, который на конкретных фактах раскрывает ход этой «замятни». Очевидно, русские политические деятели и публицисты с интересом следили за тем, что делалось в Орде, ибо это их интересовало практически: распри ордынских правителей русские князья и феодалы использовали в своих целях.
В это время на Руси начинается серьезная и упорная борьба за великое владимирское княжение между князьями наиболее крупных феодальных центров. Такой борьбе предшествовал (как было показано в предыдущем параграфе) период, когда существовала система некоторого (более или менее устойчивого) политического равновесия между отдельными княжествами. Подобная система содействовала политической концентрации (в условиях известного экономического подъема) ряда княжеств. Теперь они вступают в длительную борьбу между собой.
Участниками первого тура борьбы за великое владимирское княжение были князья московский и нижегородский. После того как к власти в Орде пришел Науруз, он передал в 1360 г. великое княжение владимирское суздальско-нижегородским князьям. Великим князем всея Руси стал Дмитрий Константинович суздальский, сын князя Константина Васильевича [1797]1797
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 68–69; т. XVIII, стр. 100.
[Закрыть]. Судя по сведениям летописей, на поклон к Наурузу приходили и другие русские князья, получившие от хана утверждение своих прав на их владения: «и бысть им в Орде роздел княжением их, и которой же сих по временом своим възвратишася въсвояси, и кои же их прииде в свою отчину» [1798]1798
ПСРЛ, т. XVIII, стр. 100; т. XV, вып. 1, стр. 68.
[Закрыть]. Таким образом, система ордынского властвования над Русью оставалась в силе.
Новое путешествие русских князей в Орду относится к 1361 г., когда ханом стал Кидырь. Большинство князей, явившись в Орду, застало здесь новую усобицу, во время которой Кидырь был убит, а после его убийства завели между собой жестокую кровавую распрю претенденты на его место. Лишь московский князь Дмитрий успел вернуться на Русь до «замятни». Другие князья, не сумев выехать вовремя, были свидетелями ордынской «замятни» и некоторые из них пострадали – каждый по-разному. Описание в летописных сводах тех приключений, которыми сопровождалось обратное путешествие князей из Орды в русские земли, интересно не столько бытовыми подробностями, сколько тем, что дает яркую и убедительную картину того кризиса власти, который наблюдался в это время в Орде. Князя Константина ростовского с его спутниками «в замятию ту» ограбили донага («и телеса их обнажиша», «не остася на них ни исподних порт»), а сами они раздетыми и едва живыми («…нази токмо живи») пешком ушли к себе домой. Князь Василий Михайлович тверской поторопился выбраться из Бездежа, оставив там все бывшие с ним денежные средства («а сребро там поклал»). Князь Андрей Константинович нижегородский убежал из Орды, но его окружили татарские полки, и он должен был выдержать с ними бой. «И начата татарове отступати его с обаполы и со все стороны, князь же Андреи, поострив крепость свою и не убояся грозы их, понапрасно устремився и пробивсе сквозе полкы татарьскыя, биючеся с ним и, и тако божиею милостию приеха на Русь добр здрав». Великий князь Дмитрий Константинович переждал ордынскую усобицу в Сарае и поэтому остался цел [1799]1799
ПСРЛ, т. XV, вып. 1, стр. 71.
[Закрыть].
Кровавые феодальные междоусобия, происходившие в Орде в начале 60-х годов XIV в. и явившиеся серьезным признаком ее близкого распада, в качестве одного из последствий имели расстройство торгового обращения по разветвленным артериям Волжского водного пути. Орда выбрасывала массу мелких феодальных князьков и царевичей с дружинами из числа потерпевших неудачи на пути продвижения к власти и пробавлявшихся грабежами в русских пределах. Освобождение Волжского пути от татарских грабителей становилось для Руси насущной потребностью. Не случайно на протяжении 60–70-х годов XIV в. в ряде русских земель и особенно в тех местах, куда чаще всего совершали набеги различные татарские князьки, в Нижегородском княжестве, в пределах Рязанской земли, население (горожане в первую очередь) поднимается на борьбу с полчищами ордынских феодалов. В то же время поставить под свой контроль волжскую магистраль стремятся и правительственные круги отдельных русских земель. Новгородские бояре как раз в 60–70-х годах XIV в. (конечно, учитывая ослабление политической целостности Орды в результате раздиравших ее внутренних смут) выбрасывают в пределы Волжско-Камского бассейна отряды ушкуйников.