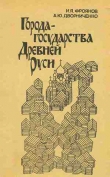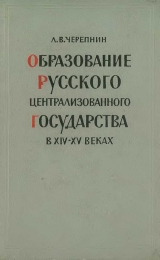
Текст книги "Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси"
Автор книги: Лев Черепнин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 77 страниц)
В 1946 г. в журнале «Вопросы истории» была напечатана статья П. П. Смирнова «Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв.» [322]322
П. П. Смирнов, Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. («Вопросы истории», 1946, № 2–3, стр. 55–90).
[Закрыть]. Опубликование этой статьи открыло дискуссию, заострившую внимание исследователей на данной проблеме. Подвергнув критике работы дореволюционных и советских историков, П. П. Смирнов пришел к печальному выводу о том, что советские ученые «не сумели отойти от традиционного дворянско-буржуазного понимания… природы и развития» централизованного государства [323]323
Там же, стр. 60.
[Закрыть], советская историография, не создав марксистско-ленинской концепции по этому вопросу, довольствуется «кое-как подправленными устарелыми представлениями ученых XIX столетия» [324]324
Там же, стр. 70.
[Закрыть]. Обвиняя советских историков, писавших об образовании Русского централизованного государства, в эклектизме [325]325
Там же, стр. 66.
[Закрыть], П. П. Смирнов предлагает собственное, якобы «монистическое», решение проблемы «об условиях, причинах и процессе образования Русского национального государства» [326]326
Там же, стр. 71.
[Закрыть]. Исходя из предпосылки, что «решающим фактором в развитии общества является… развитие производительных сил, проявляющееся обычно в изменении техники производства ведущей отрасли народного хозяйства» [327]327
Там же, стр. 70.
[Закрыть], П. П. Смирнов ищет первопричину образования централизованного государства в изменениях в области техники земледелия. П. П. Смирнов обращает внимание на то, что в русском переводе «земледельческого закона» – византийского юридического памятника VII–VIII вв., датируемом им (вслед за А. С. Павловым) временем Ивана Калиты, упоминается «лемеш» (рабочая часть плуга). Отсюда он делает вывод, что «появление лемеша… в хозяйственном инвентаре Северо-Восточной Руси XIV в. означало переход сельскохозяйственной техники на новый, высший этап развития…», именно «переход от подсечной переложной системы хлебопашества к системе паровой зерновой с трехпольным севооборотом…» [328]328
П. П. Смирнов, Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв., стр. 77.
[Закрыть]. В связи с этим увеличивалось производство хлеба, росла и торговля им.
Развитие производительных сил вызвало изменения в производственных отношениях. Наряду с крупными феодалами (князьями, боярами, церковью) стали укрепляться средние и мелкие землевладельцы (дети боярские, дворяне). С другой стороны, из среды крестьянства выделяются ремесленники, «сосредоточием которых становятся великокняжеские города и слободы, где возникают рынки внутреннего обмена» [329]329
Там же, стр. 81, 82.
[Закрыть]. Таким образом, два основных класса феодального общества (феодалы и крестьяне) «раскалывались каждый на две борющиеся между собою группы или подклассы», причем в происходившей внутриклассовой борьбе «преимущества были на стороне вновь возникающей части: мелкие феодалы-дворяне одерживали верх над крупными боярами и церковью, а горожане – посадские люди – над крестьянством, из недр которого они были рождены дыханием новой жизни». Русское централизованное государство и явилось, по П. П. Смирнову, государством дворянства и горожан [330]330
Там же, стр. 85.
[Закрыть].
Русское государство, пишет П. П. Смирнов, зародилось «среди лесных росчистей московского центра и прилегающего к нему «ополья», его основания были заложены упорным трудом русских крестьян и ролейных холопов, удесятеривших производительность своих полей, а вместе с тем и всего современного общества, применением плуга и трехполья» [331]331
Там же, стр. 89.
[Закрыть].
В дискуссии по вопросам о причинах образования Русского централизованного государства приняли участие И. И. Смирнов [332]332
И. И. Смирнов, О путях исследования Русского централизованного государства. (По поводу статьи проф. П. П. Смирнова). – «Вопросы истории», 1946, № 4, стр. 30–44.
[Закрыть], В. В. Мавродин [333]333
В. В. Мавродин, Несколько замечаний по поводу статьи П. П. Смирнова «Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв.» («Вопросы истории», 1946, № 4, стр. 45–55).
[Закрыть], С. В. Юшков [334]334
С. В. Юшков, К вопросу об образовании Русского государства в XIV–XV веках. (По поводу статьи проф. П. П. Смирнова). – «Вопросы истории», 1946, № 4, стр. 55–67.
[Закрыть], К. В. Базилевич [335]335
К. В. Базилевич, К вопросу об исторических условиях образования Русского государства. (По поводу статьи проф. П. П. Смирнова). – «Вопросы истории», 1946, № 7, стр. 26–44.
[Закрыть].
Работа П. П. Смирнова подверглась серьезной критике. Были отмечены неверные оценки П. П. Смирновым предшествующей историографии вопроса, неправильность его исходных методологических предпосылок и неубедительность ряда аргументов, приводимых автором в защиту главнейших конкретных положений своей статьи.
Историографическая часть работы П. П. Смирнова страдает нигилистическим отношением как к дореволюционной, так, особенно, к советской литературе. Совершенно лишено основания отрицание П. П. Смирновым принципиальной разницы между концепциями буржуазных и советских историков.
Теоретическая слабость статьи П. П. Смирнова заключается в вульгарно-упрощенном понимании монистического характера исторического материализма. Марксистское положение о том, что изменения в жизни общества начинаются с развития производительных сил, П. П. Смирнов неправильно воспринял в качестве указания на производительные силы (сведенные им только к технике земледелия) как на фактор, объясняющий все стороны процесса образования Русского централизованного государства. Отсюда – упрощенно-механистический подход к проблемам взаимосвязи производительных сил и производственных отношений, взаимодействия базиса и надстройки, в том числе обратного влияния надстройки на базис. Бросается в глаза игнорирование П. П. Смирновым тех процессов, которые определяли развитие городов и экономических связей в стране (рост ремесла, его технический уровень и социальная природа, развитие общественного разделения труда и т. д.). Неверно трактуются П. П. Смирновым те основные социальные антагонизмы, которые были связаны с процессом образования Русского централизованного государства. Нельзя принять тезис П. П. Смирнова о «расколе» под влиянием новой техники сельского хозяйства как класса феодалов, так и класса крестьян на антагонистические группы. Характерно, что главное внимание автора приковывает не классовая борьба феодалов и крестьян, а социальные противоречия внутри этих классов, между «подклассами» бояр и дворян с одной стороны, и посадских людей и крестьян – с другой (в то время как посадские люди, напротив, часто выступали вместе с крестьянами в борьбе против феодального гнета). Нельзя также недооценивать (как это делает П. П. Смирнов) и таких факторов, содействовавших образованию Русского централизованного государства, как необходимость борьбы с внешней опасностью и рост национального самосознания в связи с формированием русской народности.
Концепция образования Русского централизованного государства, предложенная П. П. Смирновым, не выдерживает проверки и с точки зрения правильности положенного в ее основу фактического материала. Главный тезис П. П. Смирнова, на котором воздвигнуто все его построение, – о появлении в Московском княжестве в первой половине XIV в. новой сельскохозяйственной техники – основан на шаткой и произвольной предпосылке о том, что переводный византийский памятник VII–VIII вв. отражает русскую экономическую действительность XIV в. (при этом спорен вопрос и о времени перевода). Цепь рассуждений П. П. Смирнова об изобретении при Иване Калите нового плуга, о переходе к трехполью, о повышении в связи с этим доходности сельского хозяйства в Московском княжестве не имеет под собой твердой почвы исторических фактов.
Но статья П. П. Смирнова имела и положительное значение, ибо она обратила внимание исследователей на наименее изученную сторону процесса образования Русского централизованного государства – на его экономические предпосылки и особенно на развитие сельского хозяйства.
Что касается научной дискуссии, развернувшейся в связи со статьей П. П. Смирнова, то она шла преимущественно в направлении критики выдвинутых им положений, а не творческой постановки новых проблем. Значение дискуссии заключается больше всего в том, что она показала настоятельную необходимость глубокого монографического изучения на конкретном материале проблемы образования Русского централизованного государства. Во время дискуссии выявились разногласия по вопросу о хронологических рамках и периодизации процесса образования Русского централизованного государства. С. В. Юшков предлагал начинать этот процесс с первой половины XIV в., другие исследователи (К. В. Базилевич, И. И. Смирнов и др.) – позднее; одни авторы видели его завершение в конце XV – начале XVI в. (К. В. Базилевич, В. В. Мавродин), другие (С. В. Юшков) – во второй половине XVI в. [336]336
Эти же разногласия повторились и во время дискуссии по вопросу о периодизации истории СССР («Вопросы истории», 1949–1951).
[Закрыть]В итоговой статье редакционная коллегия журнала «Вопросы истории» вместо творческого обобщения материалов дискуссии приняла безапелляционный директивный тон, не способствующий дальнейшему глубокому изучению данной проблемы [337]337
Об образовании централизованного государства (К итогам дискуссии). – «Вопросы истории», 1946, № 11–12, стр. 3–11.
[Закрыть].
Подъем исторической науки, наступивший в связи с критикой ошибок «школы» Покровского, проявился не только в постановке общих проблем образования Русского централизованного государства, но и в монографической разработке отдельных сторон этого вопроса. Значительное внимание стало уделяться в советской историографии аграрной истории Руси в период складывания единого государства.
Углубление изучения аграрной истории Руси XIV–XV вв. стало возможным потому, что в результате обследования ряда монастырских архивных фондов было выявлено и в значительной мере опубликовано большое количество новых актов, относящихся к этому времени [338]338
«Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в.» (далее – АСЭИ), т. I–II, М., 1952–1958; «Акты феодального землевладения и хозяйства» (далее – АФЗХ), ч. 1–2, М., 1951–1956; «Грамоты Великого Новгорода и Пскова» (далее – ГВНП), М.-Л., 1949; «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв.» (далее – ДДГ), М.-Л., 1950; «Судебники XV–XVI веков», М.-Л., 1952.
[Закрыть]. Институт истории Академии наук СССР осуществляет издание всего актового материала с древнейших времен до начала XVI в.
В книге С. Б. Веселовского «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси» исследован целый ряд вопросов, касающихся истории вотчинного и поместного землевладения, земельной политики князей и царской власти в XIV–XVI вв., характера иммунитета в это время и т. д. Многие поднятые С. Б. Веселовским темы тесно связаны с проблемой образования Русского централизованного государства (хотя она в книге непосредственно и не ставится), а наблюдения автора дают ценный материал для изучения предпосылок, направления и конкретных форм процесса политической централизации. Но вопросы истории феодального землевладения автор рассматривает по преимуществу в правовой плоскости, да и феодализм он понимает не как систему производственных отношений, основанную на классовом антагонизме, а в духе буржуазных исследователей, как совокупность юридических моментов.
Трактовка С. Б. Веселовским ряда явлений, относящихся к проблеме ликвидации политической раздробленности, вызывает возражения. Так, конечно, нельзя объяснить дроблением вотчин (в результате семейных разделов и наделения приданым женщин) подчинение великокняжеской московской власти ряда княжат и бояр, «вотчинные гнезда» которых, по мнению С. Б. Веселовского, «сыграли роль как бы питомников» профессиональных воинов – служилых людей Русского государства [339]339
С. Б. Веселовский, Феодальное землевладение в Северо-Восточный Руси, т. I, М.-Л., 1947, стр. 55.
[Закрыть]. Социальную борьбу, сопровождавшую процесс формирования единого государства, С. Б. Веселовский сводит по преимуществу к противоречиям внутри господствующего класса (видя ее проявление в столкновениях отдельных юридических норм) и почти не касаясь борьбы антагонистических классов. Так он говорит о тех «противоречиях в среде землевладельческого класса», которые отразились во взаимодействии двух противоположно направленных правовых институтов, регулировавших поземельные сделки (право родового выкупа вотчин, стеснявшее их мобилизацию, и отдача их в залог, как форма замаскированного отчуждения). В ликвидации этих противоречий усматривает С. Б. Веселовский один из результатов «объединения Северо-Восточной Руси под властью московских государей», сопровождавшегося «перерождением социальных отношений времен удельной раздробленности Руси» [340]340
Там же, стр. 71.
[Закрыть]. Отсутствием классового подхода к историческим явлениям объясняется и неправильное утверждение С. Б. Веселовского, что московские великие князья, начиная с Ивана III, проводили политику «общей нивелировки и подчинения всего и всех» их «неограниченной власти», вводили «во всех областях жизни» «безличные общие нормы отношений» и т. д. [341]341
Там же, стр. 212.
[Закрыть]
Неубедительно выглядит слишком прямолинейно и схематично устанавливаемая С. Б. Веселовским связь между экономическим положением землевладельцев и занимаемой ими политической позицией. Сторонниками «великодержавной политики московских государей и политического единства Руси» выступают, по С. Б. Веселовскому, «землевладельцы общерусского масштаба», бывшие собственники многих вотчин, разбросанных по стране, хозяйство которых, однако, являлось отсталым и строилось на эксплуатации природных богатств. В противоположность этому «многовотчинному богатому боярству», бывшему «пережитком старины» в экономическом отношении и одновременно «передовым элементом» с политической точки зрения, противостояли, по С. Б. Веселовскому, землевладельцы среднего и мелкого калибров, вотчины которых скоплялись в одном или двух соседних уездах; ведя передовое по тому времени земледельческое хозяйство, эти представители господствующего класса, как считает С. Б. Веселовский, долго связывали свои судьбы с удельными князьями, боровшимися за сохранение политической раздробленности [342]342
С. Б. Веселовский, Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси, стр. 163–164.
[Закрыть].
Таким образом, многие обобщения С. Б. Веселовского имеют искусственный характер и очень уязвимы в теоретическом отношении [343]343
Критический разбор книги С. Б. Веселовского дан в рецензии И. И. Смирнова: «С позиций буржуазной историографии» («Вопросы истории», 1948, № 10, стр. 118–124).
[Закрыть]. Но многочисленные отдельные конкретные наблюдения автора, знатока актового материала, использовавшего его не в качестве отдельных иллюстраций, а в массовом масштабе, будучи переосмыслены с марксистско-ленинских позиций, могут очень помочь пониманию процесса образования централизованного государства.
С историей аграрных отношений тесно связан вопрос о положении феодально-зависимого сельского населения. Широкую известность и в СССР и за рубежом приобрела книга Б. Д. Грекова «Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века» [344]344
Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века, М.-Л., 1946 (2 изд. в двух книгах, М.-Л., 1952–1954).
[Закрыть]. В этой книге впервые всесторонне раскрыта с марксистско-ленинских позиций история русского крестьянства вплоть до Соборного Уложения 1649 г., знаменовавшего значительный перелом в его положении.
Поднят в монографии Б. Д. Грекова и вопрос об изменениях в судьбах крестьян на Руси в связи с образованием Русского централизованного государства. Эти изменения, по мнению Б. Д. Грекова, были связаны с крупнейшими переменами в жизни всей Европы во второй половине XV в. и в первой половине XVI в. Исчезала феодальная замкнутость отдельных государств. Менялась экономическая карта мира. В аграрных странах (к которым принадлежала и Россия) усиливалось производство сельскохозяйственных продуктов «как для удовлетворения нужд тех стран, которые сократили у себя обработку полей, так еще в большей степени для удовлетворения нужд растущего собственного внутреннего рынка» [345]345
Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси, стр. 549.
[Закрыть].
Б. Д. Греков считает существенным явлением русской истории второй половины XV в. и первой половины XVI в. превращение земледелия «в отрасль хозяйства, производящего товары, под влиянием прежде всего внутреннего рынка». Автор отмечает в качестве показательных фактов этого времени возникновение новых поселений городского типа и оживление старых городов. Б. Д. Греков говорит, что в связи с развитием рынка в экономике Руси увеличивается роль денег. Сокращается применение рабского труда и возрастает значение труда свободного. На деньги переводятся натуральные оброки. В то же время, если некоторые страны Западной Европы в конце XV – первой половине XVI в. «переживали переходный период от средневековья к новому времени, от феодализма к капитализму», то в России «старый способ производства оставался в силе». Здесь, пишет Б. Д. Греков, «капитал шел не по революционизирующему производство пути, а в направлении консервации феодального способа производства» [346]346
Там же, стр. 553, 556, 549, 587.
[Закрыть].
Необходимость приспособления феодального хозяйства к развивающемуся внутреннему рынку по-разному сказалась на различных категориях землевладельцев. Многие бояре «не сумели перестроить свои хозяйства в связи с требованиями жизни» и разорились. Монастыри, напротив, оказались передовыми хозяевами и увеличили свои владения «на боярских костях» [347]347
Там же, стр. 598, 604.
[Закрыть]. Экономически более жизнеспособными (чем бояре) показали себя и новые кадры землевладельцев – помещики-дворяне.
Превращение хлеба из «необходимого жизненного продукта» в «заметный товар на внутреннем рынке» [348]348
Там же, стр. 587.
[Закрыть]явилось побудительным мотивом для землевладельцев к увеличению барской запашки и к переводу своих крестьян с ренты продуктами на барщину. В то же время перед феодалами в связи с расширением их хозяйства встал вопрос о том, «как удержать за собой старые кадры рабочей силы» и «привлечь к себе новые». Так изменения в экономике России вели к усилению крепостничества.
Рассматривая различные категории сельского населения (старожильцы, серебреники, кабальные люди, половники, монастырские детеныши, бобыли), автор приходит к выводу, что русская деревня изучаемого им времени, «втянутая в водоворот товарных (простых) отношений, переживала очень серьезное время» («расслоение внутри», возросшие в связи с образованием централизованного государства требования казны, нажим на крестьян со стороны землевладельцев) [349]349
Там же, стр. 760.
[Закрыть].
Книга Б. Д. Грекова явилась одним из крупнейших достижений советской исторической науки. Все же ряд выводов автора является спорным. Б. Д. Греков преувеличивает степень развития товарно-рыночных отношений во второй половине XV в. и их роль в процессе крестьянского закрепощения. В то же время он далеко недостаточно показывает значение в этом процессе эволюции форм феодальной собственности и развития вширь и вглубь системы феодальных отношений. Ни теоретически, ни конкретно-исторически недоказуем тезис о большей приспособляемости к рынку поместно-дворянских и монастырских, чем вотчинно-боярских, хозяйств. Вызывает ряд возражений трактовка Б. Д. Грековым различных категорий сельского населения, о чем я скажу в специальной главе.
Экономическое положение русских крестьян XIV–XV вв. явилось предметом исследования А. Д. Горского [350]350
А. Д. Горский, Экономическое положение крестьян в Северо-Восточной Руси XIV–XV вв. (рукопись); его же, Из истории земледелия в Северо-Восточной Руси XIV–XV веков («Материалы по истории сельского хозяйства и крестьянства СССР», Сборник III, М., 1959, стр. 5–40).
[Закрыть]. Автор прежде всего подробно разбирает (на основе всестороннего изучения скупых данных письменных источников и археологических памятников) состояние на Руси в указанное время земледелия, скотоводства и птицеводства, бортничества, рыбной ловли, охоты, солеварения и других видов хозяйственной деятельности крестьян. Особенно большое внимание А. Д. Горский уделяет земледелию. Он касается вопроса о разводимых хлебных злаках и технических культурах, о системах земледелия (среди которых все больший удельный вес получало трехполье), о земледельческих орудиях (А. Д. Горский считает, что в XIV–XV вв. на смену трезубой сохе приходит более производительное сельскохозяйственное орудие – соха двузубая), об основных производственных процессах (пахота, посев, уборка урожая), об урожайности, о крестьянских трудовых производственных навыках. Детально рассмотрен в книге вопрос и о технике и организации промыслов.
Далее А. Д. Горский ставит вопрос о характере крестьянского землевладения (надельного и вненадельного). Он, по-моему, убедительно возражает против высказанной в печати точки зрения о том, что черные крестьяне владели землей на правах частной собственности, и доказывает, что собственником черной земли было феодальное государство.
Детально изучены А. Д. Горским крестьянские повинности, в частности повинности крестьян в пользу государства. Автор приводит убедительный материал, говорящий о сосуществовании в XIV–XV вв. ренты продуктами и ренты отработочной.
В работе А. Д. Горского впервые в советской литературе нарисована конкретная картина развития производительных сил в русской феодальной деревне в период образования на Руси единого государства. Всесторонне раскрыто экономическое положение в это время основного производящего класса феодального общества – крестьянства.
Вопрос об изменении в положении холопов в период образования Русского централизованного государства ставится в труде А. И. Яковлева. Автор обращает внимание на то, что политическая сила удельных князей и бояр в значительной мере определялась количеством их военных и дворцовых слуг – холопов. Ликвидация политической раздробленности была связана с лишением бывших удельных князей и бояр их «дворовых воинств – своего рода зубов и когтей удельного княжья». Эти «воинства» или переводились «на московскую службу», или просто разгонялись [351]351
А. И. Яковлев, Холопство и холопы в Московском государстве XVII в., т. 1, М.-Л., 19. 3, стр. 25.
[Закрыть]. Однако, «разбивая или опрокидывая малые и великие удельные столы», московское правительство часто «не доламывало» «гнезд» удельных князей с их дворней. Сохранялась дворня и у тех князей, которые перебирались в Москву. Но эта «многотысячная в своей совокупности боярская дворня» вызывала враждебное отношение со стороны служилых людей – помещиков. Под их воздействием и правительство поставило вопрос об ограничении холопства. «Суверенитет Московского государства» столкнулся с «суверенитетом холоповладельца». Однако борьба московского правительства с холопством велась непоследовательно, ибо «крепостному государству неудобно было разрушать до конца основные органические принципы своего социального строя, выгодного всем высшим его классам». В то же время московское правительство «легко и незаметно» превращало бывших княжеских и боярских холопов «в своих городовых служилых людей». А. И. Яковлев считает, что выражение, употреблявшееся служилыми людьми в челобитных царю, – «холоп твой» являлось не «раболепной метафорой», а «простым адекватным выражением фактического положения: масса московского служилого класса вышла именно из холопства, воспитывалась на нем и жила его идейным наследием, нивелируя нехолопьи элементы под общий холопский уровень» [352]352
Там же, стр. 25–26, 37, 43.
[Закрыть].
А. И. Яковлев правильно обратил внимание на роль военных холопов в политической борьбе, сопровождавшей процесс образования централизованного государства, на значение, принадлежавшее им в формировании служилого поместного дворянства. Но речь в данном случае идет лишь об одной части холопов. Недостаточно раскрыто А. И. Яковлевым положение другой части холопов – той, которая работала в вотчинном хозяйстве феодалов и в жизни которой в период складывания единого государства на Руси происходили существенные изменения.
Характеристике городов в период образования Русского централизованного государства посвящена первая часть первого тома исследования П. П. Смирнова «Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века». Автор исходит из предпосылки о принципиальной разнице между русскими городами XIV–XV вв., с одной стороны, и городами XVI–XVII вв. – с другой. Характерным признаком городов XIV–XV вв., которые П. П. Смирнов называет «раннефеодальными», он считает преобладание «крупного феодального землевладения – княжеского, боярского и церковного, представленного городскими вотчинными дворами и слободами феодалов-землевладельцев». Основным признаком городов XVI–XVII вв. («периода цветущего феодализма»), именуемых П. П. Смирновым «среднефеодальными», или «средневековыми», является принадлежность их территории «великому государю московскому», передававшему ее «в держание, военное – белое и оброчное – черное, своим государевым «холопам», т. е. служилым людям и «сиротам» – черным тяглецам». Появление на Руси «среднефеодальных» («средневековых») городов, по П. П. Смирнову, было связано с переходом от «раннего феодализма» к более высокой ступени феодального развития, на которой города становятся «центрами зародившегося менового рыночного хозяйства» [353]353
П. П. Смирнов, Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века, т. I, М.-Л., 1947, стр. 4–5.
[Закрыть].
Автор следующим образом рисует процесс превращения «вотчинных», или «своеземческих», городов и слобод (поселков, возникавших из договора между землевладельцем и населением, призываемым им для заселения своих земель и специальных служб) в центры «рыночного хозяйства». Введение паровой зерновой системы и рост производительности «раннесредневекового хозяйства» приводят к «разрушению крупных вотчин и к разложению крестьянского хозяйства». Из крупных вотчин «развивается более жизнеспособное, связанное с рынками, мелкое феодальное землевладение, поместье». Из крепостного хозяйства «выделяется торгово-промышленный посад, население которого образует новую классовую группу – посадских людей» [354]354
Там же, стр. 64–65.
[Закрыть].
П. П. Смирнов указывает, что «большие запасы хозяйственных благ», создаваемых трудом крестьян и холопов и выбрасываемых на рынок, привели к снижению цен на припасы и вызвали «настоящий сельскохозяйственный кризис». Началось движение населения из деревни в город, где оно заводило промыслы. В то же время происходили «ломка и разорение старых городов, переходивших в XVI в. от удельной Руси». Процесс «приспособления феодального землевладения к условиям рыночно-ремесленного хозяйства в городах» выражался в массовом превращении крупными феодалами вотчинных городских дворов в промышленные «слободки крестьян и бобылей», в «усиленном накоплении городских слобод». Великие князья, со своей стороны, стремятся к «захвату в свои руки всех городов и к полному по возможности освобождению их от остатков частной зависимости, к монополизации права на владение городскими землями и торгово-промышленными людьми на этих землях» [355]355
П. П. Смирнов, Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века, т. I, стр. 67–68, 77–78.
[Закрыть].
Хотя в книге П. П. Смирнова собран большой и ценный материал и сделан ряд интересных наблюдений, его концепция истории древнерусского города не принята советской наукой. Нельзя согласиться с тем, что до XIV в. на Руси отсутствовали города как торгово-ремесленные посады. Существование последних убедительно доказывается рядом источников. Тезис П. П. Смирнова о перерастании на рубеже XV и XVI вв. города «своеземческого», частновладельческого в город государев, тяглый, имеет искусственный характер и не подтверждается материалом. И до XVI в. «черное» население ряда городов Северо-Восточной Руси было подвластно непосредственно князьям и несло тягло. Обилие сельскохозяйственных продуктов на русских рынках в конце XV в. (о чем пишут многие иностранцы) свидетельствует не о кризисе, а о слабой покупательной способности населения в условиях натурального хозяйства. При обилии продуктов население часто голодало.
В 1947 г. была опубликована книга М. Н. Тихомирова «Древняя Москва (XII–XV вв.)». В ней использованы как письменные источники (в том числе некоторые неопубликованные летописные записи и литературные памятники), так и археологический материал. Книга написана доступным, живым языком, но представляет собой не просто популярный очерк, а научное исследование, содержащее ряд новых наблюдений и мыслей. Плодотворна основная идея М. Н. Тихомирова о том, что «Москва со времени первого появления своего на страницах летописей была городом, а не боярской усадьбой, что она развивалась вначале как небольшой, а позже как крупный торговый и ремесленный центр Восточной Европы, связанный с большим международным обменом, в который были втянуты страны Востока и Средиземноморья, а позже Запада» [356]356
М. Н. Тихомиров, Древняя Москва (XII–XV вв.), М., 1947, стр. 3.
[Закрыть]. Хорошо показан в монографии «передовой характер московского ремесла» [357]357
Там же, стр. 121.
[Закрыть]и достаточно раскрыты широкие торговые связи Москвы. Интересны небольшие очерки истории отдельных московских купеческих семейств. Важно, что автор останавливается на восстаниях черных людей в Москве (особенно в 1382 г.).
Книга Тихомирова важна для изучения проблемы образования Русского централизованного государства, ибо в ней дана экономическая, политическая и культурная история Москвы как национального и государственного центра.
Выпущенная к 800-летнему юбилею Москвы монография М. Н. Тихомирова имеет некоторые специфические черты. В частности, в книге несколько идеализировано историческое прошлое Руси, что сказалось прежде всего в оценке деятельности русских князей. Не только Дмитрий Донской рисуется «храбрым и бескорыстным человеком, заботившимся не о личной славе, а об общем благе», но явно переоценивается и Иван Калита. Под пером М. Н. Тихомирова выступает образ «щедрого и даже несколько впечатлительного князя», прозвищу которого придавалась окраска, «изображающая его благотворителем, всегда носившим сумку с деньгами для раздачи бедным». За «восторженными» отзывами современников об Иване Калите, приводимыми М. Н. Тихомировым [358]358
М. Н. Тихомиров, Древняя Москва, стр. 51, 28–29.
[Закрыть], пропадает классовый смысл его политики. Идеализируются М. Н. Тихомировым и церковные деятели. Митрополита Петра автор рисует «политиком настойчивым и смелым», митрополит Алексей охарактеризован как «замечательный государственный человек XIV века», твердой и уверенной рукой правивший Московским княжеством [359]359
Там же, стр. 33, 43, 45.
[Закрыть]. Против этих характеристик можно было бы и не возражать, если бы наряду с ними была показана классовая сущность политики и идеологии церкви.
В 1957 г. вышла из печати новая книга М. Н. Тихомирова «Средневековая Москва в XIV–XV веках» [360]360
М. Н. Тихомиров, Средневековая Москва в XIV–XV вв., М., 1957
[Закрыть]. В основе этой монографии лежит прежнее исследование автора о древней Москве. Но в новой книге М. Н. Тихомирова основное внимание устремлено на историю города в XIV–XV вв. Автор привлек свежий археологический материал и сделал много новых наблюдений. Особенный интерес представляет глава, посвященная классовой борьбе и восстаниям черных людей в Москве. В этой книге уже нет той идеализации деятельности московских князей и митрополитов, которая имелась в прежней работе М. Н. Тихомирова.
Капитальное исследование о древнерусском ремесле принадлежит Б. А. Рыбакову. Последний определяет задачи своего труда как «изучение важнейшей части того хозяйственного фундамента, на котором строилась блестящая культура Киевской Руси, а впоследствии создавалось русское национальное государство – изучение промышленности, ее техники, организации и ее удельного веса в общей системе русского исторического процесса» [361]361
Б. А. Рыбаков, Ремесло древней Руси, М., 1948, стр. 3.
[Закрыть].
Во второй части книги Б. А. Рыбакова прослежено развитие русского ремесла со времени установления над русскими землями татаро-монгольского владычества и до середины XV в. Здесь приведен богатый материал для решения вопроса о социально-экономических предпосылках образования Русского централизованного государства. Подробно характеризуя (на основании данных археологии и письменных источников) различные отрасли деревенского, вотчинного и городского ремесла второй половины XIII–XV в., автор приходит к выводу, что в его развитии наблюдаются две переломные грани, одна из которых падает на середину XIV в., другая – на середину XV в. [362]362
Там же, стр. 591–592, 695–699.
[Закрыть]Значение этих двух рубежей Б. А. Рыбаков видит в том, что ими отмечено совершенствование ремесленной техники, все больший отрыв ремесла от земледелия, развитие крестьянских промыслов, выделение промысловых районов и появление ремесленно-торговых поселков, усиление внутренней и внешней торговли, перевод вотчинных ремесленников с натурального на денежный оброк, массовый выход вотчинных ремесленников на посад и т. д. Эти выводы Б. А. Рыбакова, сделанные на большом конкретном материале, представляют несомненный интерес, а значение предложенной им периодизации выходит за рамки развития русского ремесла, намечая основные вехи социально-экономической истории Руси этого времени.
Убедительна мысль автора о том, что «слияние воедино сотен мелких княжеств, создание Русского национального государства происходит на фоне как технического, так и социального роста русского ремесла» [363]363
Б. А. Рыбаков, Ремесло древней Руси, стр. 781.
[Закрыть].
Из-за отсутствия источников в книге Б. А. Рыбакова не мог получить достаточного разбора вопрос об удельном весе товарного производства в русских городах XIV–XV вв. [364]364
См. об этом там же, стр. 712 и след.
[Закрыть]Можно поспорить с Б. А. Рыбаковым по поводу его утверждений о «постоянстве» черных людей «в их симпатии к московскому князю» и о том, что «пути развития русских городов почти полностью совпадают… с развитием Западной Европы» [365]365
Там же, стр. 727.
[Закрыть].