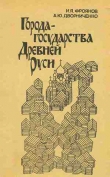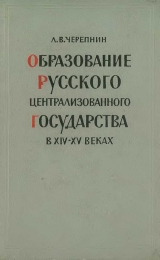
Текст книги "Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси"
Автор книги: Лев Черепнин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 77 страниц)
Игумен Мартиниан (1447–1455), сменивший Досифея, укорял Дмитрия Ермолина за «неверие», которое он обнаруживал «ко чюдотворцеву гробу и ко всему святому собору», т. е. за непроявление должного уважения к памяти основателя монастыря Сергия Радонежского и к монастырским властям. Нежелание Дмитрия Ермолина принимать пищу вместе со всеми монахами вызывалось не только ее низким качеством. Правда, он подчеркивал, что привык к иной, лучшей еде. «Что имам сотворити, яко хлеба вашего и варения не могу ясти? А ведаеш сам, яко вырастохом во своих домах, не таковыми снедми питающеся» [1536]1536
Там же, стр. 160.
[Закрыть]. Но отказ Дмитрия Ермолина от братской трапезы был прежде всего выражением его непризнания «святости» монастырских властей, которых он намеренно оскорблял, употребляя непозволительные в отношении их сана выражения («глаголы нелепотныя») [1537]1537
Н. С. Тихонравов, указ. соч., стр. 161.
[Закрыть]. Когда Дмитрию Ермолину приносили хлеб, рыбу, «всякое варение» и «питие», он выбрасывал все это из келии со словами: «собаки наши такова… не ели». Это был его протест против тех, кто возглавлял монастырь, и против порядков, существовавших в последнем («и всему сопротивне показовашеся») [1538]1538
Там же, стр. 160–161.
[Закрыть].
В «Житии» рассказывается, как Дмитрий Ермолин, «исполнився духом хулным», решил поколебать у некоей «христолюбивыя жены» веру, которую она питала «к живоначалней Троици и пречистей Богородици, и ко чюдотворцеву гробу Сергиеву, и ко всему святому собору». Он стал убеждать эту женщину, что не следует посылать в монастырь «милостыню» (хлеб, рыбу, мед), что лучше все эти дары отдать татарам («луче бы та милостыня татаром дати, неж семо») [1539]1539
Там же, стр. 162.
[Закрыть]. Подобное выступление представляло собой не что иное, как уподобление монахов иноплеменникам и насильникам – татаро-монгольским ханам, разорявшим русских людей своими поборами. И за это, согласно житийной версии, Дмитрий Ермолин понес кару от бога и чудотворца Сергия: во время церковной службы он лишился речи, зрения, потерял способность управлять своими движениями. Таково было «божье возмездие» Дмитрию Ермолину, обладавшему «непокоривым сердцем». Только после этого он раскаялся.
Рассмотренный рассказ «Жития», безусловно, заслуживает серьезного внимания. Он раскрывает в какой-то мере идеологию крупного представителя русского купечества XV в. – времени образования на Руси централизованного государства. Это был образованный «гость», отличавшийся красноречием, знавший несколько языков. «Житие» рисует образ Ермолина как человека «многоречиста и пресловуща в беседе, бе бо умея глаголати русски, гречески, половецки…» [1540]1540
Там же, стр. 163.
[Закрыть]Во время своих торговых поездок Дмитрий Ермолин, вероятно, заслужил довольно шйрокую известность за пределами Руси. Не случайно «Житие» говорит, что и его пострижение в монастырь, и его выступления с «хулой» на монастырских властей не могли не получить соответствующего отклика в других странах («…слышано быс не точию зде и у нас, но во многих покрестных странах…») [1541]1541
Там же, стр. 160.
[Закрыть].
В чем же заключалось вольнодумие Дмитрия Ермолина? «Житие» обвиняет его в «неверии» («неверие в сердци держащу»), в «хуле и роптании на монастырь и на весь святый собор…» [1542]1542
Там же, стр. 165.
[Закрыть]Конечно, странно было бы подозревать Дмитрия Ермолина в атеизме. Человек своей эпохи и своего класса, он был, вероятно, достаточно религиозен, иначе вряд ли можно было бы понять его пострижение в монастырь. Но для его мировоззрения характерно критическое отношение к церковным порядкам, к монашеству – отношение, выливавшееся иногда в резкое осуждение и некоторых религиозных догматов, и уставов, и лиц, принадлежавших к руководящим деятелям церкви. Можно думать, что он стремился к реформе церкви в условиях складывающегося Русского централизованного государства на основе ее подчинения сильной светской власти с участием в государственном управлении городского патрициата. Подобный вывод о характере идеологии Дмитрия Ермолина подтверждается теми политическими высказываниями, которые имеются в летописном своде XV в., написанном для его сына – Василия Дмитриевича. Там в ироническом стиле описывается потеря ярославскими князьями их независимости. В 1463 г. в Ярославле объявились «чудотворцы» – покойные князья, Федор Ростиславич с детьми. У их гроба происходили чудеса. Но «сии чюдотворци явишася не на добро всем князем ярославским». Они скоро «простилися со всеми своими отчинами на век», были вынуждены передать их великому князю Ивану III. А затем в Ярославле появился «новый чюдотворець», «созиратаи Ярославьскои земли» – великокняжеский наместник, настоящий дьявол – и стал производить конфискацию владений местных вотчинников [1543]1543
ПСРЛ, т. XXIII, стр. 157–158.
[Закрыть].
Здесь чувствуется и религиозное вольнодумие (игра термином «чудотворец», уподобление его термину «дьявол»), и ирония в отношении ярославских удельных князей, которых не спасли никакие чудеса. Здесь звучит и известная нотка осуждения московского князя, у которого были наместники с дьявольским нравом. Но в конечном итоге общая политическая линия Василия Дмитриевича Ермолина – это линия борьбы с раздробленностью, за централизацию на основе союза великокняжеской власти с городской аристократией.
Некоторое осуждение московского князя чувствуется и в летописном описании казни в 1379 г. сына последнего тысяцкого Ивана Васильевича Вельяминова. Никоновская летопись указывает, что казнь была совершена в присутствии множества народа, причем многие из присутствующих сочувствовали И. В. Вельяминову и сожалели об его участи («и мнози прослезиша о нем и опечалишася о благородстве его и о величествии его»). В связи с этим летописец помещает рассуждения 1) о необходимости повиновения властям, причем не только добрым, но и «строптивым» («…царя чтите, раби повинуюшеся во всяком страсе владыкамь, не токмо благим и кротким, но и строптивым»); 2) о желательности сохранения «закона любви» между властителями и людьми подвластными («и вси убо, и владущии, и послушнии, и господьствующии, и рабьствующии во смирении и в любви да пребывают; весь бо закон во смирении и в любви есть…») [1544]1544
ПСРЛ, т. XI, стр. 45.
[Закрыть]. В приведенном тексте отношение к акту казни И. В. Вельяминова двойственное. Автор и укоряет последнего за неповиновение власти великого московского князя, и упрекает Дмитрия Донского как «строптивого владыку» за то, что он не соблюдает «закона любви». Вероятно, летописец отражает как раз настроения тех, кто, находясь на месте казни, сожалел о «благородстве» и «о величествии» казненного. Возможно, что сочувствовали И. В. Вельяминову представители крупного московского купечества вроде Некомата Сурожанина, с которым был связан И. В. Вельяминов и который был казнен несколько позднее, в 1383 г. («…убьен бысть некий брех именем Некомат за некую крамолу бывшую и измену») [1545]1545
ПСРЛ, т. XVIII, стр. 135.
[Закрыть]. Как раз в купеческой среде была распространена эта теория «закона любви», смысл которой заключался в стремлении к достижению социального мира при сохранении социального неравенства.
Перечитывая записки русских людей XIV–XV вв. об их путешествиях за границу, мы убеждаемся, насколько внимательно присматриваются они к экономике, социальным отношениям, политическому строю, культуре тех стран, где им пришлось побывать. В записках русских путешественников мы находим не случайный набор занимательных фактов, а вдумчивый отбор того интересного, что они встречали и наблюдали на своем пути. А производя такой отбор фактов, авторы записок (иногда прямо, иногда косвенно) выявляли и свое к ним отношение, определявшееся их общим классовым и политическим мировоззрением. Для мировоззрения русских горожан-путешественников характерна отрицательная оценка порядков феодальной раздробленности. Они видят преимущества (по сравнению с этими порядками) единого государства и являются его идеологами. Такая же идеология горожан отражается и в других рассмотренных выше памятниках литературы.
* * *
Из среды горожан вышел, по-моему, один очень интересный памятник, который помещен в ряде летописных сводов (в Новгородской первой летописи младшего извода [1546]1546
НПЛ, стр. 475–477.
[Закрыть], в летописях Ермолинской [1547]1547
ПСРЛ, т. XXIII, стр. 163–164.
[Закрыть], Воскресенской [1548]1548
ПСРЛ, т. VII, стр. 240–241. Список напечатан также М. Н. Тихомировым в «Исторических записках», № 40, 1952, стр. 223–225.
[Закрыть]и др.). Это – Список «русских» городов, имеющий следующее заглавие: «А се имена всем градом рускым, далним и ближним». Анализ указанного памятника позволяет, как мне кажется, высказать несколько соображений относительно отражения в идеологии горожан процесса складывания русской народности.
Города в рассматриваемом Списке распределены по группам, каждая из которых дана под особым заголовком. Всего приведено 8 групп городов: 1) «А се Болгарскии и Волоскии гради»; 2) «А се Польскии» (от слова «поле» – степь); 3) «А се Киевьскыи гради»; 4) «А се Волыньскыи»; 5) «А се Литовьскыи»; 6) «А се Смоленскии»; 7) «А се Рязаньскии»; 8) «А се Залескии». Болгарских и Волошских городов перечислено 23, Польских – 11, Киевских – 71, Волынских – 31, Литовских – 92, Смоленских – 10, Рязанских – 30, Залесских – 90. Общее число городов, упоминаемых в Списке, – 358. В более поздних редакциях изучаемого Списка названо еще 8 Тверских городов.
Большею частью указываются лишь наименования городов, а также в ряде случаев рек, на которых они расположены. Иногда имеются сведения о характере городовых укреплений («На Дунай Видычев град о седми стенах каменных»; «Корочюнов камен», «Киев деревян на Днепре», «Вилно, 4 стены древены, а две каменны», «Трокы Старый каменны, а Новый Трокы на езере две стены камены, а вышнии древян, а в острове камен», «Москва камен», «Новгород Великии, детинец камен», «Псков камен о четырех стен» и т. д. В некоторых случаях в Списке коротко сказано о наиболее достопримечательных церквах и других памятниках религиозного характера, находящихся в рассматриваемых городах («Тернов, ту лежить святаа Пятница», «Киев… а церкы святаа Богородиця Десятиннаа камена была о полутретьятцати версех, а святая Софиа о 12 версех», «Самъбор, ту лежить святыи Ануфреи», «Новгород Великии… а святаа Софиа о шести версех»).
Список «русских» городов в последнее время подвергся специальному исследованию в статьях М. Н. Тихомирова и Б. А. Рыбакова. Первый ученый довольно убедительно доказывает, что этот Список был составлен между 1387 и 1406 гг. (а скорее всего, по мнению М. Н. Тихомирова, между 1387 и 1392 гг.). Автором памятника был русский человек, в основу отбора городов для своего Списка положивший принцип языка, на котором говорили их жители. Он отмечал лишь города «русские», т. е. населенные славянами – русскими, украинцами, белорусами, болгарами, в некоторых случаях – города со смешанным населением, состоявшим из белорусов и литовцев. Вошли в список и города молдавские (волошские), поскольку молдаване пользовались в то время славянской письменностью, а не вошли города собственно литовские, а из славянских польские). Таким образом, – пишет М. Н. Тихомиров, – изучаемый памятник отражает представление его автора «о единстве русских, украинцев, белорусов, молдаван, болгар». Список «русских» городов «интересен не только как ранний историко-географический документ, но и как памятник, доказывающий, что уже в начале XV в. существовало представление о единстве «Русской земли», сознание связи русских с балканскими славянами, употреблявшими в это время в письменности славянский язык» [1549]1549
М. Н. Тихомиров, Список русских городов дальних и ближних, стр. 218.
[Закрыть].
Эти выводы М. Н. Тихомирова, безусловно, заслуживают внимания. Весьма вероятно и предположение исследователя о том, что изучаемый Список возник в кругах горожан, совершавших торговые поездки в пределах русских княжеств, ездивших и за границу и обладавших поэтому достаточными географическими познаниями. Мало убедительно, по-моему, аргументирован М. Н. Тихомировым тезис о новгородском происхождении Списка «русских» городов, и я с данным тезисом согласиться не могу.
Выводы Б. А. Рыбакова относительно происхождения Списка «русских» городов [1550]1550
М. Н. Тихомиров, Список русских городов дальних и ближних, стр. 218–219.
[Закрыть]во многом совпадают с наблюдениями М. Н. Тихомирова. Он также относит памятник к концу XIV в., хотя, как мне кажется, без должных оснований датирует его 1395–1396 гг., исходя лишь из того, что под указанными датами в Никоновской летописи помещены другие статьи географического содержания: перечни земель, покоренных Тимуром («А се имена тем землям и царством, еже попленил Темирь-Аксак»), и народов, обитающих в пределах Перми («А се имена живущим около Перми землям и странам и местом иноязычным») [1551]1551
ПСРЛ, т. XI, стр. 158–159, 165, 248.
[Закрыть]. Б. А. Рыбаков, согласно с М. Н. Тихомировым, рассматривает создание в конце XIV в. Списка как показатель того, что в это время на Руси существовало представление о единстве русского народа и других славянских народов, исторически с ним связанных. Интересна мысль Б. А. Рыбакова о том, что составитель Списка городов конца XIV в. давал их в границах Киевской Руси XI–XII вв., допустив лишь три исключения: 1) включив в состав русских земель области мери и веси за Волгой и на Белоозере (очевидно, вследствие их обрусения); 2) исключив из своего Списка закарпатские земли белых хорватов; 3) назвав русскими низовья Дуная вплоть до Тырнова (очевидно, по воспоминаниям о переселении в давние времена антов к Дунаю и на Балканы).
Расходится Б. А. Рыбаков с М. Н. Тихомировым по вопросу о месте создания Списка. Он относит памятник к Киеву и считает, что он был составлен в канцелярии митрополита Киприана. Эти утверждения по существу ничем не доказываются и вряд ли с ними можно согласиться [1552]1552
Б. А. Рыбаков, Древние русы («Советская археология», вып. 17, М., 1953, стр. 31–32).
[Закрыть].
Мне хотелось бы по поводу Списка «русских» городов высказать некоторые соображения, частично развивающие мысли М. Н. Тихомирова и Б. А. Рыбакова, частично расходящиеся с ними. Мне думается, что представление о Русской земле, отразившееся в Списке, совпадает с тем представлением, которое мы находим в памятнике письменности, также возникшем в конце XIV в. и посвященном Куликовской битве 1380 г., – в «Задонщине». В последнем памятнике встречаются два понятия: «Русская земля» и «Залесская земля». Автор «Задонщины» вводит читателя в круг этих понятий с первых же строк своего произведения. На пиршестве у Микулы Васильевича Вельяминова, сына последнего московского тысяцкого, присутствующие там князья Дмитрий Иванович московский и его двоюродный брат Владимир Андреевич серпуховский узнают о нашествии на Русь татарских полчищ под предводительством Мамая (такой сценой открывается «Задонщина»). И далее следует текст: «Ведомо нам, братие милыи, што де у быстрого Дону царь Мамай пришел на Рускую землю, а идет к нам в Залескую землю. Пойдем, брате, тамо в полунощную страну, жребия Афетова, сына Ноева, от него же родися Русь преславная. Взыдем на горы Киевскыя и посмотрим славнаго Непра и посмотрим по всей земли Рускои и отоля на восточную страну жребий Симов, сына Ноева, от него же родися Хиновя, поганые, татаровя, бусормановя» [1553]1553
«Воинские повести древней Руси», под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.-Л., 1949, стр. 33.
[Закрыть].
«Залесская земля», согласно исторической концепции «Задонщины», – это Владимиро-Суздальская Русь, являющаяся частью большой Русской земли, сложившейся еще в период существования древнерусского государства со столицей в Киеве. Воспроизводя библейскую легенду о сыновьях Ноя, один из которых Иафет был родоначальником славян, автор «Задонщины» мысленно обращается к древнему центру восточного славянства – «горам Киевским», раскинувшимся на берегах Днепра. Это – исконное средоточие всей Русской земли, с которой неразрывно связана и земля «Залесская» и на которую ведут наступление басурманы, монголо-татары – потомки другого сына Ноя – Сима.
Подобные же мысли о взаимоотношении понятий «Русская» и «Залесская» земли разбросаны по всему тексту «Задонщины». Мамай «посягал» на Русскую землю, но ему пришлось обратиться в бегство «по Залесью». В составе русских военных сил, боровшихся с полчищами, приведенными Мамаем, была «орда Залесская», т. е. московское войско [1554]1554
Там же стр. 40.
[Закрыть].
Но ведь таких же географических представлений держался и составитель Списка «русских» городов. Ведь и для него «Залесские города» принадлежат к числу «градов руских», перечень которых он не случайно начинает с пунктов, расположенных на Дунае («а се Болгарскыи и Волоскии гради») и Днепре («а се Киевьскыи гради»), а не на Дону, Оке и Волге. Именно к Дунаю и Днепру он возводил историю восточного славянства, «русского» народа. Способ перечисления городов в рассматриваемом Списке, по-моему, продиктован не тем, как думает М. Н. Тихомиров, что его составитель пользовался «чертежом», на котором север был обозначен внизу, а юг вверху [1555]1555
М. Н. Тихомиров, Список русских городов дальних и ближних, стр. 219.
[Закрыть]. Думается, что география Списка определяется не случайными обстоятельствами, а подчинена историческим взглядам составителя, его концепции истории «русского» народа. Думается, неправ и Б. А. Рыбаков, для которого термин «Залесские города» служит показателем того, что Список «русских» городов возник на юге, в Киеве. Нет, этот термин, очевидно, закономерен вовсе не в устах лишь южанина, раз он попал в такой памятник общерусского значения, каким является «Задонщина» [1556]1556
Об этом говорит коротко М. Н. Тихомиров на стр. 248.
[Закрыть].
Мне кажется, что можно продолжить сравнение «Задонщины» и Списка «русских» городов с точки зрения общности географических представлений, продиктованной общностью исторических и политических идей. Кто, согласно «Задонщине», защищает интересы Русской земли в решительной битве с Мамаем на Куликовом поле? Это – выходцы из городов «Залесских» (Москвы, Коломны, Серпухова, Дмитрова. Переяславля, Звенигорода, Можайска, Владимира, Суздаля, Ростова, Углича, Костромы, Мурома, Белоозера, Новгорода), рязанских, литовских, волынских (вспомним знаменитого воеводу Дмитрия Боброка Волынца) [1557]1557
«Воинские повести древней Руси», стр. 41 и др.
[Закрыть]. Но ведь о тех же городах как «русских» говорит и изучаемый нами Список [1558]1558
В последнем почему-то пропущен Углич.
[Закрыть]. Конечно, последний памятник-это своего рода географический путеводитель, «странник», «дорожник» [1559]1559
М. Н. Тихомиров, Список русских городов дальних и ближних, стр. 219.
[Закрыть]. Он стремится (хотя и не всегда этого достигает) к детальности и точности географической номенклатуры. «Задонщина» – художественная поэма. В ней превалируют поэтические образы, а если и встречаются цифровые данные (например, указания на число убитых на Куликовом поле бояр, пришедших сюда из различных мест), то эти данные нельзя воспринимать во всех случаях как реальные. И при всем том невольно возникает мысль: и в сухом перечне населенных пунктов («градов русских дальних и ближних»), и в яркой поэтике «Задонщины» отразились одни и те же идеи. Разве не объясняет замысла составителя Списка «русских» городов, внесшего в число последних и города «литовскии», задушевный призыв «Задонщины» к «соловью» – «летной птице», чтобы он «выщекотал земли Литовской дву братов Олгердовичев», а те собрали бы «братью милую, пановей удалый Литвы, храбрых удальцев», сели бы «на борзыя своя комони» и двинулись бы на защиту Русской земли («посмотрим быстрого Дону»)? [1560]1560
«Воинские повести древней Руси», стр. 35.
[Закрыть]
Многое в Списке «русских» городов станет понятным, если учесть близость идейного содержания этого памятника и «Задонщины». Б. А. Рыбаков, отмечая, что границы Русской земли в том виде, как они начерчены составителем рассматриваемого Списка конца XIV в., совпадают с границами Киевской Руси XI–XII вв., указывал, что это совпадение нарушается включением в Список Белоозера (область мери и веси). Но автор «Задонщины» специально упоминает белозерских князей наряду с русскими князьями, боярами, воеводами, павшими за родину на Куликовом поле. «Не тури возрыкають на поле Куликове, побежени у Дону великого, взопаша посечены князи рускыя, и бояры, и воеводы великого князя, и князи белозерстии посечени от поганых татар» [1561]1561
«Воинские повести древней Руси», стр. 37.
[Закрыть].
Общий вывод, к которому я прихожу, сводится к тому, что Список «русских» городов создался не без воздействия «Задонщины». Чтобы сделать более убедительной эту мысль, надо привлечь некоторый дополнительный материал. Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище» и Никоновской летописи, Дмитрий Донской, выступая в 1380 г. в поход против войск Мамая, взял с собой «десять мужей сурожан-гостей». Цель этого Никоновская летопись усматривает в том, что сурожане, торгуя в разных странах («яко сходници суть з земли на землю»), будучи известны в Орде и в Крыму («и знаеми всеми в Ордах и в Фрязех»), смогут повсюду распространить весть («имут поведати в далных землях») о том, чему они будут свидетелями во время похода [1562]1562
ПСРЛ, т. XI, стр. 54; С. К. Шамбинаго, Повести о Мамаевом побоище, СПб., 1906, Тексты, стр. 16.
[Закрыть]. С этим сообщением интересно сопоставить два места «Задонщины». Первое касается того отклика, который в ряде стран получила победа, одержанная в 1380 г. русскими полками над татарскими на Дону. «Силнии полкы съступалися вместо, протопташа холми и лугы, возмутишася реки и езера, кликнуло диво в Руской земли, велит послушати рожным землям, шибла слава к железным вратом (т. е. Дербенту), к Риму и к Кафы по морю и к Торнаву, и оттоле к Царюграду на похвалу. Русь великая одолеша Мамая на поле Куликове» [1563]1563
«Воинские повести древней Руси», стр. 37.
[Закрыть]. Ведь здесь указаны пути восточный и южный внешней торговли Руси, ведущие в генуэзские колонии в Крыму, в Византию, Закавказье. Такую торговлю производили купцы-«сурожане». Не значит ли это, что и Список «русских» городов конца XIV в. вышел из среды гостей-сурожан, побывавших на Куликовом поле и отразивших в сухом перечне населенных и укрепленных пунктов те же большие идеи этнической общности различных ветвей теперь разобщенной, но когда-то единой, древнерусской народности – идеи, которые в художественной форме нашли воплощение в «Задонщине»? Весьма характерно, что эти идеи выражены не в отвлеченной форме. Они подчинены практическим, экономическим запросам влиятельной части горожан Северо-Восточной Руси, заинтересованных в развитии торговли с другими странами и использующих в этих целях свои связи с русским населением ряда городов, фигурирующих в Списке конца XIV в. Через «киевские», «волынские», «литовские», «смоленские», «рязанские» города постоянно проезжали со своими товарами купцы-«сурожане». И то обстоятельство, что Список «русских» городов конца XIV в. начинается с болгарской столицы Тырнова, находит свое объяснение в приведенном тексте «Задонщины», в котором подчеркнуто, что до этого города дошел отклик победы, одержанной русскими воинами на Дону в 1380 г. над Мамаем и его отрядами.
Другой отрывок «Задонщины», заслуживающий внимания, посвящен побегу Мамая из Руси в Кафу («и отскочи поганый Мамай серым волком от своея дружины и притече к Кафы граду») и разговору с ним «фрягов» (генуэзцев). Последние насмехаются над Мамаем, пытавшимся завоевать Русскую землю, но встретившим отпор со стороны русских воинов, потерявшим свое войско и вынужденным обратиться в бегство. «И молвяше ему фрязове: «Чему ти, поганый Мамай, посягаешь на Рускую землю?.. Нешто тобя князи руские горазно подчивали, ни князей с тобою нет, ни воевод? Нечто гораздо упилися на поле Куликове на траве ковыли»». В конце концов фряги предлагают Мамаю покинуть Кафу: «Побежи, поганый Мамай, и от нас по Залесью» [1564]1564
«Воинские повести древней Руси», стр. 40.
[Закрыть]. Переводя эти художественные образы на прозаический язык, отражающий интересы московских торговых кругов, можно сказать, что в разбираемом отрывке выражена (наряду с другими) и следующая мысль: победа Руси над мамаевой Ордой будет способствовать развитию непосредственных отношений Русской земли (помимо Орды) с Кафой. Этим же прозаическим языком говорит и Список «русских» городов конца XIV в., намечая различные маршруты из «русских» (и через «русские») города в Крым.
Если верна гипотеза о том, что изучаемый Список «русских» городов написан кем-то из гостей-«сурожан», побывавших на Куликовом поле, и что по своему идейному содержанию он близок к «Зддонщине», то на основе этой гипотезы можно попытаться разрешить еще два вопроса: 1) почему в первом варианте Списка отсутствовали тверские города; 2) почему в Списке такое большое место уделено рязанским городам, которые перечислены в количестве 30, ранее городов залесских.
Игнорирование тверских городов в рассматриваемом Списке могло быть вызвано тем осложнением московско-тверских отношений, которое последовало с 1373 г. (в связи с изменой московскому правительству Некомата Сурожанина и его бегством в Тверь) и привело к разгрому Твери московскими войсками в 1375 г. Оставшиеся верными московскому великому князю Дмитрию Ивановичу «сурожане», из среды которых вышел подвергаемый нами анализу Список, могли по политическим соображениям опустить в перечне «русских» городов тверские города. Надо при этом сказать, что и в «Задонщине» в числе участников сражения на Куликовом поле в 1380 г. тверские военные силы не названы.
Что касается внимания, проявленного в Списке к городам рязанским, то, помимо того обстоятельства, что маршруты торговых поездок в Крым обычно проходили через Рязанское княжество, такое внимание могло объясняться и связями составителя Списка с автором «Задонщины» – Софонием-рязанцем. Выходец из духовенства, очевидно, писавший свой труд уже вне пределов Рязанской земли, Софоний мог быть близок к представителям городской купеческой среды. А эта близость, как допустимо предположить, объясняет не только идейное влияние «Задонщины» на Список «русских» городов конца XIV в., но и проникновение идей, носителями которых были гости-«сурожане», в «Задонщину».
Для М. Н. Тихомирова доводом в пользу новгородского происхождения Списка «русских» городов служит то обстоятельство., что его ранняя редакция сохранилась в Археографическом списке Новгородской первой летописи. Но использование памятника в Новгородском летописании – еще не решающий аргумент на его написание в Новгороде. Я думаю, не менее, а более веским аргументом за возникновение Списка «русских» городов в среде гостей-«сурожан» является включение другой его (также ранней) редакции в состав Ермолинской летописи, связанной с именем крупного представителя московского купечества – В. Д. Ермолина. Вошел Список и в состав Воскресенской летописи – московского летописного свода.
* * *
Мне думается, что произведенный нами анализ некоторых памятников идеологии горожан XIV–XV вв. позволяет еще раз подчеркнуть тот общий вывод, к которому приводит и ряд наблюдений над-процессами социально-экономического и политического характера: о большой роли русского средневекового города в истории образования централизованного государства на Руси. Из среды горожан вышли произведения, обосновывавшие идеи единства Русской земли и необходимости ее сплочения в рамках единого государства. При всей классовой направленности и ограниченности этих идей они имели для своего времени большое прогрессивное значение.