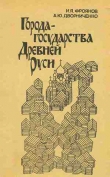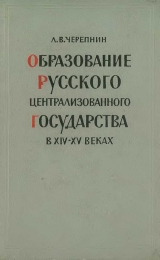
Текст книги "Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси"
Автор книги: Лев Черепнин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 62 (всего у книги 77 страниц)
Вред от наемных татарских отрядов «старци» (а вслед за ними автор подлежащей анализу повести) видят в том, во-первых, что им приходится платить деньги, которые утекают из пределов Руси («…наимуюче их, сребро издааша из земля своея»). Во-вторых, впуская в Русскую землю татар, князья дают им возможность ознакомиться с состоянием своих военных сил («к сему же да еще видять татарове наряд рускии»), а полученные сведения могут быть использованы в дальнейшем при татарском нападении на Русь во зло ей («да не будуть ли си на пакость земли нашей на прочая дни, егда измавльте, усмотривша нашея земля, на ны приидуть?»). Собственно говоря, ведь это и случилось при Едигее («якоже и сбысться»), говорит автор.
Итак, автор повести, излагающий взгляды «старых» бояр, является решительным противником каких-либо сговоров с Ордой. Он – сторонник поддержания с ней мира, но при условии сохранения постоянной настороженности к ее проискам в области дипломатической и принятия мер предосторожности от нее в области военной.
Какова позиция автора по вопросу о русско-литовских отношениях? В общем эта позиция близка к его взглядам на взаимоотношения русско-ордынские. Он выступает против использования вражды между литовскими князьями и привлечения ряда их на русскую службу с наделением большим количеством владений. Так, отражая мнение «старцев», автор не одобряет передачи ряда русских городов литовскому князю Свидригайлу Ольгердовичу, католику по вероисповеданию («…лях бе верою»), стороннику Василия I в борьбе с Витовтом. «Старци» порицали подобную политику московского правительства («сего же… не похвалиша»), приводившую к усилению пришельцев за счет русских земель. И в данном случае опять-таки учитывался опыт истории, не знавшей якобы подобных мероприятий. «Может ли се добро быти, его же в дни наша несть бывало, ни от древних слышано, иже толико градов дати пришелцю князю в землю нашю…?» Литовско-польские войска кичились тем, что им предоставлен в держание Владимир – политический центр Руси («…величаве дръжаще град пречистыа богоматере…»), но во время прихода в русские земли Едигея они обнаружили трусость, вели себя не как храбрые воины, оказались способными лишь на бегство перед лицом неприятеля («мужественна их лысты токмо на бег силу показаша…»).
Итак, речь должна идти о мире с Литвой и о том, чтобы опасаться передавать литовским князьям русские земли, поскольку такая передача может поставить под угрозу целостность русской территории. Но автор не выдвигает программы активной внешней политики в отношении Великого княжества Литовского в целях воссоединения русских земель. Он лишь глухо говорит, что, поскольку Витовт владел «всею землею Киевскою и Литовскою», между ним и Василием I возникали недоразумения «некиих ради земскых вещей, якоже обычаи бе землям» (т. е., по-видимому, в силу различия обычаев, господствовавших на территориях, населенных русскими, с одной стороны, литовцами – с другой).
Подводя итоги, можно сказать, что задачи внешней политики, отвечающей русским национальным интересам, часть господствующего класса («старых» бояр) видела в сохранении целостности и безопасности наличных русских территориальных владений, не выдвигая широких наступательных целей. Эта политическая линия отличается сравнительной умеренностью. В чем заключалась внешнеполитическая программа «юных» бояр (которую проводил московский великий князь), сказать трудно, так как в повести она, будучи подвергаема критике, не излагается позитивно. Но, очевидно, этот второй внешнеполитический курс (квалифицируемый «старцами» как политический авантюризм) отличался большей активностью и стремлением к наступательным действиям, проводимым с учетом международных противоречий; попыткой использования внутренних междоусобий в Орде и Литве, с тем чтобы опереться на какую-либо из борющихся групп и подчинить ее линию поведения интересам Руси.
Расхождения между «старыми» и «юными» боярами были, повидимому, и в области внутренней политики, хотя здесь они выступают менее отчетливо. Автор рассматриваемой повести, идеолог «старцев», поддерживает идею политического единства Руси. Он говорит о единой «земле Русской», о «Русской хоругви». Василия I он называет «самодержцем», а «Русскую землю» его «державой». Но «великое княжение Московское» – это, по мнению автора, лишь часть Русской «державы». Политическим ее центром является «многославный Владимир», «еже есть стол земля Русскыа…». Город Владимир-на-Клязьме, как когда-то древний Киев, выступает в глазах автора повести как «мати градом». Там происходит венчание на великое княжение тех из князей, кому принадлежит это право («…князи велиции русстии первоседание и стол земля Русскыя приемлють, иже великии князь всеа наименовается, ту бо первую честь приемлеть»). Таким образом, политический идеал автора повести, высказывающегося от имени «старых» бояр, сводится к представлению о единстве Руси как системе русских княжеств, находящихся под главенством великого князя владимирского, получающего этот титул независимо от ханского пожалования и поэтому выступающего в качестве «самодержца». Подобное представление о великом владимирском княжении могло создаться лишь после Куликовской битвы, ибо оно является показателем возрастающего стремления Руси к независимости от Орды, – и в этом его прогрессивность. Но в то же время идея великого владимирского княжения, переходящего к определенному представителю княжеского рода в силу принадлежащей ему «чести» (обычно в силу старейшинства), для первой половины XV в. уже явно становилась консервативной. Политическая идеология формирующегося единого государства, центром которого стала Москва, исходила из представления о вотчинном характере великокняжеской власти, передаваемой по наследству. Этот политический принцип, впервые сформулированный Дмитрием Донским в духовной грамоте 1389 г., очевидно, разделялся «юными» боярами. Что касается системы взаимоотношения между отдельными русскими землями, то полноправность (хотя бы в идее) их союза под главенством великого князя владимирского все более превращалась в подчинение Московскому княжеству. К этому, очевидно, и стремились «юные» бояре.
Характер взаимоотношений боярства с великим князем и отношений бояр между собой «старци» мыслили на основе, во-первых, сохранения в среде господствующего класса иерархической зависимости (системы «чинов»), во-вторых, на основе принадлежащих представителям высших разрядов феодальной иерархии прав критиковать действия князя. Младшие по «чину» не должны самостоятельно решать государственные вопросы, обходя мнение более опытных лиц. «Юнии старцев да почитють и сами едини без искуснейших старцев всякого земского правлениа да не самочиннуют, ибо красота граду есть старчество…», – читаем в повести об Едигее. Ее автор недоволен тем, что «юные» бояре, забывая о своем «чине», берут на себя смелость судить о государственных делах: «…юнии съвещавахут о всем, тем и многа в них не в чин строениа бывахуть». В то же время автор изучаемой повести призывает князей («властодержець») прислушиваться к советам «старцев» («таковым вещем да внимають»). В качестве примера им приводятся киевские князья («первии наши властодръжци»), не запрещавшие говорить о себе и хорошее и плохое («…без гнева повелевающе вся добрая и недобрая прилучившаяся написовати…»).
Подобный идеал политической жизни, выставленный публицистом из лагеря «старцев», в принципе вряд ли мог вызвать возражения со стороны великих князей или «юных» бояр, ибо в нем не «было чего-либо, отступающего от привычных порядков феодального общества этого времени. Но дело было, по-видимому, в том, что московские князья, проводя свою объединительную политику, на практике все в большей мере выдвигали на передовые политические позиции широкие круги землевладельцев, оттеснявших на задний план старую боярскую знать, и сами действовали все более самостоятельно, не считаясь с мнением последней. Это и вызывало оппозицию – со стороны части боярства, голос которого слышен в повести о нашествии Едигея, помещенной в Симеоновской летописи и Рогожском летописце.
Полезно несколько вдуматься в то содержание, которое вкладывается в термины «старые» и «юные» бояре повестью об Едигее. В известной мере эти термины имеют книжное происхождение, поскольку автор в качестве литературного образца для своего рассуждения взял «Повесть временных лет», в которой говорится о соперничестве «старых» и «юных» дружинников во времена киевского князя Всеволода Ярославича (вторая половина XI в.). Но эти книжные понятия как-то преломляются в политическом сознании автора применительно к текущей действительности. Как же именно? Имеются ли, например, в виду специально московские бояре? Думаю, что нет. Хотя в поле зрения автора в первую очередь находится как раз Московское княжество, но в то же время он сам говорит, что политическое влияние в Москве оказалось в руках «юных» бояр потому, что «старых» там не оказалось («не бяшеть бо в то время на Москве бояр старых…»). Очевидно, автор говорит вообще о русском боярстве, а расхождения внутри него выражают две программы (два возможных пути) политической централизации. Один, более консервативный, – это путь развития владимирского великого княжения, в составе которого объединяются (на началах соподчинения) отдельные русские княжества и которое ведет умеренную политику, отвечающую национальным интересам Руси, но претендующую не более, чем на сохранность и безопасность наличного комплекса северо-восточных русских земель, оторванных от земель юго-западных. Другой, более решительный, – это путь подчинения других русских земель Москве (объем территории, формы и степень этого подчинения вряд ли представлялись ясно) и активной внешней политики, достаточно гибкой, чтобы учитывать благоприятные для Руси комбинации в международной обстановке, и не стесняющейся в применяемых средствах, если речь шла о расширении территории, населенной восточными славянами.
Где и когда возник подвергаемый анализу вариант повести об Едигее? Вряд ли в Москве. Во-первых, автор говорит о Москве как о чем-то постороннем. Например: «не бяшеть бо в то время на Москве бояр старых». Или, рассказывая о передаче в держание литовскому князю Свидригайло Ольгердовичу города Владимира, автор с укором пишет: «И таковаго града не помиловавше москвичи, вдаша в одержание ляхов». Следовательно, сам себя он не причисляет к москвичам. Во-вторых, весь аспект повести – критический в отношении московского правительства. Осуждая московское правительство за то, что во время военных действий на реке Плаве против Литвы оно прибегло к татарской помощи, и проводя при этом параллель с поступками древнерусских князей, выставлявших друг против друга половцев, автор использует в качестве источника тверской свод. Специальное внимание к тверским делам, которое видно из упоминания в повести о разорении татарами Клинской волости, сделанного в несколько торжественном тоне («Тферскаго настолованиа дому святого Спаса взяша волость Клинскую…»), дает основание считать местом происхождения данного текста Тверскую землю. Это объясняет и ее известный критицизм в отношении политики московского князя. Но надо сказать, что автор разбираемого текста по своему кругозору значительно шире автора повести на ту же тему, включенной в Тверской сборник. Он чужд настроений областнической изолированности, присущих последнему. Его суждения основаны на глубоком анализе политических отношений внутри господствующего класса всей Руси, а также и международной обстановки.
О времени создания интересующего нас литературного произведения прямых данных нет. Думаю, что, для того чтобы сделать выводы общеполитического характера на основе оценки последствий нашествия Едигея, нужен был известный срок. В то же время повесть написана тогда, когда власть Орды была еще вполне реально ощутимой, а вопрос о средствах борьбы с ней весьма актуальным. Вернее всего, памятник относится примерно к середине XV в. Как раз феодальная война второй четверти XV в. со всей остротой поставила вопрос о путях политической централизации, а этой проблеме по существу и посвящены рассуждения автора анализируемой повести.
Я уже указывал на публицистичность данного варианта повести об Едигее. Она построена в полемическом тоне. Автор, не называя по имени своих оппонентов (ибо, очевидно, он имел в виду не отдельных лиц, а целое политическое направление), говорит, что многим не понравится им написанное, но он вовсе не хочет наносить урон чьей либо чести, а стремится лишь быть правдивым в своем описании и оценках. «И сиа вся написанная, аще и не лепо кому зреться, иже толико от случившихся в нашей земле неговеине нам изъглаголавшем: мы бо ни досажающи, ни завидяще чести вашей, и таковая вчинихом…»
Другая характерная черта повести (наряду с публицистичностью) – это ее историзм, выражающийся в попытке осмыслить и оценить события XV в. с точки зрения того поучительного материала, который можно извлечь из произведений, освещающих прошлое Руси. Высказывая свои суждения по поводу политики князей и настроений бояр XV в., автор прямо ссылается на пример «началнаго летословца (летописца) Киевскаго», не стеснявшегося излагать свои мнения о современной ему действительности («иже вся временно-богатства земская не обинуяся показуеть»). В изучаемом тексте упомянуто имя редактора Повести временных лет «великаго Селивестра Выдобожскаго» (Выдубицкого), писавшего не приукрашивая истории («не украшая пишущаго»). Конечно, отсутствие бесстрастности, отличающее рассматриваемую нами повесть, вовсе не служит признаком ее беспристрастности. Она в достаточной мере политически зострена и пристрастна, что и делает ее таким злободневным для своего времени документом.
Обращение публицистик исередины XV в. к историческим памятникам времени древнерусского государства, как назидательному материалу, является показателем того, что шел процесс политического объединения Руси, и идеологи разных общественных групп по-своему осмысливали его на опыте прошлого.
В некоторых летописях (Новгородской четвертой) помещен литературно обработанный ярлык Едигея Василию I, посланный после его отступления и объясняющий причины недавнего татаро-монгольского похода на Русь. Ярлык этот излагает претензии Едигея к великому князю. На Руси были задержаны дети хана Тохтамыша. Приходившие в Русскую землю ордынские послы и торговцы не встречали должного приема, им не оказывалась соответствующая честь, они испытывали притеснения («…торговци и послы царевы приездять, и вы царевых послов на смех поднимаете, а торговцев такоже на смех поднимаете, да велика им истома чинится оу тебе, и то не добро…»). Московский великий князь Василий I не ездил на поклон в Орду уже к трем последовательно сменившимся там ханам (Темир-Кутлую, Шадибеку, Булату) и не посылал ордынским властям «выхода», жалуясь на истощение русского населения («А како к нам ежелет шлешь жалобы и жалобный грамоты, а ркоучи тако, что «ся оулоус истомил, и выходы взяти не на чемь?»… то еси нам все лгал»).
Таким образом, ясно, что к началу XV в. власть Орды над русскими землями значительно ослабела, временами носила номинальный характер, и Едигей хотел добиться силой восстановления русско-ордынских отношений в том виде, какой они имели до Куликовской битвы. В ярлыке Василию I он рисует тот политический идеал (с точки зрения Орды), который нарушен в результате усиления Руси и роста ее самостоятельности: «а преже сего оулоус был и сдержавоу дръжал да и пошлину, иных царевых послов чтил, и гостей держали без истомы и без обиды». Русские княжества ранее представляли собой «улус» (владение) ордынских ханов, русские князья подчинялись ханским послам, не препятствовали свободной торговле ордынских гостей. Такие порядки, по словам Едигея, – «добро» и для Орды и для Руси, а их нарушение – это «пакость» для обеих сторон.
Есть еще один интересный момент в ярлыке Едигея – это содержащиеся в нем упреки Василию I в том, что он поддается воздействию дурных советников и поэтому нарушает «добрые» отношения с ордынскими правителями. Едигей, так же как автор повести, включенной в Симеоновскую летопись и Рогожский летописец, советует Василию I прислушиваться к голосу «старцев». Только ярлык приписывает «старцам» совершенно иные настроения и мысли, чем указанная повесть. По ярлыку, «старцы» – это сторонники соблюдения русскими князьями всех обязательств в отношени ордынских ханов как своих властителей. Представителем бояр, защищавших подобную политику, назван Федор Кошка, при котором «добры нравы и добраа дела и добраа доума к Орде была» [2164]2164
ПСРЛ, т. IV, ч. 1, вып. 2, стр. 406–407.
[Закрыть]. Сторонником другого политического курса, тянущего к разрыву с Ордой, Едигей считает сына Федора Кошки – Ивана Федоровича: его «доума не добра», но московский великий князь полностью поддался его влиянию («и ты нынеча ис того слова и думы не выступаешь»).
Едигей дает Василию I совет – собрать «своих бояр старейшин» и «многих старцев земьскых» (может быть, городскую аристократию) и решить с ними, как поступать, чтобы сохранить хорошие отношения с Ордой («доумал бы еси с ними добрую доуму, какаа пошлина добро…»). Если же великий московский князь будет продолжать действовать по-своему («осваиватися»), то ему нельзя, читаем в ярлыке, возглавлять улус, подчиненный ордынским ханам («…како ти во оулусе семь княжити?»). Последнее звучит уже как прямая угроза со стороны ордынского властителя свергнуть Василия I с великокняжеского стола. Такую же угрозу представляет имеющееся в ярлыке предостережение великому князю о том, что если он не будет поступать по указанию ордынских правителей, то навлечет этим беды на русский народ («чтобы твоим крестьяном многым и великим в твоей дрьжаве не погибли бы до конца»). Ясно, что, уходя, Едигей не оставлял мысли о новом походе на Русь.
При чтении ярлыка Едигея остается впечатление о его достаточной осведомленности в русских делах, о его знакомстве с взглядами и политической ориентацией различных групп боярства. Конечно, в этом нельзя видеть только отвлеченный интерес ордынских правителей к политическим взаимоотношениям на Руси. Они не просто знакомились с тем, что думали, говорили, как поступали при различной внешнеполитической ситуации те или иные представители господствующего класса. Они старались формировать их мировоззрение, воздействовать на их поведение. Ярлык Едигея и был одним из документов, посредством которых выходцами из Орды производилась активная пропаганда среди правящих кругов Руси соответствующей программы русско-ордынских отношений.
Имеются все основания полагать, что повесть о татарском нашествии 1408 г., помещенная в Симеоновской летописи и Рогожском летописце, явилась ответом на ярлык Едигея. Отсюда ее взволнованный полемический тон. Автор стремится прежде всего доказать весь вред такой политики, при которой ордынским выходцам предоставляются слишком большие возможности знакомиться с тем, что делается на Руси. И с этой точки зрения он критикует поведение Василия I, которого Едигей обвиняет в другом – в нежелании выполнять предписания Орды. Следовательно, автор хочет сказать, что даже тот внешнеполитический курс московского правительства, который не удовлетворяет ордынских властей, еще недостаточно служит национальным интересам Руси.
Утверждению Едигея, что «старцы» являются сторонниками удовлетворения ордынских требований (утверждению, основанному на обобщении отдельных, может быть, и реальных фактов), автор повести, помещенной в Симеоновской летописи и Рогожском летописце, противопоставляет свою точку зрения. Она сводится к тому, что традиционная, исторически сложившаяся, восходящая к киевским временам, линия старого русского боярства заключается в осуждении политики сотрудничества Руси с завоевателями, вторгавшимися из Азии (в том числе и с татаро-монгольскими захватчиками).
В провозглашении указанных выше идей заключается патриотизм разбираемой повести при всей ограниченности мировоззрения ее автора (даже с точки зрения требований своего времени и своего класса).
Рассказ о нашествии Едигея на Русь, помещенный в Ермолинской, Львовской, Софийской второй, Типографской летописях, подвергся некоторой переработке в Воскресенской летописи (в соответствии с Московским сводом конца XV в.). Прежде всего еще более выпукло представлены ужасы, причиненные Руси татарскими полчищами. Множество народа было «иссечено» татарами. Они убивали детей на глазах у их родителей. Отступая, грабители захватили с собой громадное количество «полона» и «всякого товара». В татарском плену русские люди гибли от холода и голода [2165]2165
ПСРЛ, т. VIII, стр. 82–84; т. XXV, стр. 238–239.
[Закрыть].
Нельзя сказать, что Воскресенская летопись обогатила наше представление о тяжелых для Руси результатах татарского нашествия 1408 г. каким-либо новым конкретным материалом, отсутствующим в летописях, ранее рассмотренных. Впечатление о страшном погроме, учиненном татаро-монгольскими войсками, получается в результате главным образом литературной обработки сухого и лаконичного материала Ермолинской летописи и других вышеуказанных сводов. При этом литературные приемы, к которым прибегает составитель, действуя на воображение читателя, художественные образы, которые он дает в тексте, довольно стандартны и повторяются в других памятниках книжной письменности. Поэтому картина разорения Руси, нарисованная в Воскресенской летописи, для истории интересна не с точки зрения отражения реальных деталей этого времени. Она представляет интерес, во-первых, потому, что раз составитель изучаемой повести использовал весь арсенал изобразительных средств (пусть трафаретных и лишенных непосредственности восприятия), чтобы воспроизвести жуткие последствия прихода Едигея в русские земли, значит в народном сознании этот приход надолго запечатлелся как событие, связанное со страшным бедствием для Руси. И таким оно было на самом деле. Очевидно, и литературный шаблон может стать средством познания реальной действительности. Во-вторых, текст Воскресенской летописи важен для нас, поскольку он позволяет судить об отношении книжников второй половины XV в. к татаро-монгольскому игу (уже накануне его падения) как к политическому злу.
В связи с этим необходимо отметить еще одну политическую тенденцию, которая имеется в Воскресенской летописи. Это представление о необходимости борьбы с татаро-монгольскими захватчиками как о деле общенационального значения. Воскресенская летопись подчеркивает, что от татарских набегов страдает все население, независимо от сословной принадлежности или от степени состоятельности. Нашествие Едигея причинило «напасти и убытки всем человеком… и болшим и меншим, и ближним и дал ним, и не бысть такова, иже бы без убытка был». Поэтому летопись старается доказать, что и на борьбу с Едигеем поднялся весь народ. Когда татарские войска осадили Москву, то там скопились «мнози бояре… и епископи, и весь священнический чин, и многое множество народа многочислено…»
То, что Воскресенская летопись заостряет внимание на общенациональном подъеме, имевшем место в 1408 г. и содействовавшем успешной обороне Москвы от татарских полчищ, является показателем политических настроений, господствующих среди передовой части феодалов второй половины XV в., настаивавших на активной политике в отношении Орды в целях освобождения Руси от татаро-монгольского ига. Нельзя назвать искажением исторической перспективы и освещение летописцем с точки зрения этих настроений событий освободительной борьбы 1408 г. Несомненно, и в это время в антиордынское движение втягивались разные категории населения. Но в то же время летописец, рисуя картину обороны Москвы в 1408 г., явно допускает известную социальную нивелировку и тем самым, сознательно или бессознательно, снижает роль, которую сыграли в защите города народные массы.
Наконец, следует остановиться на церковно-религиозной направленности повести о нашествии Едигея в том варианте, который помещен в Воскресенской летописи. Избавление Москвы от грозившей ей опасности со стороны Едигея объясняется здесь чудесным заступничеством за москвичей перед богом «новаго чюдотворца русскаго» – митрополита Петра. 20 декабря, когда Едигей отступил от Москвы, – это день празднования памяти Петра. Фигура «новаго чюдотворца русскаго» приобретает в повести известное символическое значение. Он еще при жизни «превозлюби град свой [Москву] паче всех град», здесь находится его гробница («в нем же и целбоносный гроб его бяше, имея честныя мощи его»), поэтому в 1408 г. молитва Петра спасла «люди и град от толикиа нужи и беды, належащаа на них».
Чуду защиты Москвы от ордынской опасности составитель повести об Едигее, включенной в Воскресенскую летопись, посвящает специальную концовку. Перед нами определенная политическая концепция, оценивающая с церковных позиций значение Москвы как средоточия шедшего объединения русских земель и пункта, возглавившего борьбу с татаро-монгольским игом. Политические успехи Москвы объясняются в повести тем, что она является церковным центром, местопребыванием русских митрополитов. Конечно, эта концепция играла известную положительную роль в деле идеологической пропаганды необходимости ликвидации раздробленности и свержения чужеземного владычества. Но объективно религиозно-церковная трактовка событий освободительной борьбы 1408 г. искажала характер участия в них «града» (Москвы) и «людий» (горожан – москвичей), ибо «град» рассматривался лишь как церковный центр, а «люди» как честные христиане., чудом избежавшие козней врага, а не как активные деятели оказанного ему сопротивления.
Думаю, что вопрос об общерусском значении Москвы выдвинут в Воскресенской летописи (а еще раньше в Московском своде) в противовес Симеоновской и Рогожской летописям, подчеркивавшим роль Владимира как политического и церковного средоточия Руси («в нем же и чюднаа великая православная съборная церкви пречистыа богоматере, еже есть похвала и слава по всей вселеннеи живущим Христианом, источник и корень нашего благочестиа…»). Об избавлении Москвы от татарского разорения во время нашествия Едигея в Симеоновской летописи и Рогожском летописце сказано довольно глухо («токмо един град богом храняше молитвами пречистыа его матери и животворивыа иконы ради и Петра архиепископа ради») [2166]2166
ПСРЛ, т. XVIII, стр. 157, 158.
[Закрыть]. Московский свод и Воскресенская летопись, поднимая на щит Москву как национальный центр, тем самым выступали против проводившейся Симеоновской летописью и Рогожским летописцем концепции, согласно которой политическое единство Руси должно осуществиться в виде союза русских княжеств во главе с Владимиром. Основой политического объединения русских земель теперь объявлялось Московское княжество.
Повесть о нашествии Едигея, содержащаяся в Никоновской летописи [2167]2167
ПСРЛ, т. XI, стр. 205–211.
[Закрыть], представляет собой позднейшую литературную обработку текстов, содержащихся в более ранних летописных сводах. Эта переработка интересна уже в плане изучения политических отношений и идеологии XVI в.
Из всего вышеизложенного видно, насколько всколыхнуло общественную мысль нашествие Едигея и насколько оно содействовало дальнейшему развитию освободительной борьбы русского народа против ордынского ига.