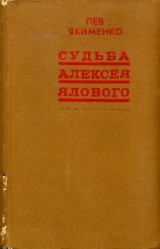
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
Ночью звонил то одному, то другому. Рано утром сказал: «Вашего мужа скоро освободят. Обвинения против него не подтверждаются».
Мама еще несколько дней прожила в городе. Вернулась домой, а посреди кухни в шаплыке – бочонок такой круглый для купания – татусь, над ним пар от горячей воды, драит сам себе спину мочалкой. Алешка вокруг на одной ноге прыгает. Опередил маму татусь…
Бондарь, кроме всего прочего, как сообщил следователь татусю, написал, что он готов поручиться за Ялового, знает его с 1905 года и доверяет ему. Достаточно оказалось такого поручительства старого большевика.
НА ТОКУ
Про Алешу Ялового говорили: «работящий хлопчик». Вставал чуть свет. То в одном, то в другом дворе сонная женщина брела с ведром к конюшне – доить коров. Выгонят в череду, растопят печи, а потом уже на работу.
На бригадном дворе Алеша первый. После него появлялся бригадир, дядько Афанасий. Алеша от него ни на шаг, чтобы не забыл, назначил на работу. Переставляет грязные босые ноги в цыпках, с бригадира глаз не спускает. И когда тот говорил: «Нема для тебя сегодня подходящей работы. Гуляй, хлопче», день умирал для Алеши. Становилось скучно, как в неприкаянные осенние сумерки: и дома нечего делать, и на улице никого нет. Бродил по колхозному двору, то в опустевшую конюшню заглянет, то к шорникам – чинили сбрую – напросится помогать: рысью к колодцу за водой, дратву сучить, хомут подержать.
Но разве это работа?
После июньских дождей культивировали кукурузу. Всю неделю проработал Алеша. Полилки шли в междурядьях, женщины – белые платки козырьками на самые глаза – сапали в рядках, прорежали.
Алеша верхом на коне. Вся степь перед ним: зеленые поля кукурузы – почти в пояс поднялась; за ними темные с седоватым отливом подсолнухи; справа – прихваченные медью созревающие поля пшеницы; слева, поближе к селу, – белый начес овса, взбегающего на осевший курган со скифской бабой. Она ушла в землю по самые плечи – плоское серое лицо, треугольники равнодушных, дремотно-усталых глаз.
Из гон в гоны. Из одного конца поля в другой. Тяжелый шаг коня, угнувшего голову, скрип колесика, шорох подрезаемой земли. С восхода и до захода.
Прошло солнце по небу, по извечной дороге своей, постояло над землей, насытило ее живым теплом, поиграло с ветром, с облаками, ушло на покой.
И Алеша – на покой. Он почти спал в потряхивающей бричке, которая везла их, тружеников, из степи. Едва добирался домой на «раскоряченных ногах» – почти весь день на коне – и сразу в постель. Валился в беспробудную яму. А чуть свет вновь на ногах, по росистой дорожке напрямки в бригаду. На работу.
Заспанное красноватое солнце нехотя, медленно выбиралось из глубокой степной балки. Алеша встречал его уже на коне. Молчаливый дядько Микола Костенко своими тяжелыми руками охватывал ручки полилки, качал широкополым брылем: «Трогай! – И: – Но-о!» Начинался снова длинный-длинный рабочий день.
Вновь вернется он на это поле, когда выгорят, пожухнут травы у дороги, степь начнет пустеть – голая, по-осеннему неприютная стерня; насквозь просвечивают безголовые стебли подсолнухов, словно кто палки повтыкал рядами; на баштане сыто круглятся черные, рябые арбузы – подходит их время. Желтые кукурузные поля сухо шелестят опавшими вниз косками, початки крупные, зерно в них твердое, янтарного отлива. Не раз с довольным вздохом скажут: «Добра пшинка уродила!»
Алеша вспомнит, как проходили они с дядьком Миколой рядок за рядком, оставляя после себя темную изрыхленную землю, вялое горьковатое дыхание подрезанного молочая, сурепки, повилики.
Он стоит с батожком возле своих коней, запряженных в бричку, с глухим стуком падают на нее початки; он отвезет их сейчас на бригадный двор, там обмолотят кукурузу, люди возьмут свое, часть оставят на семена и весной, как только прогреется земля, бросят их в борозду; и вновь начнется тайная работа жизни… Вечное движение и обновление.
И от людей требуется только одно: согласие среди самих себя и понимание всеобщей связи.
Праздники шли по календарю природы. Кончали молотить, ссыпали зерно в амбары – самый большой праздник считался. В колхозе, в первые годы, по старинным обычаям отмечали и «дожинки», когда все скашивали в поле, и конец обмолота.
Умолкала молотилка, которая в течение последних дней ненасытно ревела от темна до темна, наступала вдруг великая тишина. Слышалось озабоченное квохтанье наседки, собиравшей своих подросших голенастых цыплят, вялое шевеление тронутых кое-где желтизной листьев на деревьях, дальний прощальный гром – лето еще томило жарой, и уже угадывалось слабое дыхание подступающей осени.
Люди чистились, отмывали горячей водой многодневные грязь и пот, принаряжались.
На праздник шли семейно: мужчины блистали начищенными сапогами, вышитыми сорочками, женщины цвели кофтами и яркими платками. Подходили, чинно здоровались – будто давно не видались. Мужчины с цигарками – в свой гурток, женщины в свой, дивчата, как всегда, осторонь, со своими «байками», взрывами несдержанного смеха, толканиями, притопываниями, оглядываниями. Ни одного парубка не пропустят, чтобы не обсудить со всех сторон: и с кем гулял и гуляет, и с кем вчера вечером под тополями стоял, и как одет, и работает как, и мать, отец какие у него.
Низкие столы расставляли на просторном дворе, если было жарковато – в леваде, под раскидистыми вербами. Первым делом выставляли пышные, с подрезанными краями паляныци из муки нового урожая, затем расставляли все, чем издавна в этих местах «частували» гостей: холодец, тонко нарезанное сало, вареных кур, пироги с капустой и яйцами, «с пылу с жару» вареники с картофелем – постное масло желтовато отсвечивало в сулеях. Помидоры, огурцы – само собой, за закуску не считались. Горилку разносили в четвертях, наливали каждому дородные зазывно-голосистые тетушки. Привечать привечали, а сами знали, кому сколько можно налить. А то и обойдут, вроде и не заметят протянутого стакана.
Дядько Бессараб говорил первым. Рассказывал, сколько чего получили, какие планы, где и что будут сеять, потом называл по бумажке ударников… В самом конце Алеша свою фамилию услышал. Не поверил, замер, руки-ноги отнялись. За общий стол с великим смущением садился, – чего доброго, и прогонят: «А ну, давай, малый, ничого тут тоби робыть!» И вдруг такое!..
Алеша глаз поднять не мог, лицо отяжелело, полыхнуло по щекам. Может, и хорошо, что люди о своем, не заметили, как было сказано про Алешу. Рвут острыми зубами сало, с хрустом перегрызают дымчато-сизые огурцы, прижмуривают замаслившиеся глаза – по первой «пропустили»…
Настоящее веселье начиналось, когда вступал в дело оркестр: призывно бил бубен, звякали колокольца, высоко забирала скрипка, рьяно заходилась гармонь. Танцплощадка – вот она: вылизанный ветрами, утрамбованный до каменной тверди ток. Пары еще только подбирались, а Пронька, неугомонная девка-соседка, в городских полусапожках, грудь в намисте, доглядела Алешу. Хвать его за руку – и в круг: «С ударником пойду! Давай, женишок!»
Вот дуреха! Под свист, улюлюканье, подзадоривающие крики еле вырвался, домой подался. Весь праздник испортила.
В спину ударил ему низкий Пронькин голос, зачастила каблуками, как будто по деревянному полу пошла, каждое слово выговаривала:
Ой дивчина-горлица
До козака горнется.
А козак, як орел,
Як побачив, так и вмер!
Алеше в насмешку, что ли? И во время молотьбы от нее натерпелся. В тот памятный день, когда он нежданно-негаданно лишился работы…
Молотьбу Алеша любил до самозабвения. Алешкина работа была подавать пустую сетку от стога к молотилке. Гудящая молотилка выбрасывала вымолоченные стебли, они вздрагивающими валками сползали по отбеленной лестничке, их подхватывали вилами – и на сетку. Как только набирался огромный ворох, тройка запряженных в бричку лошадей волокла сетку с соломой на стог. Она плыла, покачиваясь, по земле, вползала по пологому склону на верх стога, там опытные дядьки освобождали сетку, вываливали солому. Ровняли стог. Алеша прицеплял веревку с крючком за валек и к своей лошади, бегом назад – сетку к молотилке.
Хорошая работа. И в тени можно посидеть, пока набивают сетку, передохнуть, и видишь всех. Возле двигателя неизменный Илько-машинист. Он раздался в плечах, погрузнел, что-то властное, хозяйское появилось в его походке. Он и прикрикнет, если зазеваешься. В барабан подает дядько Иван, Пронька разрезает снопы кривым ножом, подсовывает ему. А за стогом, тоже в тени, парубки в бричке, ждут сигнала, чтобы тянуть сетку.
Но вскоре у Алеши нашлись соперники и завистники. Какой-то дядько поглядел-поглядел, почесал в затылке: хлопец, выходе, хлиб заробля, а мий Яшко дома гусей гоняет. И вот появляется щербатый Яшко, опережает зазевавшегося Алешку, первым захватывает коня, а батько его, оказывается, еще с вечера припрятал сбрую. И Алеша без работы, один со своим батогом.
Яшко по-хозяйски покрикивает на его, Алешкиного, коня, зацепляет сетку, разваливается в холодке под сараем на его месте, а он, вчерашний хозяин, топчется в сторонке. Никому не нужный. Всем чужой. Дядько Афанасий вроде и не замечает его, как будто и не знал никогда, в глаза не видел, с карандашиком за ухом, с бумажками в руке взвешивает зерно в мешках, отправляет на подводах в амбары.
А Алеше что делать? Куда ни ткнется, всем вроде мешает, в одном месте толкнули, в другом выругали. Вот что значит человек не при деле. Вчера еще был нужен, а сегодня лишний.
Домой не пошел. Томился. Ждал. Чего – и сам не знал. Солнце палило так, что молотьбу прервали. Двигатель перегревался, люди не выдерживали: Одарку Шевченко удар хватил, водой отливали, в амбулаторию повезли. Ток опустел. Почти все подались по домам передохнуть в холодке часа два-три. Яшко возился с конем, напоил, свежескошенной травы подбросил. Все делал по-хозяйски, ревнивый Алешкин глаз не замечал никаких упущений. Яшко из конюшни так и не вылез, опасался, видно, соперника, дрыхнул на сене возле коня.
Алеша в одинокой печали своей примостился под вербой, руки безрадостно под голову. Солнце стояло в зените. Пот щипал глаза. Раскаленный воздух сушил губы. Молотилка, бело отсвечивая металлическими частями, казалось, вот-вот расплавится, растает в знойном мареве. Даже лебеда привяла на корню, калачики бессильно уронили свои головки.
А солнце не двигалось. Жгло, палило землю. Листья на вербе и те свернулись, казалось, дунь ветерок – сразу облетят.
И Алеша в обиде одиночества, в знойной истоме вдруг подумал: а что, если так будет палить и день и другой. И солнце не зайдет. Над землей станет. И ни с места. Выгорит все живое. Облетят листья с деревьев. Пересохнут реки, озера. В колодцах иссякнет вода. И люди будут падать без сил под этим накаленно-белым, обжигающим пламенем. И только пыль взвихрится на серой, потерявшей жизнь земле.
Про «конец свита» недаром люди придумали. Вот так пожарит с недельку – поверишь.
Повернулся Алеша на живот, от земли пахло травой. Слабое влажное дыхание уловил Алеша. Оборонялась земля от палящего зноя, жила…
Что-то сокровенное дрогнуло в Алеше. Знойный дурман злости, раздражения, одиночества – все вдруг ушло, растаяло.
«Не буду враждовать с Яшком, – решил он. – Подойду, скажу: давай вместе, один раз – ты, другой – я. А трудодень пусть тебе одному пишут».
Дядько Афанасий рассудил по-другому: один полдня поработал, теперь пусть другой. Или через день. Сами решайте.
Алешка одолел-таки его своим терпеливым ожиданием.
– И в кого воно таке бидове? – пробормотал дядько, оставляя хлопчиков возле коня с сеткой.
Под вечер бригадир вновь вспомнил про Алешку. Надобно было подвезти снопы из степи. Молотили уже прямо из гарб. А утром, как начнут? Бригадир забегал, снарядил одну гарбу, другую… На третьей Пронька отказалась ехать одна.
– Я коней боюсь, – и зябко повела округлившимся плечом. Глаза в землю. Скромница, да и только!
Дядько Афанасий крякнул. Морока одна с этими дивчатами! Вчера еще краем сорочки сопли подбирала, а сейчас глянь, яка дивка. Очами поведет, аж под сердцем ворохнется, дарма что не молодой!
Прикинул: от молотилки никого брать нельзя, а без напарника дивка не поедет, уперлась… Знаем их. И тут его осенило. Погоди же! Ты думаешь, що я тебе какого-нибудь парубка подкину, чтобы с ним всю дорогу хиханьки да хаханьки. Я тебе «кавалера» подберу!
– Ось тоби напарник! – сказал дядько, выталкивая вперед Алешу с батогом. – Вин с конями справится.
Пронька босой ногой раздумчиво поцарапала землю и вдруг согласилась:
– А чего же! Це ж мий женишок! – Смело подмигнула ухмыляющемуся бригадиру. – Як пидросте, так и поженимся. Верно, Алеша?
Закричала во весь голос. При всем народе:
– А ну, подойди, я тебя пригорну…
Потянулась обнять, Алеша отскочил как ошпаренный. Чуть батогом Проньку не потянул, чтобы знала, как скалиться при народе. Маленький он, что ли!
Коней с места рванул так, что за гарбой сразу пыль клубами.
Пронька свесила ноги через решетку, платком прикрылась, на хлопчика никакого внимания. Будто и не заигрывала только что на людях.
Алеша глянет на нее, и в коленях томная слабость. Ожидал, а чего – и сам не знал.
Лошади пошли мерной рысью, стучали колеса. Алеше вдруг тревожно припомнилось давнее, что не забывалось, в самую кровь вошло.
Он тогда еще в штанишках на одной помочи бегал. Пронька позвала Алешу на речку. Шла мимо двора, крикнула: «Айда купаться!..» Видно, одной неохота было, подружек в тот час не нашлось, вот Алешка и пригодился.
На ходу, не стесняясь Алешки, сбросила пыльное платьице – в тот день у них и веяли и домолачивали на току, – попробовала ногой воду. Стала на песке.
Солнце опускалось за гору. Отражения верб неподвижно темнели на воде, за светлыми капустными огородами виднелись хаты, на беленых стенах медленно гасли оранжевые полосы заката. Было тихо-тихо, тепло, томно, как всегда после долгого жаркого дня.
Пронька потянулась, откинула голову с распустившимися косами, закинула руки за шею. Стояла так, будто задумалась о чем-то тайном, сокровенном.
Алешка взглянул на ее лицо в тихой истоме, на полуоткрытый рот и удивился ее губам – они рдели так, словно она только сейчас ела вишни. Не таясь, взглянул ниже и тут с внезапно сорвавшимся сердцем впервые увидел белые груди торчком с тугими, будто вставленными коричневыми сосками. И, уже сознавая, что позволяет себе что-то запретное, стыдное, скользнул по мягкой округлости живота. И, будто проваливаясь, одним краешком глаза все же взглянул и пониже.
Пронька вздохнула, разомкнула руки, повернулась. Увидела рядом Алешку, его замерший взгляд.
– Ах ты цуценя!.. – ахнула она. – Еще до пупа не дотянется, а туда же…
И шлеп Алешку – и в воду его с головой.
Алеша за шлепок не обиделся, шлепнула вроде играя, что он, не понимает, хлопнула даже с некоторым поощрением, хотя и обозвала щенком, вынырнул и кинулся к Проньке. Ну совсем настоящий парубок, сколько раз видел, как дурили они с дивчатами на воде. Пронька заигрываний его не приняла, легонько-легонько оттолкнула, легла на спину и поплыла вглубь, поближе к тому берегу. Но Алеше долго еще после снились грешные сны.
Вот с того времени и завязалось то тайное, чему и названия не придумаешь.
Катались зимой на санках. В лед вморозили кол, на него надели колесо от брички, привязали длинные слеги и к ним санки. Парубки как раскрутят колесо – санки со свистом по кругу, сносит тебя, срывает, обеими руками уцепишься, все равно не удержаться, визг, хохот, выкрики. И вдруг сверху на Алешу что-то мягкое, живое, теплое. Пронька смеющимися губами щеки коснулась: «Держись, козаче!» Вместе и полетели в сугроб, первая вскочила, поднимает, отряхивает Алешу: «Не убился?» Тормошит, смеется. Глаза под серым пуховым платком как звезды.
Всю дорогу в степь – Алеша об этом. Головы не повернул, замер в стыдном напряжении, все ожидал, вот Пронька повернется к нему, придвинется. А что будет дальше, и сам не знал.
А Пронька всю дорогу – будто в монастырь собралась. Слова не обронила, «ах» не сказала, вроде и не было никого рядом.
На поле возле копен пшеницы поджидал их дядько Микола в неизменном своем широком брыле. Молча набросали вместе с Пронькой полную гарбу, уложили, увязали снопы веревкой. Гарба тронулась, позади остались темноватые сырые пятна на стерне, дальше – островерхие копны. Дядько Микола, опершись на вилы, смотрел им вслед.
Лошади шли шагом. Солнце, остывая, уже гляделось в закатную глубь. Алеша – высоко на снопах, между небом и землей. Внизу бежала дорога, лоснились вздрагивающие лошадиные крупы, отдавало едким конским потом, у серой кобылы в паху проступило «мыло».
Пронька – спиной к Алеше, едва касалась, как сестра к брату. Она все начинала и никак не могла кончить песню:
Плыве човен, воды повен,
Та все хлюп-хлюп-хлюп…
И замирала, словно забывала все дальнейшие слова.
Перевалила наконец через невидимый рубеж, повела про козаченька, который не должен был гордиться своими кудрями, потому что они разовьются, как только выйдет на улицу. Про дивчину в красном намисте, которое оборвут…
Низкий голос ее с хрипотцой сорвался, словно слезы хлебнул.
И Алеша дрогнул, обмяк весь. Второй раз за этот день его так «переворачивало». Вдруг ушло все то, что томило его напряжением, испуганным ожиданием. Девичья невыплаканная слеза смыла все, и остался хлопчик, который неожиданно с братской теплотой и состраданием начал все понимать. Увидел все обострившимся духовным зрением.
Разве не знал он, что томило, не давало покоя Проньке? Знал. И не понимал. А теперь вдруг понял в бескорыстном очищающем отречении от того, что, казалось, принадлежало и ему. Видно, наступала пора превращений и прозрений.
Многим женихам «гарбуза дала» гордая и заносчивая Пронька. Что было в ней такого? Женихи, как на мед, и из Карнауховских хуторов, и из Пищаливки, из Одаривки даже приезжали. Подбористая, верно, работящая, а язык не дай бог, голосистая, песню как хватит – на другом конце отдастся, а больше и ничего. Дивка як дивка, веснушки возле переносицы, глаза темные, с омутной зеленцой, косы с рыжинкой.
Последний год, по слухам, гуляла Пронька с Федором Кравченко, вроде сладилось все, до свадьбы дошло. Тут выяснилось, что Федору с осени в Красную Армию. Что же Пронька тогда: ни дивка, ни молодыця. Три года, не меньше, ждать. И Федор не решался: жениться до службы или подождать… Боязно что-то было ему оставлять молодую бедовую жену на старуху мать. И мать его подзуживала: «Не женись, сыну! Така як вийне, подол ей не завяжешь». Если любит, то и без свадьбы будет ждать.
Плыве чо-о-вен, воды по-о-вен,
Та все хлюп-хлюп-хлюп…
Выходило, что и Пронькина доля как тот човен, полный воды. Куда на нем доплывешь?
…Осенью гулял Алеша на свадьбе. Федор попал под какую-то льготу, оставался дома и женился на Проньке.
В белой подвенечной фате, полуопущенные глаза, слабый румянец на щеках – в первое мгновение она показалась Алеше как с иконы. Задумавшаяся о чем-то, ожидавшая чего-то…
Он знал ее и такой. Как-то прибежал к соседям за солью или спичками. На троицу это было… «Квитчальна недиля» была, потому что перед дверью возле хаты вкопали топольку с привявшими листьями, хотя и поливали ее. В хате на полу трава, пахло освежающе чисто – мятой и чебрецом. Над иконами, под потолком, над печью – зеленые ветки. Добрый старинный праздник весны.
Пронька была одна, сидела под божницей, за столом с белой скатертью. Медленно шевеля губами, читала книгу.
Алеша влетел с разгона, хряпнул дверью. Остановился.
Пронька подняла голову, в глазах – слезы… Горько задрожали губы.
Никогда до этого такой не видел Алеша Проньку. Вышел тихонько, догадался: «Кобзарь» читала. «Катерину» или «Наймычку». «Кобзарь» Шевченко был почти в каждой хате. Хранили на полочке под образами. Читали его и вслух, «семейно», и как Пронька: «про себя».
И вот на свадьбе, когда он увидел ее в углу, ему показалось – в глазах, как и тогда, слезы. Видно, виделась ей дальняя дорога, извечная женская судьба: в муках рожать детей, пеленать, кормить их, ворочать тяжелыми чугунами в печи: приседая от тяжести, метать на вилах снопы, отбиваться от сварливой свекрови. Хорошо еще, если муж будет тихий и ласковый. А не дай бог запьет…
А на свадьбе уже гуляли вовсю!
– Кумо-о, я ж вас бильше, як жинку… Дайте поцилую! Кумо-о моя, куды ж вы?
– Петро-о, ты мне дру-у-г! Кого-о пытаю-ю!
Дивчата на дальнем конце не «по уставу» затягивали печальную «Ой, вербо, вербо-о, де ж ты зросла…»
– Отгуляла дивка, – сказал кто-то. – Бабой стала.
Алеша постоял возле порога, что-то скучно ему стало. Пошел себе домой. Даже «теремка» не дождался, – запекали тесто на веточках, хрустело – великий соблазн был в тех «теремках».








