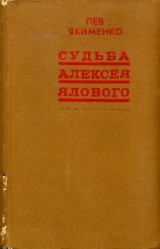
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
НА СЦЕНЕ
Случилось так, что Алеша попал на сцену колбуда – колгоспного будынка, а попросту – клуба. Выступал в спектакле, исполнял роль.
Школьный драматический кружок создала мама. Она была и режиссером и суфлером. Алешу не взяла. Далеко живем. Пока, сынок, ты уроки выучишь, на репетицию не успеешь вернуться. Сама с утра до вечера в школе – это ничего.
Подготовили спектакль. Повесили объявление. В сельский клуб на эти спектакли набивалось столько народу – дохнуть нечем. Поспешавшего Алешу перехватили у двери, потащили на сцену. Мама – кудерьки растрепались, лицо в волнении: «Выручай, сынок!» Заболел внезапно мальчик, который должен был играть пионера. Мама посчитала, у Алеши хорошая память, быстро запомнит свои слова, заменит.
Алеша – мужественный ученик пятого класса – согласился без особых уговоров. Но когда занавес раздвинулся и увидел из-за кулис сотни голов в полутемном зале – керосиновые лампы на окнах притушили, – разглядел настороженные приподнятые лица, услышал неясный шорох, дыхание, шаркающее движение, только тогда он понял, на что в поспешной безрассудности себя обрек. Ему сейчас надо шагнуть, выйти под сотни глаз… И не только выйти, но и двигаться, что-то говорить, кого-то изображать. В темный зал, как в пропасть, глянул. У него внезапно закружилась голова и ноги сами собою уперлись в пол. Это было пострашнее, чем в ветреную непроглядную осеннюю ночь одному через кладбище.
Мамина помощница – тоже учительница Таня Коновалец – легонько подтолкнула Алешу: «Выходи же!» Алеша на дрогнувших ногах подался назад. Таня так его толкнула, что на сцену он вылетел споткнувшись и тут же заслужил первый поощрительный смешок.
В пьесе Алеша изображал пионера, который охранял колхозное поле. (Алеша требовал себе ружье, но ему не дали, сказали, по роли не полагается…) Кулаки темной ночью собрались поджечь колхозное добро, напали на пионера. Алеша постепенно так вошел в роль, что в решительную минуту забыл слова. Мама что-то подсказывала из суфлерской будки, да разве разберешь, когда на тебя ползут со всех сторон, в зале тревожный, нарастающий шумок – переживают люди.
Не растерялся, Заорал: «Рятуйте!» Таким голосом, что у самого мороз по коже. В самом деле струхнул чуть-чуть: в полутьме лезут в барашковых шапках, в свитках, неизвестно кто, морд не разберешь – углем усы подрисованы. Глаза подведены, страшно блестят…
Кинулись на него, рот пытались зажать, отбивался руками и ногами. Его звезданули под ребро – Алеша уверял потом, ребро лопнуло, – кто-то шепнул: «Цыц ты, зараза! Это же понарошку». Алеша в ответ в полном забвении двинул обидчика ногой в живот так, что «кулак» отлетел, на пол от боли присел.
– Бей их, вредителей! – во весь голос кричал расходившийся Алеша.
На выручку, конечно же, успевала «легкая кавалерия»: пионеры и взрослые колхозники с ружьями.
Успех был такой… Два раза выходили на аплодисменты, кланялись. Алеша считал, все из-за него. Он спас, выручил и сыграл. Герой в шлеме с красной звездой.
– Головокружительно! – смеялась Таня Коновалец.
Мама расцеловала:
– Выручил, сынок, спасибо!..
Алеше что, себя сыграл. Летом он пытался создать колхозный пионерский отряд – охранять созревающий хлеб, дежурить на току. Вместе на работу: снопы носить, колоски собирать. Под знаменем, с горном, барабаном. На заработанные деньги можно будет купить мяч, волейбольную сетку. Другие игры: шашки или, например, шахматы… Пьеса тоже об этом. Только в жизни все по-другому обернулось.
В жаркую летнюю пору Алеша ходил по хатам, убеждал, уговаривал. На первый сбор пришло человек двенадцать. Пустующую заброшенную хату привели в порядок: вымели, вычистили, паутину из углов убрали, на окна – занавески из газет. Весело, шумно было, за игру принималось.
Но уже с того первого раза обнаружились и серьезные расхождения. Когда все расселись на лавке, на табуретках – первое собрание, – Алеша сам предложил себя в председатели отряда – видимо, не очень полагался на демократическую самодеятельность. Проголосовали дружно. Один Яшко воздержался. Буркнул: «А чего он вперед все лезет!»
На этом видимость согласия и кончилась. Яшко, поддержанный своим сопливым братом Митькой, тот по возрасту и в пионеры еще не дотягивал, высказался в том духе, что заместителя надо из «другого кутка», чтобы не было так: все начальство на одной улице. Но этот пост Алеша уже ранее предложил Шурку. С ним трудились в поле, купали коней, пасли овец. Яшко и Митька потихоньку улизнули. На второй сбор вовсе мало пришло: тот сестренку нянчит, тому воробьев гонять в огороде – подсолнухи склевывали.
Лишь во время косовицы удалось Алеше вновь собрать свой отряд. Куда больше – со всей бригады вышли дети в поле. Собирать колоски. По зернышку начинали ценить хлеб. Чтобы ни одно не потерялось.
– В цепь разверни своих пионеров, как на учениях Красной Армии, в наступлении, – наставлял бригадир, дядько Афанасий, – по метру вправо-влево, и дуйте! За каждым пройди, проверь, чтобы дочиста все подобрали!
Вот это больше всего и понравилось Алеше: как в Красной Армии. Вроде военных учений. Значит, дисциплина должна быть! Покрикивая на свою вольную дружину, не без труда развернул ее по полю: беленькие косынки девочек, картузы хлопчиков – сколько же их оказалось – рассыпались по всему полю.
Крикнул, приставив руку ко рту:
– Двигай!
И пошли. Друг перед другом. Кто больше соберет. То вырвешься, то отстанешь. Пот на глаза. Руки исколоты о стерню…
Это только кажется – легкая работа. А пройди покланяйся на каждом шагу, из гон в гоны, километра полтора вперед и столько же назад, и вновь вперед, как челнок.
Вдали косилки стрекочут, медью отливает зрелая пшеница, косари в брылях, взмокревшие рубахи давно сбросили, подпрыгивают на сиденьях, мечут валки. За ними – женщины с перевяслами. После них по всему полю снопы, как туго спеленатые дети.
Вслед – Алеша с пионерами. Подбирают остатки: колосок к колоску, в полотняные сумки, в передники, в корзины.
Дети и есть дети. Кто-то подставил «ножку», и сразу же – «мала куча»; крик такой, что даже бесстрашные воробьи и те на всякий случай взвихрились в небо.
Возвращались домой в летних сумерках, строем, с песней:
Попе-попереду Дорошенко,
Веде свое військо,
Військо запорізьке хорошенько…
Алеша сбоку, как заправский командир, покрикивал:
– Ножку! Раз, два! Левой!..
И хлопотливые бабушки, привлеченные шумом к дороге, покачивали головами: до чего складно выходило!
На короткий срок установившаяся и распавшаяся общность чем-то ранила Алешу. Виделось ему в этом какое-то несовершенство. Ведь ясно же было, что всем вместе веселее, интереснее… Какими делами можно заняться, игры придумать. И государству польза. Нет, сидят по своим хатам, каждый в своем дворе. Как до колхоза, так и теперь. Думалось, с колхозом все должно быть по-другому, вся жизнь.
Пионер, в Алешином представлении, человек действия и поступков. Зачем же иначе красный галстук носить…
Мама умеряла его общественный темперамент. Таня Коновалец считала, например, что у Алеши организаторские способности. Ему бы председателем совета отряда в школе. Мама ни в какую. Далеко от школы живут. Кроме того, мальчику и так слишком многое доверяют. Полина Андреевна – учительница географии – болела, поручила ему проводить уроки в классе и даже выставлять оценки – это непедагогично. Доклад поручили сделать на обсуждении романа Андрея Головко «Бурьян», а роман сложный, многое в нем он не мог понять.
– Так только зазнаек воспитывают, – сказала мама.
Сразу обрывала первые сладкие мечтания об известности, о дальней дороге… Твердо стояла на своем.
– Ты уже зазнался, – сказала жестко. – А ты самый обыкновенный ученик, к тому же средних способностей. Только упорство может помочь.
Ну что на это скажешь? Только над тобою загорятся первые праздничные звезды, а мама тотчас тебя снова в упряжку. И дорога видится впереди тяжкая. Труд, один труд. Преодоления и всё новые препятствия.
Алеша смирялся. Вновь бунтовал. Что-то ломалось в нем. То воин, герой, удачливый ученик, умница, надежда школы, то вдруг ни к чему не способный, по математике двойки и тройки, непробудный тупица, куда ни глянешь – все неудачи, страдания.
Неожиданный успех в пьесе окрылил его.
И пионервожатая Таня Коновалец похваливала:
– Молодец! Не растерялся. Сыграл что надо…
– Перехваливаете, Таня, – настырно вмешалась мама. – Что там за роль…
Алеша заносчиво вскинул голову:
– Ты же сама хвалила!..
Возвращались они из клуба втроем по ночной пустынной улице. Все уже разошлись после спектакля.
Мамино лицо в платке, – по краям, на бровях, ресницах – иней, – не дрогнуло, будто подмороженное.
– И сейчас говорю: спасибо, выручил. Справился. Но роль маленькая, ее всякий может…
Последних слов Алеша старается не слышать. Маршевая победительная музыка увлекает его вперед.
Чуть желтеет высветленная дорога. Месяц расселся на небе, оглядывает по-хозяйски все окрест: и маленькие хатки под хмурыми шапками крыш, и придорожные вербы – каждая ветка в праздничном льдисто-снежном убранстве, пирамидальные тополя – завороженно-прямые – положили четкие тени на сиреневые горбящиеся снега. Над горою, на подмороженном зеленоватом краю, мигает яркая трепетно-радостная звездочка, подает какие-то знаки хозяйски неприступному месяцу…
А мама с Таней все о своем. Алеша подзадержался, незаметно приоткрыл опущенное ушко у шапки – иначе ничего не разберешь.
– Вы не правы, Мария Кондратьевна, – говорила Таня. – Надо хвалить. Всех – вас, меня, Алешу… Даже за маленький успех. Без чувства удачи человек ничего не сможет. Он как без крыльев. Если бы можно, я бы каждый день выдавала людям, как только проснутся, надежду на радость… Пусть она будет маленькой, эта радость. Но она должна быть каждый день. Человек должен верить в успех. Добиваться его и ждать…
– И я об этом, Таня. Как редко дается нам радость. Жизнь не балует нас. А успеха не ждут, его добиваются, завоевывают. Похвали человека раз-другой, он и подумает, что все достается легко, само собой. Как сегодня Алеше… Нет, что трудно дается, то надолго и остается.
А ведь каждый вечер кто-то, как на праздник, зажигает звезды на небе!
ПЕСНЯ
В школьном хоре запевали две сестры: Таня и Галя Мирошниченко. Таня – постарше, дремотно-медлительная, широковатая для своих четырнадцати лет, голос завораживающе низкий, точно летел из смутной мглы; Галя – тоненькая, хмуренькая, что-то дальнее, татарское угадывалось в глубоко посаженных глазах, в твердо обозначенных скулах; весною, по обыкновению, ближе к переносице высыпали зерна конопушек. Алеша, когда еще в пятом был, вместе с такими же приятелями-дурачками, дразнил девчонку: растопыренными пальцами в лицо и – «А мы просо сиялы, сиялы…» У Гали – глаза полные слез. Таня выручала. Рука как лопата, съездит по загривку, через весь коридор на своих проедешь.
Репетиции хора происходили вечерами в одном из классов. Чаще всего в шестом «Б». В Алешкином классе. В хор Алешу не взяли. Слуха не оказалось. Митрофан Семенович проверял под скрипку. В селе пели многие – ни одно празднество не обходилось без песен, о свадьбах и говорить не приходилось. В школьный хор отбирали самых голосистых. Поешь в хоре – на тебе уже некий знак отличия, выделенности. Но Алеша не расстроился. Мужское дело иное – не песни петь.
А послушать, как другие поют, всегда заманчиво. Уроки выучит и под вечер вновь в школу, на репетицию. Ни дальняя дорога, ни весенняя грязь не пугали. Забьется подальше, в темный угол. Возле доски гуртуются хористы. Покашливают, переговариваются, толкаются, становятся «по голосам». В слабом желтоватом свете шестилинейной керосиновой лампы смутно угадываются знакомые лица. Раздавался мамин требовательный голос – она руководила и хором, – разговоры, смех – все стихало.
Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы пионеры – дети рабочих…
С этой начинали. В маршевом темпе. Будто барабанная дробь слышалась.
И все сдвигалось, тебя, казалось, срывало с места… Ты начинал жить необыкновенной жизнью в неожиданных чудесных превращениях. Ты был школьник, двенадцатилетний мальчик, притихший на дальней парте, в темном углу, и ты переносился к дальним походным кострам, в степь, становился тем, о ком рассказывали песни.
Время тогда делилось для всех: «до революции» и «после». У бабушки было свое летосчисление: «за панив», то есть во время панской власти, и «як землю по едокам делили». В ее представлении революция только тогда произошла, когда у панов землю позабирали и раздали людям.
Бабушка для Алеши – живая история. Она крепостное право помнила, рассказывала, как манифест «про волю» в церкви читали. Про Крымскую войну помнила. Как сухари велели сушить по всем хатам, зашивали в кули, везли на волах в Крым под Севастополь. А оттуда – раненых и увечных солдат. На скрипучих чумацких возах. Новая эра начиналась для нее с раздела земли. По ее словам, это недавно все произошло, она еще земли называла по-старому, по фамилиям панов-владельцев: Малинки, Котова, Маркасевича… Была еще Царина – царская земля. Вольной крестьянской земли и не оставалось.
Алеша добивался, сколько же на крестьянскую долю земли приходилось. Даже выгон и тот панским был. У того места, где скот тырловал возле речки, оказывается, раньше панская купальня стояла. И близко нельзя было подойти. «Кругом паны, – кряхтела бабушка. – Со всех сторон задавили».
И получалось так, что воспитывала у внука классовое сознание. Втолковывала, что, не будь революции, пришлось бы ему в подпасках, на панской службе грамоту проходить.
Для Алеши революция – легенда и живая быль. Дядько Микола Бессараб как-то в школе выступал, ради праздника гимнастерку натянул, крест-накрест кожаные ремни, ногу в блестящем хромовом сапоге – на стул, рукой за спинку ухватился – как на картине! Рассказывал, как брали Перекоп: переходили Сиваш вброд, по шею в ледяной воде, какой-то дедок им переход указал, они и ударили туда, где их беляки не ждали. Построжал дядько, подобрался, впервые Алеша шрам над бровью заметил – чиркнуло осколком.
Отец его у пана Маркасевича свиней пас. «Из гов…» – дядько Бессараб сгоряча чуть не ляпнул слово, которое в школе, среди тех, «за кого кровь проливали», кому «счастливую жизнь отвоевывали», не полагалось произносить. Но вовремя спохватился, поправился: «Из навоза батько не вылазил».
Помнили люди старого Бессараба – в великой бедности жил человек, а сын «вышел» в председатели Совета, на тачанке ездит. Может кого угодно «за нарушение» и в «холодную» посадить. Власть.
Семнадцати лет подался Микола Бессараб в Червону Армию. Алеша высчитал, вздохнул, старый уже дядько, двух годов до тридцати не хватало. А рассказывал, будто вчера все было. Как пленили белого полковника в степях Таврии за Каховкой. Как донского сотника самолично из «винта» срезал.
Дядько Микола руки «навскидку», глаз прижмурил, показывал, как все происходило. Трахнул – и готово, наповал. Нет беляка!
На партах сидели, стояли у стен, яблоку негде упасть, а тишина такая – никто не шелохнется.
Серебряную шашку взял на память дядько Микола. Висит и теперь дома. Пообещал: в другой раз принесу покажу.
И когда хор заводил знаменитую в те годы «Там вдали за рекой догорали огни…», Алешу бросало в зарева, пожары, бои. Низкий голос Тани Мирошниченко повествовал о «сотне юных бойцов из буденновских войск», поскакавших в степи на разведку. Подхватывал хор, вел песню сумрачно, сурово.
Галя Мирошниченко вступала в самом трогательном месте:
Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб
За рабочих!
Голос ее весенней чистоты, особенной – мама говорила – «солнечной» – окраски взвивался в таком страдании, что невозможно было выдержать.
Будто про твою судьбу, про твою долю пела Галя.
У сестер лучше всего выходили песни про разлуку, о гражданской войне, о смерти бойца. Слезы звенели в их голосах. Слушать трудно было. Сердце заходилось.
Нелегкая судьба выпала на долю девочек.
Жили они под горой. Мать едва справлялась с детской оравой: кроме Тани и Гали, были Петрусь – в первый класс пошел, и Катя – под стол пешком ходила.
Батько их погиб в прошлом году. Возвращались из гостей. В Петриковку на свадьбу ездили. Просила титка Марфа мужа перед спуском с горы: «Затормози». Обычно крепкой веревкой одно колесо привязывали, оно не могло крутиться, тормозило, или специальное «гальмо» на цепи под колеса подкладывали. Дядько Мирошниченко был такой: чувал пшеницы – пудов двенадцать в том чувале – взвалит на спину и попер. И тут, хмельной, заартачился: «Шо я, коней не удержу! Гарба пуста…»
Ко всему пьяненькая кума вмешалась в семейный разговор, подзадорила: «Та мы с кумом… Куды кум, туды и я… Верно, кумонько?..» Норовила за плечи кума ухватиться. «Ой кум до кумы залыцявся…» – завизжала не в меру расходившаяся кума. И это были последние слова, которые слышала титка Марфа. Она плюнула, слезла с гарбы, пошла пешком.
Лошади понесли. Не удержал их дядько Мирошниченко на крутом спуске.
…Мимо Алешиного двора в грохоте пронеслась гарба. Вороные кони дико всхрапывали, все в мыле, глаза бешеные. Задние ноги побиты в кровь, видно, держали с горы сколько могли, гарба накатывалась, деревянные вальки молотили по ногам, не выдержали кони, понеслись вскачь.
На гарбе мотался из стороны в сторону, бился головой дядько Мирошниченко. Какое-то страшное месиво: белое с красным вместо лица. Кума с раскосмаченными волосами дико кричала. Вскакивала и падала в подпрыгивающей гарбе. По лицу кровь.
Коней пытались перехватить, остановить. Обезумевшие кони влетели в чей-то двор, снесли летнюю печку, через огороды вновь выскочили на дорогу. И долго слышались в вечернем селе то в одном, то в другом конце бешеный стук колес, женский хриплый вопль, мужские перехватывающие крики. С того дня кума помешалась. Вскоре увезли ее в больницу.
Дядька Мирошниченко хоронили со знаменами и речами. На площади, возле могилы героев гражданской войны – покоились в ней порубленные бандитами продотрядники. Другом он был Миколы Бессараба. Вместе в Червоной Армии служили. Перекоп брали. С бело-польскими панами рубились. В комбеде вместе.
– Жил достойно, радянскую нашу владу оборонял, на ноги помогал ей становиться. А погиб ни за что, можно сказать, по временной слабости…
Не выдержал дядько Микола, прервал речь, к лицу – фуражку, шея натянулась, плечи затряслись. Мужчины за кисетами полезли, женщины сморкались в платочки, смахивали слезы концами «хустынок».
Остались сестры сиротами. На переменах сойдутся вдвоем, станут у стенки, молчат. Ни смеха, ни крика. В хор дорогу забыли.
Алешина мама домой к ним несколько раз ходила. Титка Марфа пообещала: будут девочки петь. Больше года после смерти отца прошло.
На репетицию приходили – для Алеши праздник.
Весенние сумерки затягивали окна, ветер шевелил низко опущенные тополевые ветки. Сквозь оконные щели потягивало пресным дыханием талой воды, горьковатым запахом отходивших деревьев. Весной, дальними далями, волей манило со двора.
Галя стояла справа в первом ряду, под самой лампой, и Алеша со своего места на одной из крайних парт у окна будто впервые увидел твердо обозначившуюся под белой блузкой грудь ее – живые холмики, полные ноги в сапожках, сосредоточенное лицо с крапинками пота у переносицы, темный влажный блеск глаз.
Его пронзило, хмельно закружило…
Засвистали козаченьки с долу опивночи,
Заплакала Марусенька свои ясни очи…
Галин голос перекрывал всех, взвивался в немыслимую высоту, манил, звал…
Алеше слышалось в этой прощальной песне, песне расставания, призывное, героическое, маршевое… Сквозь слезы и печаль прорывался дальний голос боевой трубы, медные всплески грозной сечи. И теперь ничто не удержит казака: ни слезы старой матери, ни девичья любовь.
И вот Алеша уже с теми, кто, выхватив коня из вольного табуна, гнал за ордынскими волками, по их следам. Крики и плач заарканенных женщин, связанных веревками парубков и дивчат – в вое степного ветра, в родниковой слезе, в молчаливой печали наших верб, в тополях, что поднялись по левадам, как поминальные свечи.
И тот, кто мчал вдогон, чтобы спасти, выручить, кто, настигнув захватчика, рвал саблю из ножен, поднимал на дыбы коня и – в сечу, в битву, ты знаешь: он твой далекий предок, и ты вместе с ним.
Времена для Алеши смещались, и он, завороженный высоким девичьим голосом, грозным вихревым ритмом, уже с теми, кто в шлемах с горящими звездами в глухом стуке копыт несется слитной лавой все на тот же Крым – прибежище «последних».
Если бы он мог знать тогда, что времена и впрямь сдвигаются и у поколений сходная судьба…
Пройдешь и ты по своей военной дороге с другими песнями под метельное завывание и материнские слезы. Будешь и ты комиссаром. Станешь комбатом в двадцать лет. Будешь глотать снег, вонявший дымом и кровью. Вставать во мгле разрывов, поднимать в атаку свой батальон. Упадешь в воронку и увидишь на черной продымленной земле срезанный пулей колос (под снегом лежало неубранное хлебное поле), и в мгновенном озарении встанет перед тобою родная степь в пшеничном медном отливе, и услышишь ты летящий из детства далекий девичий голос – вновь вскочишь, яростно, осатанело махнешь пистолетом: «Впере-ед!»
Будет и тебя судьба вести через болота и леса, на высоты с молчаливыми соснами, под которыми будешь хоронить друзей, прощально салютовать небу, оставлять деревянные пирамидки с маленькими звездочками и карандашными нестойкими надписями.
Будут тащить тебя на плащ-палатке, бросать, хоронясь от подступающих разрывов, и вновь волочить. И небо будет плыть над тобою, сморщенное, почерневшее небо, медленно снижаться, надвигаться, будто та последняя смертная крыша.
…С репетиции возвращались вместе. Мама – девочек под руки, кривобокий месяц с короткими рожками, как у чертика, светил скупо, дорога грязная, скользкая. Алеша независимо топал сзади. У поворота прощались, мама в стороне о чем-то шепталась с Таней, Алеша оказался один на один с Галей. Она смотрела вверх, поймала среди дымчатых туч лунный серпик. Лицо ее осветилось, странно похорошело. И вдруг она сказала:
– Я б спивала и спивала. С утра до вечера… Все життя б спивала!
Алеша придвинулся к ней близко-близко. Увидел расширившиеся глаза ее, дрогнувшие губы. Он схватил Галю за руку. И долго еще всей ладонью чувствовал ответное торопливое пожатие и теплоту ее крепенькой сухой руки.
Старшая, Таня, заканчивала семилетку. Алешина мама еще до летних каникул повезла ее в город, чтобы прослушали ее в музыкальном училище. Никто не хотел, отказывались, пусть подает заявление, как все, на экзамены вызовут. Уговорила мама сердобольного старичка с бабочкой вместо галстука, бывшего артиста, пел когда-то в киевской опере. Прослушал первую песню, разволновался, за платочком полез, начал сморкаться… Потребовал тут же директора и всех оказавшихся в училище преподавателей. Зачислили Таню без экзаменов.
Но судьба повернула ее жизнь по-своему. В голодный год не выдержала Таня, бросила училище, пошла в торговлю. Семью надо было поддержать, Гале помочь закончить школу. Летом видели люди, как милиция брала ее из ларька, торговала она на станции и, видно, проторговалась. Что потом с ней сталось, Алеша так и не узнал.
Галя школу оставила, в колхозе работала. Через много лет Алеша повстречался с ней.
Ему показалось, он узнал голос: высокий, летящий, со скрытой печалью. За два года до войны – Алеша учился на втором курсе института – в Большом театре появилась новая певица. Известно было, что ее «открыла» специальная бригада, которая ездила по украинским селам, отбирала голосистых. На Днепропетровщине в колхозе нашли телятницу, голос такой – сразу взяли в Большой театр, учить стали. Но фамилия этой певицы была не Мирошниченко. Звали Галина, а фамилия другая. С четвертого яруса лица не разглядишь. Глаза подведены, губы яркие, подкрашенные, сама в светлом бальном платье. Угадай, та это Галя или другая. Может, замуж вышла, фамилию сменила.
Но голос был ее, родной голос. Он шел из детства.
На концерте она показалась совсем другой: крупнее, значительнее. Длинное платье переливалось, светилось, плотно облегало ее, удлиняло талию, выделяло высокую грудь. Но лицо простое, скуластенькое – ее, Гали Мирошниченко. Она сделала себе высокую прическу, косы накрутила винтом; носик вздернут гордо, даже надменно.
Но вот она повернулась к аккомпаниатору – сухому, беловолосому, в черном фраке, – тот что-то сказал ей, и Галя – Алеша в эту минуту окончательно уверился, что это была она, – засмеялась и кокетливо полусогнутой ладошкой будто оттолкнулась от него. Алеша, казалось, услышал певучее, смеющееся: «Та що вы!.. Таке скажете!»
По одному этому узнаешь сельскую дивчину!
Она оборотилась к залу, лицо ее сразу построжало, в глазах появилось что-то властное, почти тяжелое. Стала она вдруг совсем другой. Далекой, недоступной.
Разве к такой подойдешь? Скажешь: «Здравствуй, Галя, узнаешь?»
…Когда-то мечталось Алеше: придет к ней героем, победителем. Длинная шинель. До пят. Ремни крест-накрест. На груди – бинокль. На портупее – сабля. Сбоку в кобуре – наган. На груди – ордена. Как нарком Ворошилов – на коне. Портрет в школе висел. Художник ордена ему прямо в шинель ввинтил. Чтобы все видели, сколько их!
В те годы для Алеши пределом мечтаний было: конь, сабля, наган на боку. Как у героев гражданской войны.
И Галя будет петь для него одного.
Всю жизнь бы слушал этот молодой, прекрасный в своей чистоте и печали голос!..








