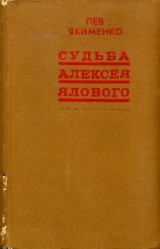
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
Вот когда на самом простом, что в обычной-то жизни и не замечаешь, таким кажется естественным, когда на таком тебя засекает, держит, мучает и неизвестно, как все обернется, тогда и начинает тебя вновь затягивать сумеречное, безрадостное.
Обещают: восстановится, вернется со временем. Многое возвращать, восстанавливать надо. И сроков никто не называет. А время, оно – разное. Может, на все время, оставленное для тебя. Что тогда? Безрадостное существование. Прозябание. До избавительного конца.
В невеселых этих мыслях Яловой повернул за угол. И едва успел отшатнуться.
Из уборной, прямо на него, вылетел Иван Дядькин: глаза белесые, безумные, халат распахнут на волосатой груди. Затравленно оглянулся, руками подхватил сползавшие расстегнутые подштанники и полным ходом, припадая на левую ногу, понесся по коридору.
За ним выскочил Петя Скворцов. За живот схватился, из стороны в сторону мотается от смеха:
– Не могу-у, ей-богу… Ой-й-й!
Яловой его легонько по спине. Приостановись, утихни! Они, эти «черепники» – так называли в госпитале раненных в голову, – их оберегать надо, в любой момент с ними могло всякое приключиться. Вон как ходит кожа на глубоком проломе с левой стороны. Насмеется и – к вечеру температура.
Отдышался Петя, рассказал:
– Только это он притопал, из ведра выскочила здоровенная крыса. Что ему померещилось?.. Взвизгнул так, будто перед ним немецкий автоматчик.
Когда Яловой вернулся в палату, Дядькин лежал на кровати поверх одеяла, в халате, руки крестом на груди, очи воздеты горе́: отпевай, да и только!
Возле него сердобольно хлопотал Петя. Предлагал воду. Может, врача вызвать.
Дядькин закаменело молчал. Отрешенно глядел в потолок.
– Да ты что, околел? Высунь язык!..
Иван Дядькин не пожелал обедать. Отошел только к вечеру. Сел. Оглянулся. Будто все незнакомое, сроду не видел, затрудненно выдохнул:
– С детства… этих крыс… С голодного года.
Припомнился этот случай, когда Дядькин – статный лейтенант с сухим подбородком, на виске – вмятина, ковырнули его в штыковой атаке, – в начищенных сапогах, празднично сияющих золотых погонах, при всех орденах, явился прощаться.
– Видал, сколько нахватал! – простодушно восхитился Петя.
– По-разному устроен человек, – философски заметил кто-то из пожилых. – В пекло полезет, ничего не боится, а мышь пискнет, так он…
По вечерам, после ужина, выползали из палат, усаживались в коридоре на скрипучих деревянных креслицах – связками по три в ряд – раскассировали какой-то кинотеатр, – и начинались рассказы. Печального, серьезного не допускалось. Чтобы «со смехом». Анекдоты шли всех времен.
Петя усаживался поудобнее, слушателя не было благодарнее. Ясненький весь, смешливые ямки на щеках.
Круглоголовый девятнадцатилетний мальчик-лейтенант – он и повоевать-то не успел. Танковое училище. Фронт. После первых боев – в госпиталь.
– Ранило меня, смеха-а… Только мы в лощине разместились, на Украине, за Днепром, дело было, плащ-палатку возле танка расстелили, консервы открыли, лучок нарезали, механик фляжку открыл – и вдруг меня как ветром подхватило. Веришь, чувствую, что взлетаю, понять ничего не могу, думаю, как же так, пожрать не успел… А сам лечу, руки, ноги расставил, как в цирке, и до того приятно, понимаешь… Ни боли, ни страха – лечу, и все. Потом трах об землю! Аж внутри екнуло. Хочу вскочить – и не могу. Левая рука и нога вроде шевелятся, а вторая половина онемела. Подняться не могу. Кричу сгоряча: «Ребята, поднимайте!» Думаю, как бы поесть. Смех, да и только!
Потом только разобрался, стрелок возле гусеницы выгибается, кровавая пена на губах, отходит, а механику ногу оторвало, кричит, бинты требует…
Подняли меня, понесли, и вновь, знаешь, показалось: лечу, крылышками взмахиваю.
Петя безоблачно улыбается. На черепе – широкий рваный провал, дышит, ходит, правая рука висит, нога бессильно подвернута, а он улыбается, незлобивый, спокойный мальчик.
– Да, смеха-а!..
Дня через два посмурнел Петя Скворцов. Виновато улыбаясь, прилег на кровать. Квелый, пожелтевший. Забегали сестры, к его кровати поспешил дежурный врач. А Петя уже в бреду мечется. Выкрикивает тоненьким голосом: «Вправо, вправо бери! Выстрел!» Казалось ему, что он в танке. Что снова в бою. Захрипел.
На высокой коляске повезли прямо в операционную. Голова мотается из стороны в сторону, коленки разъехались.
Случилось обычное, что случалось с «черепниками». Где-то в глубине после ранения оставалась какая-то малость. Костный осколочек воспалился или что другое начало гноиться. Главное, в таком месте, что человек сразу оказывается на краю. И никогда не определишь, чем все закончится.
Пять долгих ночных часов стоял ведущий хирург под слепящим светом у операционного стола. Не дано было ему права на малейшую оплошность.
Повезли Петю после операции в одиннадцатую палату. Одиночную. Ночью и днем, круглые сутки не отходя, дежурили в ней сестры. Раненые боялись одиннадцатой. Называли «палатой смертников». В ней «отдавали концы», «давали дуба», «играли в ящик»… Но, случалось, и выбирались.
Петя Скворцов недели через две заявился в свою прежнюю палату. Крикнул от порога:
– Здорово, симулянты!
Заулыбался, ямочки на пожелтевших запавших щеках.
– Ожил, скворчик?
Николай Соловьев поприветствовал из своего угла.
Петя беспечно повел плечом:
– А что мне!.. Я свое еще не дожил.
Выписывался, помогали ему сестра, няня. Натягивали сапоги, гимнастерку, брюки. Сам еще не управлялся.
Шутил, посмеивался.
– Учиться буду. Я с девятого в училище подался. Теперь в бухгалтеры определюсь. Мама говорила, с детства считать любил. На счетиках откладывал: приход, расход. По домашности. Всякие там: дебет, кредит… Буду девками в конторе командовать. Смехота!
Други мои! Побратимы мои! Как-то вас приветила судьба после госпитальных дней?..
Приехала жена к Соловьеву. Во второй раз. То ли сама, по своей воле, то ли из госпиталя напомнили ей о муже. Вызвали.
На что-то все же надеялись врачи. Сыворотка, которую прислали из научно-исследовательского института, подбодрила Николая. Парикмахер появлялся регулярно. Соловьев не отпугивал, не отказывался от услуг брадобрея. Сидел подолгу на кровати, поглядывал через окно на большой сквер перед музеем, на голые деревья. А то и на костыли вставал, выбирался в коридор – в «клубную часть».
Известие о приезде жены встретил внешне хмуро:
– Нечего ей делать, что ли…
Но что-то в нем дрогнуло. Подобрался весь, беспокойно поглядывал на дверь.
Показался темный платок, напряженно скошенное белое лицо. Женщина с узелком приостановилась. Накаленно-пытливый взгляд Николая жиганул ее. Она, вильнув налитым, туго обтянутым задом, попятилась было. Но тут же, угнув голову, топая ладными, хорошо подогнанными сапогами, направилась в угол.
Подошла, чмокнула мужа в щеку, оглядела еще раз с ног до головы. Сожалеюще вздохнула:
– Все лежишь!..
У Николая блеснули глаза. Казалось, крикнет сейчас. Сдержался. Уткнулся взглядом в пол.
Жена приободрилась. Расставив заметно круглившиеся под платьем колени, поудобнее уселась на стуле. Начала выкладывать домашние новости. Валечка учится хорошо, старательная девочка, дома помогает. И полы вымоет, и печь протопит, и воды принесет. Послушная. От тетки Аграфены из деревни недавно посылка пришла. Муки килограмма два, кусочек сала и так, по мелочи… Вот тут испекли тебе с Валюшей пирожков, коржиков.
Наклонилась с узелком к тумбочке.
– Не надо! Забери назад!
Женщина виновато засуетилась, забормотала:
– Чегой ты? Чем тебе не угодили?
– Ладно! Прослушал все. Ты сама-то как? Работа как?
– Там же, Коленька, в столовой. Уважение ко мне. Валечка со школы забежит, пообедает. И домой прихвачу. Мы с доченькой душа в душу, – прямо выпевала. Но пальцы почему-то вздрагивали, все подол платья одергивала.
– Мужиков домой не води! – неожиданно рубанул Николай. Казалось, безо всякой связи с тем, о чем говорилось. – Валентина не маленькая, все понимает.
– Да ты что, Коля! – привскочила со стула. Платочек к глазам. – Что несешь-то! Перед людьми зазря не срамил бы!
– Знаю тебя. И при мне подолом крутила… Сейчас не сужу – воля твоя. Только советую: девочку побереги!
Женщина всхлипывала, мотала головой:
– Надо же!.. К нему… А он…
– Иди. Устал я. Завтра не приходи.
Соловьев натянул на себя одеяло.
– А что же… и пойду. Может, сегодня и уеду. Валечка одна, оставить не на кого.
Постояла перед закрывшимся с головой мужем. На щеках – пятна. Сказала в пространство:
– Когда теперь повидаемся… Раньше мая не выберусь.
– На том свете повстречаемся!
Глухо. Из-под одеяла.
Женщина повела плечами, будто хотела сказать: «Я-то при чем!» Скользнула взглядом по палате. Только теперь Яловой увидел ее глаза: цепкие, с холодноватой зеленцой. Из тех, что умеют выбирать и рассчитывать.
Едва стукнула за ней дверь, Николай – одеяло на пол, рывком сел.
– Сучка! Скурвилась! Я все вижу. От меня не утаишь… Продалась баба! Сгноит меня по госпиталям. Показала, не нужен. Припечатала!
Клацнул зубами, как в лихорадке. Отчаянные, жалкие, растерянные глаза. Но не плакал, нет. Значит, была еще гордость в человеке.
Четвертые сутки не спал Яловой. Только приляжет, режущая боль в шее поднимет его. Присядет, повернет шею, с натугой, осторожно – все равно, осколок, казалось, двигался, рвал живое.
Шлепал по ночному притихшему коридору; в движении, казалось, чуть полегче.
– Что же терпеть, – сказал профессор. Поглядел рентгеновские снимки, подавил шею. Пальцы твердые, уверенные. – Завтра на операцию!
Не было другого пути. Так получалось. Но только не так просто лечь на операционный стол. После пяти месяцев неподвижности, когда тебя переворачивали, поили, кормили с ложечки, словно ты во всем – как малое дитя. И вот теперь, когда с такими муками ты поднялся на ноги, встал, в столовую ходил есть, письма начал писать сам, зажимая неловко карандаш двумя пальцами, после всего – вновь начинать с начала, с того самого начала, которое, может, рядом с концом. Потому что на операцию придешь сам, а оттуда тебя повезут. И неизвестно, сколько вновь ты будешь «лежачий» больной.
Снова «утка», снова «судно»… Учись делать все необходимое лежа… Никита Моргунок из «Страны Муравии» Твардовского после того, как у него во время странствий увели коня, сам запрягся в телегу. «И шутил невесело мужик, что к коневой должности привык. Подучусь, как день еще пройду, все, что надо, делать на ходу».
Что на ходу… Что лежа. Подучусь – намучусь – наплачусь… Беда! А при его «последствиях» двойная.
Больше всего страшило это длительное лежание. Глухая прикованность. Неподвижность.
Как узнать, есть ли еще хоть какая-нибудь возможность. Или одно – на стол. Под нож. Профессор тоже человек. Можно и с ним, наверное, по-человечески. Что он тогда присоветует.
В перевязочной профессора не застал. Куда-то умчался. Все торопился, все вприпрыжку, руки – в карманы брюк, полы халата вразлет, голова вперед.
Потеряв надежду поговорить с профессором, побрел Яловой в буфет, где обедали «ходячие» офицеры, и там-то увидел профессора. Рыхлая сонноватая буфетчица Зинаида Петровна хлопотала возле него, котлетку ему подавала, компот ставила. Даже у этих торговых деятелей инстинкт срабатывает: случись что, спаси господи и помилуй, но если уж придется под нож, так лучше к знакомому.
Зинаида Петровна попыталась Ялового усадить за другим столиком, но он, не обращая внимания на ее укоризненное шипение («не дадут человеку и пообедать!»), направился к профессору.
Как только профессор начал вытирать бумажной салфеткой рот (Зинаида Петровна нарезала их треугольниками из газет), Яловой спросил:
– Скажите, профессор, вы своему сыну сделали бы операцию, если бы он оказался на моем месте?
– Близких родственников я не оперирую. Это мой принцип.
Сквозь очки поглядел на Ялового. Раздумчиво постучал оловянной вилкой по тарелочке.
– По чести сказать, не знаю. Не знаю, голубчик. Вам самому надо решать.
– Тяжелая операция?
– Как сказать… Смотря как оценивать. По-моему, средней тяжести. Тяжелая – это когда, к примеру, ключица перебита, задета аорта, кровь хлещет… Вот тут надо потрудиться…
Он напрягся, руки как бы сами собой пришли в движение, пальцы настороженно прошлись по столу. Будто мысленно прикинул возможное течение операции.
– У вас же попроще. Пойдем по ходу осколка, уберем парочку остистых отростков, чтобы не мешали, подберемся и выдернем осколочек. Полегче все-таки вам станет.
Встал. Поглядел на поднявшегося вслед Ялового, сказал чуть потеплевшим голосом:
– Мы не маги, голубчик, не волшебники. В вашем случае трудно что-либо предсказать, осколок-то в шее, возле самого позвоночника, место серьезное. Терпеть-то уж сил нет? А?
Взглянул на часы, оттолкнулся от стола, готовый вновь ринуться по бесконечным своим делам. Уже от порога, натягивая при помощи Зинаиды Петровны шубу прямо на халат, приказал:
– Утром на рентген сходите, пусть черту поставят над тем местом, где осколок. И в операционную…
Алеша, здравствуйте!
Долго не писала Вам, не по своей вине.
Случилось так, что и я пошла по госпиталям. Недавно меня резали, зашили, но отпустить скоро не обещают.
А тут принесли Ваши письма, переслали с прежнего места. Каракули Ваши все разобрала. Порадовалась за Вас: какой молодец, сам уже пишет, значит, сила в руке прибывает.
Хворая я оказалась тетка, дорогой мой Алексей Петрович! То ли от старой раны, то ли само по себе… Ударило с такой стороны, с какой и предположить невозможно было. Беду не ждешь, она сама находит.
Страшненькая я стала…
Сны мне снятся глупые, противные. Вчера увидела, будто я на льдине. И меня все дальше относит от берега. Кричу, слышу свой голос, а людей никого. Ледяное безмолвие. На заснеженном берегу надолбы да противотанковые ежи – черные такие пауки. Плакала так…
Перечитываю Ваши письма. Вспоминаю наши встречи. Как же все быстро проходит! Даже жизнь… Многое ли мы успели?
Вы мне пишите. Если захотите… Буду молчать – не обижайтесь. Такая судьба. Бессильны мы…
Смотрю на Вас, далекий мой… Может, хотя на Вашу долю выпадет немного счастья.
Если будет у Вас семья, то будет хорошая, я знаю это, поверьте мне. И дети будут у Вас хорошие. Набирайтесь сил. У Вас впереди еще надежда.
Все соединилось: письмо Ольги Николаевны и непроходящая боль, сон и кошмарные видения. Будто захватило его крючком и тащит, волочит, бьет, колет. По бесконечной пустыне. И невозможно освободиться, вырваться.
Мгновенная задержка. И сразу вырастающий оглушающий вой. Страшный взрыв потрясает все его тело. Кружащий звон в голове…
– Товарищ капитан! Товарищ капитан!
Прохладная рука на лбу. Выросшие в полутьме озабоченные глаза Насти – ночной сестры.
Медленно приходит в себя. Как будто возвращается из того мира, из небытия.
Начинает понимать, что по прошествии времени оглушенное сознание возвращает ему память того разрыва… Тогда он не услышал свиста снаряда, не ощутил удара. Но сознание в своих тайниках сохранило, оказывается, и это.
Сколько раз потом и в госпитальной палате, и на студенческой койке в общежитии его будет будить сверлящий вой и страшный, сотрясающий все взрыв…
Спросил сестру, который час. Половина второго.
Но сестра, оказалось, зашла по делу. С час назад возвратился из командировки нейрохирург майор Иван Павлович Удалов. Собственно, он-то и был ведущим, ученик знаменитого Бурденко, ассистент в его клинике. Негласное разделение привело к тому, что Удалов вел «черепников», а профессор Вознесенский, специалист по общей хирургии, так называемых «спинальных» и прочих. Временами они подменяли друг друга. Когда Ялового привезли в этот госпиталь, его принимал Удалов. Несколько раз смотрел при перевязках и в палате. Настя и скажи ему, что Яловой завтра идет на операцию. Удалов почему-то обеспокоился, попросил историю болезни и теперь, несмотря на поздний час, еще раз хотел посмотреть его.
Иван Павлович поджидал его в перевязочной, у бокового столика, покрытого клеенкой. Ладонями сжал стакан с чаем, будто грел их. Коричневый отсвет ложился на его пальцы. Сухие, сильные, длинные, они чуть шевелились, он давал им отдых после изнурительной работы. Они странно не согласовывались с мясистыми ладонями, с бугрящимися под халатом могучими руками, с грузно повисшими плечами, со всем громоздким обликом усталого мастерового или грузчика после тяжкой работы.
– Извините меня, что поднял вас ночью, – тихо проговорил Удалов. Он всегда говорил тихо. Спокойно. Ни крика. Ни раздражения. Может, поэтому все в госпитале так верили ему. Скольких он от смерти увел. Многочасовые операции. Ювелирная тончайшая работа.
– Нейрохирург не имеет права торопиться, – сказал он как-то Яловому. – Малейшее неверное движение, отклонение на миллиметр, и мы можем причинить непоправимую травму.
…Настенные часы в коридоре пробили три, когда Удалов отпустил Ялового. Укладывал его, поднимал, ставил на колени. Стучал молоточком. Колол иглой. Сантиметр за сантиметром. Долго разглядывал снимки, приподняв их к свету.
Откинулся на стуле, снял очки, и только теперь Яловой догадался, как устал доктор: под красноватыми глазами чернота, веки с короткими ресницами слипались сами собою.
– Сестричка ваша сказала, что вы завтра идете на операцию.
– Я ожидал вас. Но…
– Меня услали в командировку. Много оперировал. Не успел раздеться, вызвали сюда. Новенького одного надо было посмотреть.
Взял Ялового за руки, приблизил к себе. Сидел, а глаза почти на уровне лица Ялового. Здоровенный мужик какой!..
– Потерпите, капитан, а?.. Вы уже сколько перетерпели. А тут недельку, ну самое большее десяток дней выждать. Осколок осумкуется и притихнет. Операция все-таки крайний случай.
– А если бы вы оперировали?
– Это не имеет значения. В данном случае. Не хочу вас пугать, но по-разному может повернуться. Не исключаю возможности общего паралича. Как мы вас будем из него вытаскивать, не совсем представляю. Ваш осколок свое уже сделал. Удар, кровоизлияние в позвоночник. Уберем мы его или не уберем – последствия останутся. Что же вас еще раз травмировать без крайней необходимости? Наберитесь мужества. Терпите! Ничем другим вам помочь нельзя.
На том и порешили. Яловой утром на операцию не пошел.
Жалел. Не один раз.
Всякий, кто лечил зубы, знает, что происходит в то мгновение, когда крохотный бур, преодолев защитную оболочку, обнажает нерв. Ожидающие в приемной вздрагивают от вскрика или стона, который доносится и до них. Для Ялового такие мгновения продолжались часами. Сверлящая боль поднимала, гнала его. Страдальчески выворачивая шею, шлепал по коридору. Бессмысленные, затянутые пеленой глаза. Глохнущие голоса. Рвущийся дикий, нечеловеческий крик. Какой волей, какими усилиями глушил его…
В такие часы: режьте, пилите. Все что угодно. Только освободи-и-те!
Топ, топ… До угла. Теперь повернем. Терпи. Ну потерпи. Сейчас полегче станет. Отпустит. Освободит. По-терпи-и-и!
Выдержал. Выходил. Дождался облегчения. Устроился проклятый осколок. Запеленался в капсулу.
Боль оставалась. То слабее становилась, глохла, то неожиданно взвивалась, скручивала, рвала… Вновь отступала. Посвободнее становилось. Можно было дышать. Жить.
Много раз вспоминал Ивана Павловича Удалова. Поклонился бы ему! Не за самый совет. За то, что в неурочный ночной час, только что вернувшись из командировки, все же набрался сил, вызвал его, осмотрел. Значит, жило в нем беспокойство. За чужую жизнь. Врач не тот, кто выписывает нам лекарства, а тот, для которого ваша жизнь как своя. Тогда он не только врач. По профессиональным своим обязанностям.
17
«Когда случилось петь Дездемоне, А жить так мало оставалось, – Не по любви, своей звезде, По иве, иве, разрыдалась».
Звучала, страдала, исповедовалась душа человеческая.
«Сестра моя жизнь…» – как пронзительно точно назвал Пастернак одну из своих ранних книг!
Книги лежали у Ялового под подушкой, на тумбочке. Долго не удерживал в руках книгу. Подпирал коленкой. Читал. В перерывах между процедурами, осмотрами. Малейшая фальшь раздражала, как комариное зудение. Многое казалось теперь лживым, нагло-беспомощным. Бросал. Не мог смотреть на сыто черневшую строку. Самое простое, непосредственное, искреннее, о чем раньше и не задумывался, трогало до слез.
Ему казалось, что он теперь способен был твердо различать, где п р а в д а, а где н е п р а в д а. Суд правды ему казался единственно возможным и признаваемым в искусстве.
Долго размышлял над одним рассуждением Чехова из письма к Суворину. (Ему принесли переписку Чехова.) Может, только письма Флобера, которые он прочитал еще в первые студенческие годы, могли сравниться с перепиской Чехова по ошеломляющему чувству новизны, необычности. Как будто писалась особая, сокровенная книга, в которой смутно угадывалось и то, что происходило в действительности, и то, что затем, странное, преображенное воображением, памятью, фантазией, представало в книгах. В художественном произведении. По каким же законам совершались эти превращения? Что определяло это чудо?
«Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение, – писал Чехов Суворину. – Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас».
Откуда возникли эти слова – «сознание цели»? Что они должны выражать? Искусство бессознательно, оно без цели, без смысла, как сама жизнь, – утверждали одни. У Чехова совсем другое. Он говорит о цели. О с о з н а н и и цели.
«…Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть…» В этом тайная прелесть? В этом магия искусства?
Но к а к и ч е м она достигается?
По какому побуждению человек берется за перо, за кисть, за резец?
«Почему у меня не идут из памяти лебеди, о которых написал отец. Как сон. Как наваждение, – думал Яловой. – Почему я так уверен и эта уверенность дрожит во мне, как туго натянутая струна, что когда-нибудь, но это будет, я знаю, я непременно расскажу о том, что видел, испытал. Если бы этого не было, не стоило бы и жить. Странное чувство обреченности, радостной убежденности, долга».
– Пора на процедуру! Вас ждут. На электрофорез, – сестра рукой касается его плеча. – Поднимайтесь!
…С подъема начиналось сумеречное зимнее утро в госпитальной палате. Сестра молча совала градусники, отмечала температуру. Лежачим приносили таз для умывания. Нянечка поливала из кувшина, рассказывала последние городские новости.
Больше о грабежах и налетах. Свирепствовал какой-то однорукий. Вчера перед закрытием появился в магазине, пистолет из-за пояса, начал стрелять. «Ложись!» Забрал всю выручку – и был таков. Ночью раздели припоздавшего летчика из госпиталя. Черного кожаного пальто лишился. Хорошо, хоть унты оставили. Телогрейку дали, чтобы добежал до места. Пожалели. Банда объявилась. Называется «черная кошка»…
Торопливый цокот каблуков был слышен еще из коридора. Терла ладошкой красный кончик носа, торопилась, припаздывала, не отошла с мороза и:
– Мальчики! Мальчики! Приготовьтесь к зарядке.
Нина Андреевна. Биолог но образованию, а теперь методист по лечебной физкультуре. Остановилась посреди палаты. На высоконьких ногах, но вся плосконькая, на носу большие очки, за которыми бледно-голубые, чуть подведенные глаза, подкрашенный рот.
– Я типичный синий чулок, Яловой, – говорила она во время занятий лечебной гимнастикой; сжимала и разжимала пальцы, совала мячик, выворачивала кисть. – Мне надо «подрисоваться». Смотрите на меня, и вы увидите, какая у вас будет жена. Вы женитесь на «синем чулке», Яловой! Умный человек не сможет жить с дурой. И наоборот. Мой прислал недавно письмо, болтается где-то в Азербайджане в тыловых частях. Пишет: «Я не смогу жить с тобой, потому что только теперь понял, как мне было тяжело рядом с тобой. Я все время чувствовал себя дураком».
Я ему ответила, по письму видно, что на самом деле так оно и есть.
Она несла свой крест с ироничной улыбкой. Сын, который оставался теперь без отца, старуха мать.
– Уныние – удел бездуховной личности. У меня всегда больше того, что я теряю или могу потерять.
Но сегодня ее было не узнать. Встрепанная вся, крашеные волосы вразлет, глаза как у собаки, которую забивают насмерть. У бабушки вытащили хлебные карточки. Или она сама их потеряла. Старенькая, видит плохо. А до конца месяца десять дней.
Посоветовались в палате, чем помочь. Яловой от имени всех – к начальнику госпиталя. Толстый осанистый полковник поначалу даже разговаривать не хотел. Начал кричать: «По какому праву… Ходят, требуют… Я же не могу отнять у раненых, понимаете вы!»
– Мы часть своего пайка… Если вы… – голос Ялового сдавленный, с хрипотцой. – Если вы еще хоть раз крикнете…
Яловой ухватился рукой за толстый подлокотник кресла. Он видел на столе графин. Приковался к нему глазами. Сумасшедшее, яростное желание схватить его…
– Садитесь, пожалуйста, – сказал полковник. Голос его как будто из-за стены. Странно-спокойный, дремотно-ласковый. – Присядьте, присядьте. Что-нибудь придумаем.
Яловой прикрыл глаза. Вот, значит, что может быть еще среди «последствий». Потеря контроля. Поступки, которые невозможно предвидеть.
Помогли Нине Андреевне. Дотянула с семьей до конца месяца.
Подходил Новый год. Четвертый военный Новый год. На лестничных пролетах пахло хвоей и морозцем. Откуда-то привезли большую елку. Устанавливали ее внизу, в просторном вестибюле, который был и приемным покоем. Елка гибко подрагивала, пружинила своими раскидистыми ветками, охорашивалась, зеленела так, будто она в лесу, будто она еще живая…
Вышли из госпиталя вместе с Витьком – остроносеньким старшим лейтенантом – командовал пулеметной ротой, тяжело ранило; так и не выписали его в обещанный срок, начались «мозговые явления», подзадержали, а потом и на операцию, ничего, отошел, вновь начал выходить. Деятельный, уверенный в себе человек. С Яловым им предстояло договориться с шефами о встрече Нового года. Предприятия, учреждения шефствовали над госпиталями, оттуда, с «гражданки», приходили, беседовали. Помогали чем могли.
– Выпить-то разрешат. Ради такого случая. Хотя бы по маленькой, – рассуждал Витек. – Шефы достанут. У наших есть возможность.
На тротуарах высились сугробы. Не успевали вывозить. В переулках торили тропки, как в деревнях. До окон первого этажа понамело снегу.
Возле колонок желтоватые наледи. Очередь с ведрами. Не хватало воды.
Непривычно было видеть женщин с ведрами, в теплых платках, в валенках и сапогах, старика, который на саночках вез деревянное полено, милиционера на углу. Позванивая, кряхтя прокатил трамвай, скрылся за углом.
Совсем незнакомая жизнь. Как-то в ней придется после госпиталя?
Начали переходить улицу. Яловой поскользнулся и, взмахнув руками, рухнул на трамвайный путь. Оглушенно заныло все тело. Не мог подняться. Не на что было опереться. Упал на левый бок. Попробовал повернуться. Витек безучастно топтался в стороне. Бросилась девочка, из школы шла, портфель – в сторону. Руки без варежек. Синевато-красные кисти вылезают из коротких рукавов пальто:
– Дяденька, обопритесь на меня! Дяденька, вот ваша шапка. Вам больно?
Глаза даже слезой взялись. Бледное лицо. Сердечная ты моя девчоночка, спасибо тебе!
Постоял, отряхнул шапку. Поковылял дальше, провожаемый сердобольными взглядами.
Обругал Витька:
– Что же не помог?
Витек резонно посоветовал:
– Под ноги смотри. Не лето. Мне наклоняться нельзя. Не знаешь, что ли?
Такие-то они пешеходы!
Но Витек особо не остерегался. Бодренько топал. Размахивал руками, удивлялся:
– Как можно! Чтобы по-нарочному болезни себе придумать. Оказывается, и такие попадаются. Без совести. Больше года по госпиталям – первый раз такого встретил.
Обсуждали недавнее происшествие.
Во время одного из своих обходов в канун Нового года начальник госпиталя от двери решительно направился в противоположный правый угол палаты. Туда, где лежал Павел Николаевич Корзинкин. Грузноватый сумрачно-неразговорчивый мужчина.
Яловой обрадовался, когда узнал, что Корзинкин с Кубани, из Краснодара. В первый же день, как тот объявился в палате, пошлепал в угол, к земляку. Но Корзинкин даже не взглянул на него. Посеревший, в двухдневной, с проседью, щетине. Мычал что-то. Только и добился Яловой от него, что работал тот то ли в крайисполкоме, то ли в сельхозуправлении, жил тоже не понять где: то ли на Красной, то ли на улице Коммунаров.
– Не в себе он, что ли, – размышлял Яловой. – Зажатый какой-то… Глаза загнанные вглубь. В тоскливом напряжении.
На самые простые вопросы не захотел ответить. Где воевал? При каких обстоятельствах ранили? Каждый, кто попадал в палату, обтерпится и первым делом – про это. Здесь все знали друг про друга. Отцов, матерей, родственников упоминали как своих.
Корзинкин не вставал. Полеживал. Большей частью на боку. Возденет очки, и за книгу. Не из библиотеки. Приносила ему книги медлительная буфетчица Зинаида Петровна. Обернутые в газету. Через нее и письма пошли Корзинкину. Пошепчутся в уголке – наклоняются друг другу, почти лбами стукаются, – и отплывает Зинаида Петровна в свои владения. Лицо постное, благочестивое, как после причастия.
– Самостоятельный мужчина, – поджимая губы, сказала она о Корзинкине. – Такой и дело присоветует, потому жизнь понимает.
Витек озорно подсвистнул:
– Расчет держишь на него, Зинаида Петровна! Все ему в особицу – сама носишь. Подкармливаешь.
Зинаида Петровна даже споткнулась. Укоризненно покачала головой:
– Молодой ты, потому и глупый.
Любопытствующий Витек все же доглядел, что за книжку скрывал Корзинкин в газете, разочарованно обнародовал:
– Ну мужик! Я думал, что он такое прячет?.. А он нервные болезни изучает. Толстенная книга. Во-о какая!
Спросил Корзинкина, которого привела в палату сестра после какой-то процедуры:
– Ты что, капитан, после госпиталя в доктора метишь? Давай-давай, образовывайся, тут на своей шкуре всю медицину пройдешь.
Выходило, не совсем неожиданно грянул гром. На Корзинкина обрушилась гроза.
– Встать! – властно покрикивал начальник госпиталя. – Не можете? Попытайтесь стоять, не хватайтесь за кровать. Станьте на колени. На стуле! Как не можете? По вашей болезни вы должны стоять.
Повернулся к начальнику отделения:
– Это что за диагноз? Контузия под вопросом? Почему под вопросом? Каков окончательный диагноз?








