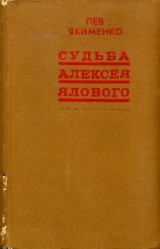
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц)
Судьба Алексея Ялового
ОТ АВТОРА
Когда я перечитал свои повести «Всё впереди», «Куда вы, белые лебеди?..», «Жеребенок с колокольчиком», то увидел: написанные в разное время, они – единая книга, книга судьбы. Одной судьбы. Одной жизни. И не только потому, что в них единый герой – Алексей Яловой, что есть определенная последовательность, связь, обусловленность событий, но и по общей тональности, по отношению к жизни или, точнее сказать, по восприятию действительности, по характеру понимания, по всему тому, что создается как результат размышлений, поисков и наблюдений.
Поколение, к которому я принадлежу, осознало себя исторически на фронтах Отечественной войны. Поэтому какие-то особые, неповторимые черты времени соединяют нас, юношей и девушек, шагнувших из школьных классов, студенческих аудиторий на фронтовые дороги.
Нас не так уже много осталось. По статистике, из каждых ста юношей рождения 1921—1922 годов осталось три человека. Но оставшиеся должны, хотят, не могут не говорить о «вернувшихся с войны» и о тех, «кого зарыли в шар земной», как сказал в своем стихотворении Сергей Орлов.
Прежде всего мы услышали поэтический голос этого поколения. В прозе оно заговорило значительно позднее, но заговорило так, что без книг, написанных моими сверстниками, невозможно представить современную литературу.
Ф. Абрамов, М. Алексеев, А. Адамович, А. Ананьев, В. Астафьев, М. Годенко, О. Гончар, Ю. Гончаров, Г. Бакланов, С. Баруздин, В. Быков, Ю. Бондарев, С. Крутилин, И. Мележ, В. Росляков…
Назвал я далеко не всех (и только прозаиков), но общим при всей разности дарования было стремление возможно полнее выразить свой жизненный опыт, свое понимание времени.
Об этом очень хорошо и поэтично сказал К. Ваншенкин:
«В последние годы некоторые поэты, даже критики стали писать прозу, и с непривычки очень хорошо, пронзительно точную, со знанием дела, совершенно игнорируя законы жанра, сюжет и проч. У них есть одна госпожа – госпожа Достоверность, и они поклоняются только ей одной. Их рукой движет долг, копившееся острое желание, страстная потребность рассказать о себе, о своей жизни и судьбе, о своем поколении, о сверстниках, об особенностях своего поколения или просто местности, где вырос автор. Что может быть благороднее, человечнее, естественнее этого права, этой задачи? «И тут кончается искусство, и дышит почва и судьба» – сказано о таких книгах».
Я бы рискнул эту характеристику некоторых книг, точнее, определение побудительных мотивов творчества перенести на большую часть литераторов моего поколения, военного поколения, как его часто называют в критике.
Не нам мериться самолюбием. Действительно, хочется успеть сделать все, что возможно. Чтобы не забылось, не забылось и не ушло пережитое.
И когда я думаю о своих сверстниках, о товарищах по литературному делу, мне кажется, что все вместе мы пишем историю своего времени, что только искусство оставляет наиболее впечатляющую память о человеке, «летящем во времени».
Особенностью же того поколения, о котором я говорю, является необычайно острое сознание сопряженности твоей личной судьбы с судьбой общества. «Твоя» жизнь, «твоя» биография осмысливается как одно из явлений исторического времени.
Не случайно, что «биография» лежит в основе многих произведений современной прозы. Когда вы читаете повести и романы Ю. Бондарева, «Горячий снег» например, и видите бесконечную снежную степь, горящие немецкие танки, артиллеристов у стреляющих орудий, а во время похода, жестокого боя остаетесь наедине с лейтенантом Кузнецовым, вы чувствуете обжигающую достоверность. Или вспомните давнюю книгу «Танки идут ромбом» А. Ананьева, «Пядь земли» Г. Бакланова, «Третью ракету» В. Быкова, «Повторение пройденного» С. Баруздина, «Лейтенанта Артюхова» С. Крутилина, «Зазимок» М. Годенко, «Один из нас» В. Рослякова…
«Биография» может выражаться и непосредственно, в прямом «исповедальном» голосе героя, и опосредованно, в объективизированном повествовании, но в основе будет та «подлинность» и «почти документальность», которую не всегда определишь даже стилевым анализом, но которую чувствуешь так же, как чувствуешь воздух, которым дышишь.
Вы обратили внимание, как поднялась в последнее время «цена» на документ? Почему так много читают документальных произведений, мемуаров, хотя не всегда «мемуарность» и «документальность» некоторых из этих книг гарантируют «подлинность» и даже «достоверность»?
Не есть ли это тяготение к документу выражением одной из существеннейших потребностей человека нашего времени: «знать правду, всю правду, одну чистую правду». Эта потребность особенно обостряется после грандиозных исторических испытаний, какими для нашего народа были годы Великой Отечественной войны.
В тоже время литература стремится обрести новые связи с читателем, завоевать полное доверие его.
«Биография», «лично пережитое» подтверждают подлинность, исповедальность – непосредственность и достоверность чувства. Я верю в искусстве в «лично пережитое», которое выражается не только в событиях, но и определяется интенсивностью внутренней, духовной жизни, нравственными исканиями художника.
Чтобы дать представление об одном из эмоциональных стимулов, которые привели к созданию этой книги, я решил привести «исповедальное» начало своего доклада на Всесоюзном совещании писателей и критиков в феврале 1975 года в Минске, посвященном 30-летию нашей победы в Великой Отечественной войне.
«Лебеди прорезали туманную мглу, уходили ввысь и кричали так, будто прощались со всем, что было у них на земле…
Просыпаясь, я еще слышал гаснущие, щемящие вскрики – во сне ли, наяву ли, – но я знал, что с этого надо начинать – с госпитальных снов-видений, в которых так причудливо смешивалось бывшее и воссозданное воображением.
«Сыны мои, белые лебеди», – написал в одном из писем на фронт отец – школьный учитель.
И потом, через несколько лет, когда я уже закончил свою повесть «Куда вы, белые лебеди?..» и прочел стихи Расула Гамзатова, сначала прочитал, а потом услышал песню на его слова в исполнении Марка Бернеса, когда я прочитал вот эти строки:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей… —
и только тогда, может быть, в полной мере осознал я ту внутреннюю символику, которая рождалась из всего, что видел на войне, на нашей скорбной и героической Великой Отечественной войне…
Теперь, через десятилетия, разве что в тяжелых снах доходят до нас прощальные голоса тех, кто шел с нами рядом по дорогам войны, кто в снежной мгле вставал в атаку, кто падал, сраженный вражеской пулей или осколком, кто всхлипывал во сне в землянке, вспоминая родной дом, мать, невесту…
Не будем стыдиться слез и горя.
Единственное, что мы можем, – помнить о тех, кто был тогда, в годы войны, с нами и кого нет сейчас среди нас, среди живых.
Белых лебедей, не долетевших до нашей победы в мае 1945 года! Рыцарей социализма, мужественных защитников прекрасного мира человеческой надежды!»
Но, конечно же, не только память прошлого властно возвращает нас в пережитое. Каждое поколение ответственно не только перед своим временем, но и перед будущим, и для искусства чрезвычайно важно понять и объяснить прежде всего свое время. Это свое время не измеряется одним-двумя годами, это десятилетия нашей жизни, это судьбы наших отцов и матерей, это мир наших детей, их надежды, их искания. Писатель обращается к разным поколениям.
И, конечно же, самый трудный, мучительно трудный вопрос, который встает хоть раз перед каждым человеком – ради чего, для чего я живу? – и побуждает размышлять, искать ответа, не всегда находить его и вновь искать.
Для меня именно этот вопрос, осознавался он или не осознавался, все равно был главным и тогда, когда я писал историю детства моего героя Алексея Ялового, и тогда, когда я рассказывал о его институтских годах, о начавшейся войне, о первых боях, и тогда, когда он, распластанный на госпитальной кровати, оказался на грани жизни и смерти.
Философия времени для меня не отвлеченное понятие, а мера глубины понимания эпохи, людей, их отношений. Меня иногда удивляло и поражало, сколь мало мы извлекаем из своего опыта, из того, что видели, знали, пережили, перечувствовали.
Когда я начал писать повесть о детстве, я с удивлением убедился в том, что уже там была почти вся жизнь: и радость открытий мира, и давящая, тяжкая власть горя и отчаяния, и воскресшие надежды. Во второй части этой книги, в повести «Куда вы, белые лебеди?..», герой сам рассказывает о том, что видел и пережил на дорогах войны.
«Жеребенок с колокольчиком» для меня особая книга не только потому, что она завершает трилогию, не только потому, что в ней повествование не ограничивается событиями войны, а доводится до наших дней, но и прежде всего темой, ее внутренней сутью.
Что держит человека на земле в критических, предельных обстоятельствах, когда, кажется, дунь ветерок – и свеча загаснет, когда, кажется, сделай малейшее усилие – и ты по ту сторону, где над тобой не властны ни боль, ни страдания? Только ли инстинкт жизни или нечто более важное, существенное, то, что в тебе в запасе, что накопилось годами пережитого, и, наконец, это то будущее, которого ты еще не знаешь, но которое тоже твое, ибо оно свидетельство того, что могло уйти без возврата вместе с тем мгновением, которое могло отделить тебя от жизни.
Мне, конечно, хотелось, чтобы Алексей Яловой хоть в какой-то мере выразил в своей жизни, в своем характере судьбы поколения.
Я не боялся того, что называют интеллектуальностью героя Мне казалось, что в этом было определенное достоинство, которое позволяло не просто фиксировать все то, что видел герой, так или иначе воспринимать его, но и пытаться осмыслить события и людей. Разные были люди, разные судьбы: герои, люди бескорыстного подвига, люди той спасительной доброты, которая так важна в трудные минуты твоей жизни, и подлецы, трусы, клеветники.
Рассказ о том, что было пережито, требует и того, что я назвал бы бесстрашием памяти. Не надо утаивать то, что было, потому что неправда может только унизить героическое время и героических людей.
Некоторые критики упрекали меня, говоря, что во многих событиях, которые сопутствуют, проходят рядом с Алексеем Яловым во всех трех повестях, заключен уже маленький роман. «Не слишком ли ты щедр, неэкономен?» – сказал мне один из моих друзей-писателей. Я думаю, что нет. Алексей Яловой все время сталкивается с людьми; одних он любит, принимает, других презирает и отвергает, но ведь каждый человек – это ненаписанная книга, и если, действительно, читатель ощутит, что за каждой из судеб тех, которые проходят рядом с Алексеем Яловым, – маленький роман, то это высшая награда мне, как художнику.
Хотел бы предостеречь читателя. Когда я говорил о «подлинности», «документальности», «биографичности», то я не имел в виду полного совпадения биографии героя этой книги Алексея Ялового и автора. Подлинность и документальность в искусстве достигаются другими путями. Многое из того, что важно было в твоей жизни, отсеивается; другое, казалось бы малозначительное, вдруг, по прошествии многих лет, приобретает особое значение; людей, которых встретил когда-то, начинаешь понимать по-другому. Опыт жизни, опыт времени преображает многое из того, что было, наполняет былое новым смыслом, придает другое значение. Вымысел всегда был верным другом искусства, воображение, фантазия помогают воссоздать мир в той полноте и достоверности, без которых невозможна художественная правда.
Я чувствую, что начинаю говорить как литературовед и критик, хотя целью моего обращения к читателю было не объяснение написанных мною книг, а лишь попытка рассказать, как они создавались и почему все вместе они составляют теперь единую книгу «Судьба Алексея Ялового».
ВСЁ ВПЕРЕДИ
НА СВОИХ НОГАХ
Ему казалось, он помнит себя давно. По неписаной семейной хронике выходило: с двух лет. С того момента, когда ему подарили двухцветный мяч.
Он хорошо помнил: он стоял возле хаты, а у ног его сиял мяч. Праздничный лаковый блеск завораживал. Глаз невозможно было оторвать от этого красно-синего мяча.
Носком ботинка мальчик несмело коснулся его, мяч тотчас отпрыгнул в сторону, мигнул красным боком, синим… Он был как живой. Как котенок. С ним можно было играть.
Мальчик воинственно закричал, ринулся к мячу, с силой ударил по нему, и мяч неожиданно как птица взметнулся вверх, над потемневшей соломенной крышей, упал на нее, покатился и застрял в темной впадине.
Мальчик смотрел минуту, другую… Мяч не двигался. Словно нарочно улетел и сидит теперь на темной крыше, как сказочно яркая птица на картинке.
Праздник и потеря – они слились так неожиданно. Мальчик затопал ногами и даже всхлипнул.
Он еще не знал тогда, что в жизни потом будет часто это чередование радостей и утрат. Словно чья-то жестокая и всевластная рука тасовала по причудливому выбору редкие билеты на счастье.
Мальчик был упрям. Он начал бросать камешки, чтобы попасть в мяч, сдвинуть его. Не добрасывал. Не было еще размашистой силы в руке. Попробовал подтащить лестницу. Куда там!..
И тогда он заревел в полный голос, закричал. Бурно протестовал против обиды и несправедливости.
Выскочил из хаты отец, подхватил его на руки, а когда понял, отчего крик и всхлипывания, рассмеялся, притащил длинную тонкую слегу и, таинственно приборматывая: «А мы сейчас поколдуем, скажем заветное слово: мячик, мячик, катись к нам», потянулся к мячу. И вот мяч, словно заговоренный, покатился, сорвался с крыши, ударился о землю, дурашливо подпрыгнул и как ни в чем не бывало остановился у ног мальчика.
Мальчик подхватил его, прижал к груди… А вот что было с мячом в тот день и потом, он уже не помнил. Просто помнил свой прекрасный мяч и ту радость.
Мальчика подняли на лошадь. Он вплыл на нее по воздуху. Одна мужская рука крепко упиралась ему в живот, другая держала за ногу. Он плыл на такой высоте, что останавливалось дыхание. Как только его усадили и отпустили, он покачнулся, не было опоры. Ему показалось: сорвется сейчас с этой высоты, с этого режущего лошадиного хребта. Смуглыми исцарапанными руками он сунулся в волнистую густоту гривы, вклещился в пучки шершавых, жестких волос. Удержался.
Кто-то ободряюще крикнул: «Добрый казак буде!» И тут же басовито, понукающе: «Но-о-о».
Мальчика толкнуло, рвануло. Казалось, еще мгновение – и он не удержится, его снесет. Он пятками судорожно нащупывал углубление между ребер, заскользившими в гриве пальцами перехватывал пучки волос, напрягся всем тельцем – сразу вспотела спина. И удержался на этой колышущейся жесткой хребтине.
Он двигался. Он ехал. Краешком глаза он увидел взрослых. Их запрокинутые лица. Они шли рядом, что-то кричали ему, смеялись. Они были внизу. Он был над ними. Он плыл, как какой-нибудь сказочный царь на носилках. Он парил в немыслимой высоте.
И это мерное покачивание, это движение, это чувство высоты, преодоления страха, победных усилий были так сладостны, так новы, что в нем все замирало от неосознанного блаженства.
…И когда его снимали, он рвался из рук, тянулся к лошади и кричал: «Еще-е! Еще-е!»
НЮРА
Мальчик был влюблен. Но он тогда еще не знал этого. Ему было пять лет.
Он был в саду. Он высматривал спелые ягоды. Он искал их, трудолюбиво и настойчиво, для девочки, которая ему нравилась.
Только-только начала вызревать черешня. В саду пахло разогретой землей и молодым укропом.
Мальчик поднимался на носки, хватал нижнюю ветку, напрягаясь, подтягивал к себе. Продолговатый черный жучок с длинными усиками испуганно шатнулся, побежал по тонкой веточке, скрылся в охранной зелени листьев. Мальчик, деловито посапывая, сильнее наклонил ветку. Она предостерегающе скрипнула, туго напряглась, мальчик ослабил усилия, ветка хлестко рванулась, освобожденно закачалась в высоте. Среди листьев празднично багровели ягоды. Мальчик, от усердия прикусив губу, вновь потянулся за веткой, накренил ее. Зажал покрепче, начал торопливо рвать ягоды, не разбирая, созрели они или нет, совал их за пазуху. Перешел к другому дереву, оно было пониже, пошире. Здесь желтоватые ягоды хмуро отсвечивали и лишь под солнцем неожиданно светлели, покачиваясь на длинных сережках.
Мальчик съел одну ягоду, долго обсасывал шершавую пресную косточку. Он пальцами ощупывал ягоды, стараясь угадать, в какой из них под защитной тугой кожурой скрывалась сладкая, зрелая мякоть. Ел, далеко сплевывая косточки.
Потом вновь начал рвать без разбора, заторопился, выбрался на дорожку, побежал по ней. Босые, уже загрубевшие подошвы легко отталкивались от горячей, в сухих трещинах земли. На ходу он прикидывал, как лучше: податься по-за хатой, чтобы не встретить маму или бабушку, или, скрываясь за плетеным палисадником – ранней весной там за оградой высаживали рассаду, выставляли четыре улья с пчелами, – мимо высокой груши – к сараю и по переулку – на улицу. Бабушка, увидев вздувшуюся на животе рубаху, немедленно произвела бы досмотр: «Ишь, шибеник, выдумав, сами спелых не пробовали, а вин уже на вулыцю хлопцам таскае!» И заставила бы съесть при ней. Все ягоды, до одной. А мама… Сейчас же потащит спать! Вычитала где-то, что дети должны спать после обеда. А если мама во что уверует…
Мальчик резко притормозил, даже качнулся. Черные горбоносые муравьи пересекали дорожку, они шли друг за другом, будто грузчики на погрузке корабля: одни тащили на себе беленькие шарики, другие толкали перед собой темные катыши. Они шли потоком, с правильными интервалами. Мальчик прутом перегородил им дорогу, они начали обтекать прут, вновь выходили на им только ведомую дорогу. Похоже, что переселяются. Но куда? И зачем?..
На земле мелькнула тень. Мальчик насторожился, вскинул голову. Со стороны сада воровски скользнул короткошеий, с круто загнутыми крыльями ястреб. И сразу же под грушей тревожно заквохтала наседка, раскрылатилась, забегала, созывая крохотных желтых цыплят. Мальчик схватил сухой ком, метнулся к наседке, закричал во весь голос, задирая голову: «Кыш! Кыш! Проклятый!» Бабушка, роняя передник, пронзительно вскрикнула, кинулась от сарая, тоже на выручку. Ястреб повисел на месте, словно размышляя, что ему предпринять, неохотно отвалил в сторону. Круто пошел в знойную блеклую голубизну.
От хаты позвала мама: «Але-ша-а!» Таким голосом, будто они сто лет не виделись. Отбежавшая от сарая бабушка его хорошо видела, возле хаты – мама. Словно клещами, с двух сторон захватывали.
Подумал было: обратно в сад что есть духу, и там за кустами смородины и крыжовника… «Догонят!» – решил. Понурившись побрел во двор.
– Ма, я не хочу спать, я всю ночь спал, – захныкал он издали.
– А я тебя ищу, ищу, – сказала мама. Он упирался пятками в землю, останавливался, она несильно тянула за руку.
– Ты можешь понять… я на речку договорился… Пусти. Я завтра три часа, я десять часов посплю. Ты понимаешь?..
– Я все понимаю, – терпеливо отвечала мама. – Ты можешь не спать. Полежи минут сорок, пища переварится, и пойдешь себе… Это необходимо для здоровья.
– Да что я, больной?! – возмутился Алеша. – Когда я болел, скажи?..
– Вот и хорошо. Спать будешь после обеда, еще здоровее станешь.
В конце концов она затолкала его в кровать, заставила даже ноги вымыть, как будто кто из ребят моет ноги днем, а до вечера вон еще сколько! Он лежал и думал с обидой о маме и тревожно о том, что может сорваться то важное и значительное, ради чего он намного раньше, чем обычно, выпросил сегодня обед, трудился в саду и даже согласился прилечь на эти проклятые сорок минут.
– Мама! Сколько минут прошло? – беспокойно спрашивал он и все вертелся на своей кровати.
– Алеша, если ты сейчас же не угомонишься, я тебя никуда не пущу!
Алеша обреченно рухнул на скрипнувшую кровать.
Это уже была большая обида. Алеша, упираясь ногами, приподнимал спину и бил ею о кровать, чтобы пружины скрипели погромче, пусть она слышит!.. Но мама молчала. Как будто и не слышала.
Алеша начал думать о том, что он будет делать, когда станет взрослым. Сразу ничего интересного не придумалось, он съел одну ягоду, косточку сплюнул подальше под кровать.
Глазами отыскал зажужжавшую муху. Она перелетела с потолка на стену, закружила возле кровати, Алеша потянулся за полотенцем, напрягся: «Я ее сейчас…» Но муха, неожиданно подскочив, отлетела, зашуршала в уголке возле двери, успокоенно притихла. «Мух и тех повыгоняли!» – возмутился Алеша.
Хуже нет, когда мама дома! То ли дело зимой. По целым дням и мама и татусь в школе, уходят, он еще спит, возвращаются затемно, он уже спит. А с бабушкой совсем другая жизнь. Она все по хозяйству, то возле печи, то корове корм задает, то кур обихаживает, прибежишь, дух не переведешь, хекаешь, как загнанная собака: «Бабушка, обедать!» Сразу тебе подает, все понимает, ребята вон под окнами стоят, ждут, не считает, сколько ложек съел, поел себе, шапку на голову, пальто на плечи и – гайда, хоть до самого вечера. А теперь лето. Школьников на каникулы отпустили. Вот мама его и воспитывает. Нагоняет утраченное.
Во второй раз Алеша плюнуть поопасался. Лежал на кровати и горевал по утраченным вольностям. Хотя бы на конференцию поехала. Бывают же у них учительские конференции? В район поедут. Подарки привезут.
Алеша мечтал о новеньких блестящих калошах. Он прямо видел себя: выходит на улицу в сапогах, на них глянцевито-черные калоши, руки независимо в карманах пальто, он идет на угол, там обычно по субботним и воскресным дням собираются парубки и дивчата, холодный, мартовский ветер рябит воду в лужах, а он идет себе в калошах, воротник пальто поднят, парубок, да и только, и он казался себе большим, взрослым, и видит Нюру Голуб, она прыгает с девчонками на сухом месте, поближе к каменному своему дому, он отзывает ее в сторону, ведет за угол и решительно говорит: «Я тебя люблю». Поворачивается и идет себе домой. А она пусть думает что хочет.
И сладкое до дрожи чувство пробирает его. Но так было только в мечтах.
Ему очень нравилась Нюра. Кругленькое лицо в веснушках, темные внимательные глаза. Очень скромная, очень тихая девочка. Задумчивая даже. Хлопцы играют «в козла», разгонятся, прыжок, упор в согнутую спину – и перелетают через тебя, девочки – в «классики», в вечерних тихих сумерках шум, гам, как от птичьей стаи перед отлетом, первые звезды загораются, а она станет себе в сторону и смотрит вдоль улицы, в одной хате вспыхнет красноватый огонек и подальше в другой – зажгли лампу. И Алеша как только глянет на Нюру, так и ему сразу расхочется играть. Отойдет себе в сторонку и тоже смотрит на редкие огоньки, на дальнюю гору…
Сегодня он отгонял корову в череду, Нюра тоже гнала свою, помахивая хворостиной. От толоки – выгона пошли вместе. Шли себе и молчали. Солнце торопливо выскочило, как будто оно опаздывало, из-за большой могилы – запорожского кургана, видного издалека в степи, круто покарабкалось по небу, сизоватые росинки задымились на тонких травяных стебельках. Начала прогреваться пыль, после ночи влажная, холодная, в хмурых складках.
Алеша вспомнил, что уже можно купаться.
– Ты купаешься? – спросил он.
Нюра кивнула головой. На него даже не взглянула. Идет себе, хворостину по пыли волочит.
– А с кем ты на речку ходишь?
– С Мариной, – тихо сказала Нюра. Марина была соседка, в пятом классе училась.
И тут Алеша отважился.
– Давай вместе пойдем на речку.
– Пойдем, – прошептала Нюра.
Алеша сглотнул слюну и молчал всю остальную дорогу. Уже у самого двора – мать Нюры, тетка Олена, наклонившись, несла на спине солому к летней печке – Алеша грубо спросил:
– Когда пойдешь?
Тут Нюра и хворостиной перестала помахивать. Но все так же, не глядя на Алешу, сказала:
– После обеда… Если пустят.
– Ты мимо нашего двора пойдешь?
– Ага, – ответила Нюра. И, заворачивая к дому, скосив взгляд куда-то на Алешины ноги, неожиданно спросила: – А черешни дашь?
– Дам, – быстро согласился Алеша.
Нюра рванула во двор, только красное платье замелькало между быстрых ног.
Вот он и выглядывал теперь ее с черешнями, мама отпустила, когда, по его понятию, вышли все сроки, томился за кустами сирени возле колодца.
Нюру увидел издалека. Солнце плавилось в белесом небе. Куры в тени клювы разевали, млели от жары, а Нюра шла себе посередине улицы в белом платьице в зеленый горошек, разглядывала что-то под ногами. Алеше показалось, потеряла что-то, ищет… Так и мимо двора прошла, будто и не знала, кто здесь обитает, будто про Алешу и не слыхала и уговора никакого между ними не было. Идет себе девочка по своим делам, даже на окна не посмотрела.
Алеша от обиды просидел за кустами больше, чем следовало. Нюра уже мимо высокого береста на углу прошла, еще повернет куда, может, она на речку и не собиралась, припустил было, а потом зашагал независимо, даже посвистеть попробовал.
Нюра, видно, за знак посчитала, приостановилась, пошла потише. За сараем дядька Ивана он догнал ее. Спросил, как будто случайно увидел:
– Ты на речку идешь?
– На речку.
– И я купаться иду, – заносчиво сказал Алеша.
Тут из высоких лопухов выскочил на дорогу длинноногий Санько, увидел их вместе, вытаращил глаза, конопатый, рыжие патлы торчком, и, мигом что-то сообразив, закричал, заплясал, взвивая пыль:
Ось идэ парочка,
Панас та Одарочка!..
Он кривлялся перед ними, загораживая дорогу.
Нюра ойкнула, втягивая голову в плечи, припустила от него. Алешка кинулся на обидчика с поднятыми кулаками. Непременно быть бы драке, но от конюшни сердито закричал дядько Иван: «Са-а-нько, Са-а-нько». Санько, поворачивая на ходу, высунул язык, погрозил сжатым кулаком.
Нюра ждала Алешу в тени от кустов дикого терна, росшего по-над дорогой. Впервые взглянула на него, бойкенько, с интересом. Алеша полез за пазуху, достал горсть черешен.
Нюра съела одну, другую надкусила, сморщилась, выбросила, третью и пробовать не стала.
– Зеленая…
– А ты спелых захотела, – обозлился Алеша. – Они на самой верхотуре, попробуй доберись!..
До речки они шли так: впереди Нюра, а за ней, поотстав, будто сам по себе, Алеша. Как поссорившиеся супруги.
Пристроились на песке под дикой грушей в тени. Начали в камешки играть, Нюра в два счета обыграла Алешу, стало скучно, ребят возле речки не было. Алеша один полез в воду. Нюра, поправляя свое беленькое шуршащее платье, сказала: «Не буду». С разгону нырнул раз-другой, ох здорово, заорал в полный голос, захлопал руками, а Нюра-дура жарится на песке, барышню из себя строит. Но пока он кувыркался, посвечивая белой попой, да подпрыгивал, дура Нюрка взяла и ушла. Глянул, а ее уже нет. Только осталась ямка на песке, где сидела. И косточки от черешен. Купаться сразу неинтересно стало. Да и признаться если, страшновато одному. Попрыгал, попрыгал на одной, потом на другой ноге, чтобы вода вылилась из ушей, и побрел себе домой.

Он шел по извилистой тропке, она то поднималась, то опускалась по-над горой, с увесистым серым камнем в руке; говорили, много гадюк развелось, и ему казалось, что вот так-то лучше идти одному и думать про себя, какой смелый мальчик идет – гадюк и тех не боится, пусть только высунется какая… Нюрка, видно, мимо огородов по улице пошла, побоялась одна по-над горой. А он идет и ничего не боится, даже посвистывает, а известно, что гадюки не переносят свиста, того и гляди зашипят и полезут из расщелины, а он их тогда камнем, а если промахнется – бежать надо на солнце, гадюка слепнет против солнца, ничего не видит…
И все-таки что-то покалывало его в сердечко. И не только чувство настороженности, опасности. Ему казалось, что это был длинный-длинный, бесконечный и трудный день. И будто он потерял что-то, а что – не мог вспомнить и понять. Да и не дано было ему тогда понять это!











