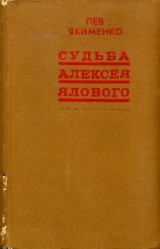
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
Совсем недавно на машине я ее проехал за три часа: от станции выгрузки до Черной Горы – деревни, откуда мы пошли в бой.
Я не могу вспомнить ее всю от начала до конца, рассказать, что было в первую или вторую ночь нашего марша, где мы были и что мы делали тогда-то и тогда. Она видится мне, наша дорога, отдельными картинами, эпизодами, между которыми, казалось бы, нет никакой связи, кроме того, что между картинами и эпизодами, которые отложились, вошли навсегда в мою жизнь, мы шли, мы двигались. Сначала с короткими привалами и отдыхом, как и полагается на всяком марше, хотя на морозе и не особенно «привалишься» и отдохнешь, а потом просто шли…
Было задумано, что мы будем идти только ночью, что наша дивизия скрытно подойдет в пункты сосредоточения и неожиданно нанесет удар. Мы должны были перерезать дороги для отступления сильной вражеской группировки, позиции которой острым клином вдавались в наше расположение. От крайней точки, занятой врагом, старого русского города, недалеко было и до Москвы.
Это был один из выступов, образовавшихся в результате нашего зимнего наступления. Гитлер исступленно требовал их защиты. Впоследствии мы узнали почему. Во время Сталинградской битвы Гитлер говорил одному из высших офицеров своего штаба: «Ни при каких обстоятельствах мы не должны ничего отдавать: отбить назад мы ничего никогда не сможем».
В этом было все дело. Немцы знали: потеряв, они н и ч е г о н и к о г д а не смогут вернуть. Поэтому и держались они даже в «котлах» с отчаянием обреченных.
Но и мы знали тогда, в феврале 1942 года: нельзя их оставлять так близко от Москвы. Пока они сидели тут, Москва была под постоянной угрозой. Острие копья, приставленное к груди. Мы должны были отрубить его. И поскольку это была операция, в которой принимали участие несколько армий, успех ее зависел в первую очередь от согласованности, точности, внезапности. Нам все это объяснили сразу же после выгрузки, когда мы мерзли в лесу.
Но уже тогда стало известно, что мы опоздали. То ли нам вовремя не подали вагонов, то ли по какой другой причине, но только мы выгружались в тот день, когда должны были уже наступать.
Командование армии нервничало, торопило нас, у него был приказ фронта о начале наступательных операций, а наступать было нечем: наша дивизия и другая, тоже московская, еще были, как говорится, на подходе. Так возник приказ о форсированном марше. Нам приказали двигаться безостановочно и днем и ночью. Сто тридцать километров по зимним проселкам мы должны были пройти за двое суток.
Подмороженное, иссиня-голубое небо. Зыбкий тусклый свет луны. Насупленный еловый перелесок. Смутные тени на снегу.
Дорога медленно взбирается на пригорок. Нерушимо стоят плетни, ограждая дворы. У плетней мирные ветлы. И дальше на месте изб черные бугорки с подтаявшими желтыми краями снега. И над ними, как мачты затонувших кораблей, немые печные трубы. Угрюмая, молчаливая память о теплом доме, о жизни. Прокопченные печи. Одна, другая. Они стоят по-разному, то устьем к дороге, то боком. Словно из той озорной сказки, в которой «по щучьему велению, по моему хотению» печи ездили, как сани, Но не видно на них неунывающего Иванушки-дурачка.
– Немец-паразит все пожег, – сказал мальчонка, обвязанный крест-накрест материнским платком, и пренебрежительно сплюнул, оттопыривая губу. Любопытствуя, он подошел к дороге. На огородах в стылых синеющих сумерках неясными группками копались бабы, старики, дети. – Немец дурак, – даже с каким-то хвастливым вызовом продолжал мальчонка, – он думал, что все позабирал. Ну, это верно: коров, овец – все угнали, ни одной курицы в деревне не оставили. Но русского человека не обманешь. Мы ям нарыли и попрятали туда и одежду, и муку, и картошку.
Он помолчал и растерянно, со взрослой ранней усталостью добавил:
– Вот и роем все. Никак сами не найдем, где что попрятали.
И мы увидели, какое у него худенькое лицо, и старенькое пальтишко, и зябнущие слабые руки без варежек. Виктор торопливо сунул ему несколько кусков сахара, сухарей, и мы пошли дальше.
Бесконечная дорога в глубоких рытвинах и ямах, в снежных заносах, по которой мы шли, брели, спотыкались, засыпали на ходу, словно валились в темную бездну, чтобы через мгновение, испуганно дернувшись, вновь вернуться на эту дорогу, и снова шаг, другой – ну-ка очнись, не спотыкайся! – ноги сами собой разъезжаются, и перед тобой плывут, опускаются заиндевелые шапки, тускло отсвечивающие дула винтовок, поднятые воротники шинелей, ты выпрямляешься, вдруг выхвачена из темноты красноватым огоньком щетинистая щека, круг под глазом, морщинки у рта (идущий впереди повернулся от ветра, норовит закурить), и снова шуршание, хрустение валенок, которые трамбуют, печатают следы, ныряют в снег на этой дороге, и снова показываются дула винтовок, тощие солдатские мешки – «сидоры» – на спинах, в них позвякивают патроны, выдали двойной боекомплект (не очень-то их хотели брать, куда такую тяжесть, но прикрикнул старшина), лошади не идут, а сухарей совсем мало, а «нз» – святая святых, неприкосновенный запас – мы уже съели: нам разрешили на вторые сутки к вечеру, когда стало ясно, что идем только мы, люди, а обозы, то есть то, что везли машины и тащили лошади на подводах, застревало на этих занесенных снегом, разбитых февральских проселках.
У сумрачного предрассветного кустарника завалилась набок, задрав вверх свой короткий хоботок, 76-мм гаубица с зарядными ящиками, в упряжке. Лошади, провалившись по колена в снег, загнанно, с присвистом дышали, от их влажных, исполосованных кнутом спин поднимался парок. Они стояли, широко расставив ноги, понуро опустив головы.
Тут же, ближе к дороге, гнедой конек, выбив в снегу неглубокую ямину, лежал на боку. Он натужно всхрапывал, пытаясь встать, с усилием подтягивал жилистые мохнатые ноги, приподнимал голову. Большой продолговатый глаз его в красных прожилках с темным расширившимся зрачком словно искал кого-то. Он дышал, этот зрачок, в нем была мольба, надежда и слезы бессилия. Конек ронял голову, хрипел, оскаливая крупные желтые зубы.
– Отвоевался ты, браток, – сказал Павлов, заряжающий из моего минометного расчета. Плотник в мирное время, старый солдат, он «ломал» вторую войну.
Артиллеристы, измученно привалившись к зарядным ящикам, курили. В морозной мгле молчаливо краснели огоньки их папирос.
Так на наших глазах завершилась одна из будничных для войны драм. Лошадь надорвалась. Она не могла больше идти по этой дороге. Тащить это орудие.
Люди были выносливее.
Мы постояли и пошли дальше.
Высветляя зеленоватый льдистый с редкими шляпками звезд край неба, поднималось зарево. Мы увидели его, едва вышли из заснеженного елового перелеска в низину. Горело как будто в темневшей впереди на буграх деревне. Нам показалось, что это дома. Мы никак не могли понять, кто зажег их. Бомбежки как будто не было слышно… Мы прибавили шаг.
Действительно, почти в середине деревни, чуть в стороне от изб, пылал огромный празднично-жаркий костер. Огонь с сухим треском и хлопаньем взметывался вверх метра на три.
То ли артиллеристы, то ли шоферы в расстегнутых полушубках, ватниках, а то и в одних гимнастерках, забравшись на стропила, топорами и ломами с гиканьем и свистом рушили сарай. Им помогал тягач. Он натужно ревел, цеплял тросом большое бревно, срывал его и подтягивал к костру. Водитель, здоровенный чумазый дяденька, высовываясь из кабины, орал, перекрывая грохот своего тягача: «Налетай, братва!»
Какой-то ошалевший малый в промасленном ватнике прямо из кузова машины с бочками махнул в костер ведро бензину.
Грохнуло словно от взрыва. Все шатнулись от костра, испуганно заржала лошадь, огонь, словно подстегнутый, взвился еще выше, еще яростнее, еще жарче.
– Конец света! – гоготал водитель тягача.
В бурных пляшущих отсветах огня и дыма покрикивающие на стропилах сарая люди, водитель, пышущий машинным маслом и чадным перегаром тягач казались воплощением какой-то разрушительной стихийной силы.
«Вот она, война, – думал я. – Люди, еще не бывавшие в бою, уже захвачены ее разрушающим вихрем. Им доставляет какое-то пьянящее удовольствие рушить, жечь…»
Но скоро я заметил, что в наигранном удальстве «разрушителей» не было ни подлинного веселья, ни единодушия. Одни работали молча и хмуро. А в разгульных выкриках «озорничающих» было что-то нарочитое, словно это удальство напоказ, это гиканье и свист должны были прикрыть неслыханное напряжение и отчаянную решимость со всем распроститься, что оставалось там, позади, в той мирной жизни.
А может, все это только казалось и они были просто «навеселе». Потому что те, кому приходилось труднее всего, солдаты-пехотинцы, молча грелись у костра. Они, казалось, даже не замечали тех на сарае. Одни из них, сбросив меховые варежки, вытягивали руки поближе к огню, другие дремали на корточках, уткнув голову в колени. Тут же поближе к теплу жались лошади из артиллерийских упряжек. В стороне стояли автомашины, крытые брезентом.
В круг то входили, то выходили из него солдаты. Мне показалось, что у костра я начинаю оттаивать, в глазах завораживающе плясало пламя, от него нельзя было оторвать глаз, оно грело, манило, жаром обдавало лицо, обессиливающе томило ноги, хотелось присесть, ну ненадолго, на одну минуту, хотя бы на корточки…
Виктор предостерегающе толкнул меня плечом и первым вышел на дорогу.
– Костер разожгли, чтобы отставшие не замерзли. Огонь увидят, отогреются. Тут и медпункт в деревне, – сообщил Иван. Он, как всегда, был «в курсе». – А может, и мы уже отставшие. Может, и нам подремать у костерка до утра. А, ребятки?
– Немец налетит, он тебя пригреет. Тут до передовой верст пятьдесят, – прохрипел кто-то спереди из-за поднятого воротника шинели.
Равнодушно скрипел снег под ногами, обещая сухую погоду и мороз.
А солдатские ноги все идут и идут. И какой же груз они несут на себе! Патроны, нехитрое бельишко, противогаз, гранаты, винтовку… Солдат нагружен, как вьючный мул. Они все могут, эти ноги. И по снегу и по болоту, в дождь и по сухой пыли, по камням и по кочкам. По дороге и бездорожью. Ты уже не можешь, а ноги несут тебя. Кому они повинуются? Чему-то, что вне тебя. Но как они могут повиноваться тому, что вне меня? Они как деревянные. Они глухие. Они как не мои. Могу я их пожалеть? Они сильнее тебя. Они исполняют твой долг. Ты должен идти, вот они и несут тебя. Идите, родные! Держите меня, у меня нет больше сил…
И они идут, медленно, трудно, топают, шагают, скользят, разъезжаются, держат, несут меня. И все, что на мне, что потребно для боя… Для войны.
Я бы памятник поставил солдатским ногам! После нашей победы. Крутящийся земной шар, и по нему шагают солдатские ноги в обмотках и ботинках или в кирзовых сапогах. Потому что на войне, на той войне, что была, самым тяжелым, пожалуй, был даже не бой, а вот такие марши без сна, без отдыха, без еды.
…Был у меня недавно Иван. Предложил ему погулять. Благо вечер майский теплый, тихий.
– Ходить? Не-е!.. Уволь! Я на войне на всю жизнь находился. Поставь мне спидометр промеж ног, так там такое бы накрутило… Ведь это только подумать… Не меньше чем полземного шара обошел! И все на своих ногах! Не могу я теперь ходить. Веришь, трех километров не пройду. И не то что здоровья нет, – психология не позволяет. Как вспомню, сколько и по каким дорогам прошел… Нет, думаю, баста, надо и совесть знать, пора их пожалеть. Я этих туристов не понимаю. Особенно тех, кто войну прошел. Ходят, да еще по горам лазят. Попался мне в Кисловодске один такой «весельчак»: то на Красное солнышко, то еще выше, на Седла, зовет. А я к Храму воздуха в шашлычную и то на такси ездил. Я и его брался усовещать: «Что твои ноги, перпетуум-мобиле какой-нибудь? Пожалей естество. У него тоже предел есть…»
…Ротная колонна растянулась, и никакие понукания не могли придать ей хотя бы какой-нибудь вид стройности. Взводы еще кое-как сохраняли членение, отделения перемешались, двигались группами, кто с кем хотел.
Дорога вилась вдоль лесной опушки. Подсвеченные февральским солнцем, чуть слышно дышали сосны. Раздувались ноздри, хватали этот едва приметный хвойный дух, перемешанный с пресной сыростью подтаявшего кое-где на пригреве в затишке снега. И до головокружения захотелось лета…
Мы мечтали о том, что будем делать после войны, сразу же в первые дни. После победы. Мне казалось, что это будет слепящий праздник. Всюду ликующий свет, то меркнущее, то разгорающееся золотистое сияние, счастье бьется, торжествует в каждом суставе, в каждом капилляре. А потом пусть была бы тишина. Такая тишина, чтобы слышно было, как опадают с веток отцветшие лепестки. И земля чтобы дышала теплом…
– Будем гулять! Месяц у меня, месяц у Витьки, месяц у тебя. Рязань, Кубань, Алтай!.. – сиплым, осевшим от внезапного волнения голосом говорил Иван.
– Я бы на пасеку пошел… – сказал Виктор. – На полгода… Ни книг, ни газет – ничего не надо. Чтобы клевер цвел… Или гречиха. И чтобы можно было слушать, как пчелы гудят с утра до вечера, и думать… Как дальше быть самому. Какой будет жизнь… После войны, по-моему, люди станут другими. Им, наверное, по-иному захочется жить, быть добрее, честнее, справедливее. После войны нельзя будет обидеть человека… Сколько ему вынести довелось за войну, человеку!.. И тот, кто посмеет обидеть женщину, дитя-сироту, старика, солдата-инвалида, – это преступник будет, ему нельзя среди людей…
– Это все верно! Это ты правильно говоришь, Виктор! – усердно поддержал Иван. – Но человек после войны должен прежде всего отдохнуть. Погулять. Чтобы столы прямо на улицах стояли и люди чтобы ходили от одного к другому, от дома к дому. И чтобы на горячих сковородках шипела колбаса, и пироги чтобы… а в графинах…
Разнузданное воображение подвело Ивана. Он внезапно замолчал, судорожно глотнул, схватился руками за живот:
– Не могу! У меня колики начинаются.
И оранул, страдальчески приседая:
– Есть хочу, понимаете, элементарно хочу жрать. Я не могу по двое суток.
– Все не можем… Все есть хотим, – нарочито уныло, размеренным голосом проговорил подошедший сзади Борис. По-прежнему шагал он легко и свободно, на нем блестели ремни, отсвечивали зеленоватые «кубари» на петлицах шинели, он даже ухитрился побриться. Где? Когда? Ведь, кажется, все время был с нами. Только вместо сапог надел валенки, да глаза запали. Круче обозначился подбородок. В ближайшей деревне он пообещал отдых…
Мы сворачивали с большака.
Навстречу под уклон с горки по неширокой, хорошо расчищенной дороге, повизгивая, неслись легкие санки. Вороной жеребец шел крупной и машистой рысью. Перед нашей медленно, нестройно бредущей колонной он, кося радужно отсвечивающим глазом, приседая, начал притормаживать.
На заднем сиденье некто в новеньком желтом полушубке обнимал и тискал двух взвизгивающих красных, распаренных, словно после бани, девок. Одна из них, уклоняясь, похохатывая, натягивала вожжи, придерживала коня. Полушубок, ухватив девок за шеи, привстал. Пьяные осевшие глазки с тупым, бессмысленным удивлением уставились на колонну.
– Кто такие? Мать-перемать, – бесстыдно и громко выругался он. И все с тем же бессмысленным наглым лицом, опираясь руками на девок, продолжал выкрикивать: – Осво-о-бодить дорогу! Я – майор! Живее, живее шеве-лись.
Перед ним молча, медленно расступились.
Легко приплясывая, шел конь.
– Разда-а-айсь, матушка-пехота, – разгульно хмельным, гулким на морозе голосом покрикивал майор. – Эй, соколики, мать вашу… По-сторонись!..
Майор гикнул, свистнул, горяча коня. Конь шел на нас. По приказанию Бориса мы втроем двигались в конце колонны. Чтобы не было отстающих.
Мы шли посредине дороги. Не сворачивая, не отступая. Никакая сила не могла бы сдвинуть нас.
Откормленный, лоснящийся жеребец, испуганно всхрапнув, круто выгибая шею, рванул в сторону. Санки занесло. Они, охнув, налетели на снежный гребень, круто накренились. Майор со своими девками едва не вылетел из санок.
Он одной рукой пытался перехватить вожжи, чтобы задержать коня, другой, обернувшись, грозил нам, кричал, что он сейчас всех… в бога… в душу…
Девки, уговаривая, тянули его за руки, конь рванул, понесся.
На Виктора страшно было смотреть.
– Таки-их… таки-их… – он задохнулся. Выкрикнул оскорбленным, страдающим высоким голосом: – Убивать надо. Из-за них и войну…
Я молчал. Я, казалось, не испытывал ни особой ярости, ни особого волнения. Словно все подавляло тупое чувство предельной усталости и жесткого равнодушия.
Но в ту минуту я подумал: счастье майора, что он не повернул назад… Через некоторое время я подумал невесело: «И наше счастье».
– Дался вам этот майор! – уныло бормотал Иван.
Отдых в деревне не состоялся. Все было занято тыловыми отделами штаба армии. Мы вновь двигались по зимней, высветленной луной дороге. Короткие тени отчетливо ложились на сизоватый снег, покачиваясь, стремились вперед.
– Что вам майор? – продолжал Иван. То ли несостоявшийся отдых томил его злой тоской, то ли по какой другой причине, но молчать, видимо, он не мог. – Это быт войны. Оказывается, и на войне можно жить. Я-то, дурак, думал, раз война, значит, все, как это в песне поется, под знаменем, в пороховом дыму. А тут тебе и водочка, и бабы, и жеребец как черт. Захотел, поехал, прокатился в саночках по зимней дороге. Так можно воевать…
Мы молчали. Тогда Иван обратился к нам с прямым вызовом:
– А вы что, майора осуждаете?.. Совершенно напрасно. Не имеете права. Сопливые, не нюхавшие пороха, студентики. Что вы можете сказать о человеке, который, может, хватил и горя и лиха… Ну, выпил, благо есть что пить, хорошие девочки рядом, просят покатать… Он что, преступление совершил?
– Не паясничай!.. Ты не скоморох, и нас забавлять не надо. – Виктор был сосредоточенно спокоен и угрюм. – Если ты хочешь знать мое мнение, я тебе скажу. Я считаю, нет отвлеченных понятий нравственности. Человек, не обладающий элементарным уважением к себе подобным, не человек, а животное и скотина. С майорскими знаками на петлицах или без них… Трезвый он или пьяный. Уточню. Человек, способный даже на время низвести себя до скотского состояния, всегда потенциальный подлец. Если речь идет о войне, потенциальный предатель!..
– Не пугай ты меня словами! – взвился Иван. – Не люблю я этого прекраснодушного чистоплюйства. Будто ты на луне жил… А на земле праведников маловато, их, может, и вовсе нет, если начистоту сказать… Хотя, кажется, некоторые претенденты шагают рядом, – попытался он съязвить. – Да неизвестно, состоятся ли они еще. Горки-то крутые, а по ним ходить. Войну будут выигрывать земные, грешные…
– Вот, вот… – вмешался я. – Ты ответь, если он, майор, был бы твоим командиром, ты не задумываясь пошел бы за ним?
– А почему нет? Из таких как раз и выходят лихие вояки. Этот своего нигде не упустит…
– Такие вот и губят понапрасну людей. Потому что им наплевать на них, – сказал Виктор. – Да и не будет он на фронте. Он будет родину защищать поближе к водке и салу.
– Хорошо, оставим майора. – Иван, звякнув котелком и лопаткой, резко повернулся к Виктору: – Окажись ты на его месте, неужели бы ты не выпил, не закусил? Неужто тебе не захотелось бы пощупать девочек… Ладно, ладно, выражусь деликатнее, нежнее: неужто тебе, здоровому двадцатилетнему парню, не захотелось бы вкусить сладкого плода? Благо он сам дается в руки…
– Ты же знаешь, я не выношу пошлости…
– А в чем пошлость, ты, гнусавый праведник? – Иван разъярился окончательно.
– Ну, ну, ты потише! – озлился и я, вступаясь за Виктора.
– Нет, не потише! Меня могут в любой день, в любой час, в любую минуту убить, прикончить, прирезать, как молодого петушка. Я все время на грани… У края. Вот хоть сейчас, налетят самолеты, луна, кругом чистое поле… Каюк нам!.. А я бабу ни разу не пробовал… И мне хочется завыть во весь голос, когда я об этом подумаю. Все, что я читал, смотрел в театрах, вся история человеческой культуры, которую мы худо ли, хорошо ли изучали, так убеждала, так соблазняла, так лукаво твердила, что обладание женщиной – одна из самых больших радостей, дарованных нам естеством. Я готов к этому… А меня бросают на голодную дорогу, на снег под пули, бомбы, снаряды. Не протестую. Война. Все понимаю. Долг, обязанность и прочее. Но есть ли у меня хотя бы обыкновенное человеческое право сказать о своем желании. Могу ли я при случае ухватить, что само в руки идет, без того, чтобы меня не заклевали ошалевшие праведники. Да и то сказать, брюхо, оно всегда свое берет, а на войне тем паче. Вы еще увидите, романтики недозрелые!
– Если бы мы воевали брюхом, ни один человек из нашей роты уже давно не шел бы по этой дороге, – сказал Виктор.
Он, казалось, был совершенно невозмутим и спокоен. Лишь на скулах зарозовела тонкая кожица. Да в глазах появился хорошо мне знакомый заносчивый огонек. Любил он порассуждать, поспорить!
– Ты можешь как угодно обзывать меня, но я не смог бы обжираться и лакать водку, зная, что вот по этой дороге идут сейчас голодные, уставшие до беспамятства люди. Меня бы вырвало. Я не могу лечь с женщиной, если она чужая, если она не моя, если она случайная. Я верю в любовь. Думаешь, потому что я фанатический праведник или романтик, как ты говоришь? Нет, потому что я реалист. Я хочу от жизни настоящей, полной радости. Случайные утехи, подмены, подделки мне не нужны. Они не дадут мне даже простого удовольствия.
Что же касается естества и брюха, то человек, – надеюсь, ты согласишься с этим, – состоит не из одной нижней половины, венчает его все-таки голова!
Виктор, по-мальчишески вздернув голову, победоносно посмотрел на Ивана.
– Ладно! Черт с тобой! Без праведников тоже было бы скучно. Должен же кто-то напоминать нам, что на земле могут существовать монахи и добровольное заточение в монастырь. – Иван засмеялся.
Уж его-то не могли убедить никакие аргументы. У него была своя «программа».
– Знаете, чего я сейчас больше всего хотел бы на свете, – он сладко прижмурился. – Сейчас бы в теплый дом. И в нем чтобы недавно вымытыми полами пахло. И стол с белой скатертью. И на нем самовар. И варенье, и пироги с этакой свежей корочкой. И чтобы занавески на окнах по-лебединому отдувались. И чтобы по комнате этакой павой похаживала сахарная, крупитчатая… В цветастом сарафанчике…
Кончится война, живой останусь, плевать я хотел на все интеллигентские радости и утехи! Мещанского счастья хочу, чтобы перина на кровати, чтобы самовар на столе…
У Ивана даже ямочки появились на щеках от блаженной хмельной улыбки…
Идти было все тяжелее. Мы ведь, кроме всего прочего, несли на себе разобранные 82-мм минометы: отдельно плита, труба, упорные ноги, прицел, и к ним боекомплект мин. Нагрузка увеличивалась на пятнадцать – двадцать килограммов.
Все чаще приходилось делать короткие привалы. И все труднее было вновь вставать, подниматься, двигаться. На этой дороге падали не только лошади. Застревали не только машины. Истощались и силы людей.
На одном из привалов Павел Возницын – четвертый номер моего расчета – отказался идти.
Он лег навзничь, не сняв со спины минометной плиты. Дышал хрипло, часто. Все мы несли ее по очереди. И все так же спиной запрокидывались в снег, плита уходила в него, тело выравнивалось, мягко и вроде не простудишься. А снимать да надевать попробуй-ка такую тяжесть!
Когда скомандовали движение, мы начали вяло, неохотно, недружно подниматься.
– Эх, мамочка, зачем ты меня мальчиком родила! – бормотнул сквозь стиснутые зубы Павел. Сколько раз он говорил эти слова. Они уже не вызывали даже улыбки.
Покряхтывая, он перевернулся на бок, опираясь на руку, попытался встать и обессиленно рухнул в снег.
– Не могу, – сказал он каким-то не своим, отрешенным, звонким голосом. – Не могу, и все.
Он глубоко передохнул, раскинул руки: что хотите, то и делайте. А я готов, и все. Но глаза страдающие, по-собачьи жалобные смотрели на меня.
Я кое-чему научился на этой дороге. Я уже знал, что жалость, даже малейшая капля сострадания, может отнять у человека на исходе последние силы. Она может погубить.
– Вста-ать! – сказал я с такой жестокой властностью, с таким бессердечием, что они изумили меня самого. Я как бы открывал в самом себе такого, какого не знал и не предполагал. Произошло то, что бывает в минуты предельных усилий: психика как бы раздваивается, один стремительно действует, другой же в тебе как будто даже замедленно, со стороны, наблюдает, фиксирует, может, даже осуждает и ничего не может поделать с тем действующим.
– Вста-а-ть! – повторил я и размеренно, холодно добавил: – Тебе же труднее будет догонять.
Я видел, у него еще были силы. Может, даже больше, чем у меня. Но он пожалел себя. И сразу обмяк. Ослаб, лег…
Я готов был на все. Я под дулом винтовки, а поднял бы его. Он должен был идти. У него были силы. Каменея, не отрываясь, не мигая, я смотрел на него с жестоким осуждением и презрением. Он мог еще идти!
И он, кажется, понял, что не будет ни пощады, ни участия. Как он вставал! Всхлипывая, скрипя зубами, приподнялся на четвереньки, уперся руками в колени, качнулся, медленно встал. Пошел, шатаясь как пьяный.
– Люди, люди… Разве вы люди, – бормотал он и плакал. Слезы стекали по щекам, стыли в щетинистой отросшей бороде. Плакал сорокалетний человек с запавшими седыми висками. Отец двух почти взрослых детей. Шутник и весельчак. Плакал от обиды и бессилия.
Я не понимал тогда, что между нами была разница в двадцать лет!
– Таким серу…м на теплой печке брюхо тешить, а не воевать, – с нескрываемым презрением сказал Кузьма Федоров. Он стоял чуть в стороне. Жесткое, осунувшееся, настороженное лицо. Пальцы перебирают ремень винтовки. Я только теперь увидел его и очевидную готовность по первому знаку прийти мне на помощь.
Удивительный он был человек, даже не во всем понятный мне!
Неказистый на вид, одно плечо ниже другого, сутулится, желтоватое нездоровое лицо, глаза так глубоко припрятаны, что даже цвета их сразу не разберешь; пройдет такой мимо в толпе, не заметишь. Да и профессия у него была неприметная, тихая: бухгалтер. И не на заводе где-нибудь или на крупной фабрике, а в пошивочном ателье.
– Среди баб, значится, все время, – пришепетывая, подмигнул ротный похабник и балагур Петров-Машкин – немолодой худенький черненький человек.
Кузьма как-то тяжело посмотрел на него, чуть приметная улыбка тронула его губы, он молча отвернулся и отошел, по-строевому печатая шаг.
– Сказ-и-ите… – ничуть не обескураженный, посмеиваясь, протянул Петров-Машкин.
Так началось их знакомство, началась их вражда.
Петров-Машкин, казалось, знал солдатские анекдоты всех времен и народов. Похабные рассказы, присловья сыпались, как зерно из разорванного мешка, – на стрельбище, во время перекура, в карауле. Я удивлялся, как его не тошнит от такого изобилия. Но он только улыбался своей затаенной приторной улыбочкой и сыпал, сыпал…
Любимой строевой песней его был знаменитый детский «Козлик», от которого остались только «рожки да ножки». Первые строчки были из «Козлика», а дальше двустишиями шла сплошная уныло-однообразная повторяющаяся матерщина.
Возвращаясь после короткой побывки из дому, после свидания с женой, он, сладко прижмуриваясь, охотно осведомлял всех желающих: «Ту-ува раз!»
Или повествовал более пространно: «При-сел, знаете, а бабы нет. Сто такое? Сговорено раньсе было, долзна быть дома. Приходит. Так, мол, и так, прости, сударик мой, в очереди задержалась. Забегала. То-се на стол… Не-е, говорю, брось, это потом… А я уже, значится, раздетый в кровати… Ну, и…»
Он довольно хлопал себя по ляжкам.
– Гнида ты вонючая, а не человек! – бормотнул Кузьма, как-то наскочивший на такой казарменный разговор. И не таясь плюнул.
Петров-Машкин только посмеивался, да все присматривался, да приглядывался к Кузьме с этакой остренькой, жалящей улыбочкой.
Жизнь наша шла с той размеренностью, с какой могла идти она в военное время. Мы ходили на учения в Сокольнический парк, несли по ночам караульную службу, по воскресеньям нас по очереди отпускали домой. Во время воздушных налетов объявлялись боевые тревоги. Но наш район почти не бомбили. И мы двигались по кругу: казарма, столовая, учения, караулы, казарма.
В столовую с учений ходили, как и положено, строем, с песнями. Запевал Кузьма. У него был приятный, хотя и не сильный, с легкой хрипотцой тенорок. Он любил песни и охотно пел, но обычно только в строю. Запоет, как бы ни устал, только попроси, но в казарме, на отдыхе петь не будет, словно нужен был ему этот взбадривающий, единый, припечатывающий шаг в ногу, этот согласный подхват, когда он, Кузьма, подчинял, вел внимание прохожих…
Жило в нем какое-то беспокойство, тревожно-напряженное желание выделиться, быть отмеченным. Не то чтобы он лез вперед, «на глаза» начальству, он умел быть незаметным, достойно отступить, как бы раствориться в общей массе. Но на стрельбище, во время военных занятий: окапывались ли мы, метали болванки гранат или кололи соломенные чучела, Кузьма с поражающей настойчивостью стремился быть среди самых сильных, среди самых умелых, среди самых ловких. Не всегда это ему удавалось. Он с каким-то судорожным смешком вновь и вновь метал гранаты, чтобы хотя на метр бросить ее дальше, или, разбегаясь, переносил через препятствие свое нескладное тело.
Как-то ему объявили благодарность перед строем. Я поразился его лицу, побледневшему до немоты, затаенному блеску глаз.
Неохотно вступал он и в разговоры. Мне казалось, от непомерной болезненной гордыни, которая боится не только насмешки, но и простой шутки, даже неловко сказанного слова. Может, именно от этого, от настороженной боязни подвергнуть себя малейшему унижению, малейшей обиде, он выполнял все приказы со стремительностью, точностью, поражавшей нас, склонных к вольнице студентов.
– Прямо фанатик какой-то, – не одобрил Иван.
К женатым на свидание приходили жены. Ко многим почти каждый день. Можно было мимо часового выскочить за ограду, постоять несколько минут, поговорить.
Жену Кузьмы я видел один только раз. Худенькая, остроносая, с большими черными удивленно-радостными глазами. Она принесла ему подписать какую-то бумажку. Кузьма был опасливо, стыдливо сдержан с женой. Казалось, что он старается прикрыть ее спиной, чтобы не видели любопытные со двора. На прощание он кивнул ей головой, тронул рукой за плечо и тут же отдернул, словно обожгло его. Я стоял на посту у калитки и видел, как вспыхнули его глаза, он весь как-то подобрался, натянулся и тут же быстро-быстро, словно стремясь утушить вспыхнувший порыв, ринулся через калитку во двор.
На ходу он скручивал папиросу, пальцы его непослушно вздрагивали, махорка просыпалась, Кузьма неловко, растерянно улыбался.








