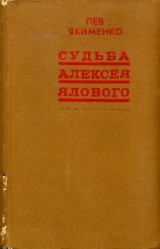
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
– Русские и немцы могли бы сотрудничать, – ответил Винклер и сам почувствовал, как нестерпимо фальшиво прозвучал его голос.
– Я понимаю, – без улыбки сказал Виктор, – в сложившейся ситуации вам затруднительно ответить точнее на этот вопрос. Тогда вы, может, вот о чем скажете… Мы выдвигаем идею исторической справедливости, идею равных возможностей и способностей, идею равенства и братства народов. Что вы об этом думаете?
– Это еще так далеко… – Винклер пошевелил пальцами, как бы пытаясь нащупать эту сомнительную даль.
– Не так далеко, как может показаться, – рубанул Виктор. – Доживем – увидим, какие чудеса произойдут в мире в результате этой войны. Вот вы увидите, вернетесь после войны в Германию, не узнаете своей родины.
Я поражался, откуда у Виктора бралась энергия, любопытство, ненасытность интереса. После этих дней похода, после боя.
Я понимал, Виктор стремился уловить в шелухе слов главную побудительную идею, понять ее философское и социальное обоснование, воссоздать систему.
Я же взглядывал на немца, и меня одно занимало в его ответах: то, что он говорил, несомненно было убеждением, но было ли оно таким убеждением, за которое можно на костер, на плаху, в застенки…
Или это как рябь на реке, подул ветер – есть она, перестал – и все вновь спокойно и гладко? Было ли это убеждение самим существованием или поведение Винклера всякий раз определялось подчиненностью обстоятельствам? Пройдет время, и он, – гляди-ка – если посчитает выгодным для себя, станет у нас в плену антифашистом!
Хотя вряд ли… – решал я.
Мне хотелось представить его мать, отца, братьев и сестер, если они есть, увидеть их всех за домашним столом, увидеть Винклера, когда он в коротких штанишках в первый раз пошел в школу, узнать, о чем разговаривали они, спорили, мечтали у ночных костров во время туристских походов…
Для себя я решил, что Винклер – фашист. Но как, почему ч е л о в е к становится фашистом, трудно, невозможно было для меня понять. И ответы Винклера мне не помогали в этом.
Я решил вмешаться в разговор. С трудом я сконструировал какой-то хитроумный вопрос, но тут меня неожиданно опередил Павлов.
Он все молчал, покуривал свою самокрутку. Приглядывался к Винклеру. С явным одобрением посматривал на Виктора. Из простой семьи, а смотри, как шпарит по-немецкому!.. Но и у него был вопрос, который он считал наиглавнейшим.
– Вы спросите его, товарищ командир, когда Гитлер капут? – Павлов, ткнув дымящейся самокруткой в направлении Винклера, даже привстал от внимания.
– Верите ли вы в победу Гитлера? – спросил Виктор.
Мы все спрашивали тогда пленных, верят ли они в победу Гитлера.
– Я бы хотел обратить ваше внимание только на один факт, – сказал Винклер, глядя куда-то в сторону, мимо Виктора. – Гитлер еще ни разу не ошибся в своих предположениях и расчетах. Мы вернули без крови Судетскую область, присоединили Австрию. Польша была разбита мгновенно, Франция покорена по расписанию. Ей помогала Англия. А вы согласитесь, что это самые крупные европейские державы.
– В России, видно, не получается по расписанию.
– Россия трудная страна.
На сумрачном, настороженном лице Винклера мелькнуло что-то похожее на улыбку. И нельзя было понять, что означала эта улыбка. Или простое признание факта, или уверенность в том, что, как бы трудно ни было, Россия разделит участь Польши и Франции. Хотелось бы вам этого или не хотелось.
Виктор поглядел, поглядел на немца, качнул головой. В построжавшей тишине спросил, с какого времени Винклер на Восточном фронте.
Винклер еще не закончил ответа, а Виктор начал медленно приподниматься, словно двигала им внезапно хлынувшая, неистовая, с трудом сдерживаемая сила…
– Выходит, вы участвовали… по крайней мере, могли… должны были участвовать в поджогах деревень, в угоне… в расправе над мирными жителями, – сказал он. – Что они вам?.. Это мой последний вопрос. Объясните, как можно убивать детей, сжигать дома с живыми людьми… Это как понять… Это можно по-человечески понять?.. Объясните вы нам, образованный немец!..
Виктор вцепился руками в край стола, пальцы его рук побелели. Мне показалось, он опрокинет стол и…
– Нет!.. Нет!.. – вскрикнул Винклер, тоже приподнимаясь и подаваясь вперед. Глаза его – бессмысленные голубоватые стекляшки – слепо уставились на Виктора. – Нет!.. Нет!.. – почти простонал он. – Это специальные части. Выделялись специальные части, которые соответствующим образом оснащались, их задача состояла в том, чтобы…
– Встать! – заорал Кузьма.
В избе стоял Борис Варавва. В заснеженной шапке с опущенными ушами, похожей на шлем, во всей пригнанной амуниции своей, словно Марс, грозный и непримиримый бог войны. Холодное бешенство металось в его глазах.
Подскочивший Винклер, едва увидев его, замер по стойке «смирно», отставив локти.
Твердо печатая шаг, Борис подошел к столу.
– Карту!
Едва мы разбросали на столе карту-двухверстку, он начал спрашивать Винклера:
– Где пушки? Сколько? Минометы?
– Ну! – грозно прикрикнул он на запнувшегося Винклера. И Винклер, склоняясь перед этой властной сокрушающей силой, длинным грязным ногтем начал показывать расположение боевых точек. «Известных мне», – сказал он, словно оправдываясь.
Минут через десять с Кузьмой Федоровым и донесением Борис отправил Винклера в штаб батальона.
– Кисель вы, а не вояки! – сказал он с жестоким презрением. И так же внезапно исчез, как и появился.
– He-неправ он, Борис, – сказал Виктор, даже запинаясь от волнения. – Ну, допустим, этот – фашист. А остальные как?.. А те, кто ошиблись… Ведь с такими придется строить новую Германию. Их понять надо. Нащупать дорогу к их чувству и разуму…
Разговор, который мог состояться в феврале 1942 года.
– Ты идеалист, Виктор. Ты веришь, что из фашиста можно сделать человека? И мы будем брататься с ним, жать ему руку, и он будет просто бывший солдат, обманутый Гитлером… Может, он даже будет проклинать Гитлера, этого проклятого Гитлера, который доставил столько страданий Германии. И никто ему не напомнит о войне и не спросит, что он, Винклер, сам делал в России? И он кругом и во всем будет прав? Он станет магистром, доктором и, может, даже профессором. И ты однажды встретишься с ним в Мюнхене или Дюссельдорфе. Или я не знаю, где еще. Он будет в визитке, в начищенных ботинках, воспитанный, сдержанный, учтивый. И он будет твой хозяин, а ты будешь его гостем. И вы должны будете поднять бокалы и выпить… За что ты с ним выпьешь, Виктор?.. И что ты ему скажешь?
– Эк, куда хватил! Тут не знаешь, что с тобой через пять минут случится, а ты вон куда! Об этом сейчас и подумать невозможно. Это немыслимо! Я их… Пока я живой… Пока у меня оружие в руках…
…Но, подумав, вот что я тебе скажу. Может, наверное, случится и такое. Я историк и хорошо знаю, что после войны и победители и побежденные садятся в конце концов за один стол. Но тогда, в те времена, о которых ты говоришь, и мир будет другим, и люди, наверное, изменятся.
Если бы я знал, что через двадцать лет я, а не Виктор, окажусь в Мюнхене, в том самом доме, где начинал Гитлер!.. Сначала кажется, что ты попал на переполненный вокзал: так шумно, многолюдно, накурено. Сизая пелена дыма, смешиваясь с влажным пивным духом, тяжело повисает в зале. На полу лужицы, выплескиваясь из кружек, пиво пятнает длинные столы. Посетители: одни в пальто, другие и пиджаки расстегнули, освободив круглые животики, постукивают большими кружками по грубым, крепким столам: «Prosit!»
Когда узнали, что мы русские, от ближайших столов потянулись к нам. Пятидесятилетний детина, распаренный, красный, с белой щетиной бровей, крикнул, растягивая в улыбке длинный красный рот: «Карошо!» И еще по-немецки, что у него осталась женщина в Минске. И, схватившись руками за голову, качнулся, показывая, как он скорбит об этом и как ему тяжело забыть ее.
Другой, с залысинами, сладко прижмуривая глазки, хмельным высоким голосом завопил из угла: «Матка, дай курка!» Щелкнул языком, захохотал, приветливо поднял кружку: «Ваше сдровье!»
Третий, в форме трамвайного кондуктора, тощий, с длинным носом, надрывался, стараясь привлечь к себе внимание и преодолеть шум: «Плен, плен, рус плен!»
– Давай, давай! – вдруг ошалело крикнул он и расплылся в улыбке, будто вспомнил что-то необычайно приятное.
Странно вели они себя! Как будто вспоминали туристскую поездку, которая была так давно, что многое уже и позабылось, а остались лишь обрывки воспоминаний, отдельные слова.
Время ли завершило давний спор? Или они стали другими, эти приветливые бюргеры, радующиеся тому, что они выжили, уцелели?
Или найдутся среди них и такие: дай ему в руки автомат, и он снова пойдет по русским деревням и уже всерьез нахолодавшим металлическим голосом пролает: «Матка! Млеко! Яйка!»
…Все не могу я забыть молодого парня в черном пуловере. Он в ресторане пил маленькими рюмками коньяк, оркестр наигрывал солдатские песенки, он подпевал, поднимал глаза в заснеженную оконную муть, и взгляд его долго блуждал в далеких пространствах. Что виделось ему там? О каких походах мечтал он?
Но тогда, в феврале 1942 года, я сказал Виктору:
– Ни черта не выйдет из твоего Винклера. Рот у него какой-то мокрый… И губы все время облизывал. Скотина он, по-моему. Такой убьет и не оглянется.
– Ох-хо-хо, – покряхтел Павлов по-стариковски раздумчиво, покачал головой. И непонятно было, на чьей он стороне.
– Я не об одном Винклере… – устало сказал Виктор. – Я вот о чем думаю. Низменные желания или побуждения уничтожают человека. Но если эти побуждения становятся официальной государственной политикой, что же происходит тогда с народом, нацией? Вот что я хочу понять…
– Все это муть, братцы! – Иван широко зевнул, потянулся. – Думай не думай, а знай одно: чуть оплошаешь, такой Винклер вмиг тебя на тот свет спровадит. Тут, знаешь, кто кого… Вот тебе и вся философия на войне… Эх, отоспаться бы…
Кажется, на третий день я увидел Винклера. Подтянув ноги, закрыв голову руками, он лежал в лощине, невдалеке от засыпанного снегом куста орешника. Уже без шинели и без сапог.
Кто повинен был в его смерти? Трудно было ответить на этот вопрос. Да и кого тогда занимали такие вопросы.
Минут через десять после того, как вышли они с Кузьмой, начался налет немецких бомбардировщиков. Скорее всего, Винклер испугался самолетов и побежал в кустарник. И тут его или свой же летчик подсек из пулемета, или Кузьма резанул из автомата.
СУДНЫЙ ДЕНЬ
Мне казалось, я только уснул, дежурил на наблюдательном пункте, сменился перед рассветом, снял побыстрее задубевшие валенки, забрался на печь чуть теплую, уже выстыла, а как ей удержать тепло – в окнах стекол целых почти нет, подушками, тряпками позатыкали, по избе ветер гуляет, – натянул шинель, печь поплыла, закружилась в сладкой освобождающей мгле, и тут что-то рвануло, толкнуло раз, другой, и я трудно, мучительно начал просыпаться.
Близкие, мгновенно следующие друг за другом разрывы встряхивали дом, скрипели бревна, из щелей в потолке – разошлись доски – сыпалась какая-то труха, в целых стеклах окон то с одной, то с другой стороны слепяще взблескивало, и содрогалась, стонала взметываемая вверх земля.
Не знаю, на что было похоже. Землетрясение – это совсем другое. Но в обвальном грохоте беспрерывных ударов и взрывов мгновениями казалось – сама земля колеблется, вздрагивает, проваливается, уходит из-под ног.
Я все никак не мог попасть в валенки. Притопывая правой ногой, шла туго, видимо, неловко намотал портянки, вслед за Иваном и Виктором выскочил на крыльцо и тут же упал, прижался к земле. Снаряд ударил неподалеку, во дворе, ослепительно мигнуло, с тяжким клекотом, вспарывая воздух, понеслись осколки. Обиженно заныли, тычась в снег, щелкая по дереву.
Все, что мы знали до этого, показалось нереально безобидным – подумаешь, взорвется одна-две мины или выпустят по деревне десяток снарядов. Теперь же воздух буравили, выпевая на разные голоса, сотни мин и снарядов, они рвались пачками, руша строения…
Невозможно было подняться. Снаряды и мины рвались в багровых отсветах, опережая друг друга. Волнами дробились, мешались пороховой дым, чадная гарь, белесый морозный туман.
Виктор первый вскочил и побежал, пригибаясь, к огневой.
Мы перескакивали через свежие дымящиеся воронки, обегали глубокие, зевающие широко распахнутыми глинистыми ртами, шарахались от близких разрывов. Но не ложились. Если бы еще раз легли, думаю, – не встали бы. Нас словно пригибал к земле воющий, злобно мечущийся ветер, бросал из стороны в сторону.
На огневой – ровная площадка между строениями – все перемешалось. Вывороченная земля, дымящиеся пятна воронок, перевернутые минометы.
Возле крайнего справа возились уже Кузьма Федоров и Павлов. Невдалеке – заряжающий Павел Возницын. При близких разрывах он приседал, втягивал голову в плечи, а мину, которую он приготовил, чтобы послать в трубу, зачем-то обеими руками, как ребенка, прижимал к груди.
– Труба целая? – крикнул я.
Кузьма кивнул головой. Приник к угломеру.
Откуда-то из мглы вынырнул Борис. В каске. Ремень туго натянут под подбородком. И тут я пожалел, что бросил где-то свою еще в первый день. Как-никак голова. «Всему начальник», – говаривал о ней Возницын.
Борис каким-то не своим, ненатурально высоким голосом прокричал, чтобы открыли заградительный огонь.
Кузьма сердито оттолкнул меня, когда я попытался проверить установку угломера.
– В порядке! – рыкнул он.
И я скомандовал огонь.
– Выстрел! – по всем правилам прокричал Возницын.
И тут снаряды и мины вновь обрушились на огневую.
Видимо, тяжелый снаряд ударил в стену сарая, вырвал огромное бревно, и оно с недобрым шелестом, словно занесенное чьей-то невидимой огромной рукой, обрушилось на Возницына. Оно свалило его на землю, поволокло по снегу.
Возле меня рванула мина. Я упал. Уткнулся лицом в дымно дохнувшую землю.
Приподнялся на локтях, увидел рядом Возницына. Прямо перед собой. Вместо головы – кровавое месиво…
У меня закружилась голова. И я тихонько начал отползать, переставляя левый локоть, а правой ладонью словно отгребался, отталкивался, и все дальше, дальше. Как оглушенный щенок.
И в моем сознании танцевали, повторялись с лихорадочной поспешностью наивные, глупые и смешные слова: «Зачем ты меня, мамочка, мальчиком родила… Зачем ты меня, мамочка, мальчиком родила…»
И это все, что оставалось от Павла Возницына?..
– Иван! Почему не стреляете? Огонь! Огонь! – услышал я сквозь треск, гул разрывов настойчивые выкрики Виктора и слабые хлопки миномета.
Я встал, шатнулся, но устоял на ногах, пошел на голос.
Шел прямо, не сгибаясь, не шарахаясь от разрывов, жарко шлепающих осколков. Будто завороженный. А вернее, мне казалось тогда, смерть найдет, если захочет, в любую минуту. Пусть же берет, если хочет, так ее перетак! И будь что будет! Пусть оно все будет проклято! И я шел и матерился в полный голос, на войне этому быстро обучаешься. Словно отбивался от всего, что было.
А во мне кто-то другой, сторонний, жестокий и равнодушный к тому, что мучило меня, утверждал с мрачной животной силой и уверенностью: «Ничего с тобой не будет. Двигай! Двигай! Не то еще вынесешь». Он жил во мне. Он торопил, этот властный, жестокий и веселый голос. Он, казалось, мог провести меня через все.
Виктор в дыму, словно прокопченный, с напряженным страдальческим лицом, выкрикивал команду, взмахивал рукой. Возле миномета лежал убитый наводчик из расчета Виктора. Его заменил Кузьма Федоров. У нашего миномета пробило трубу. Федоров стоял на одном колене. Старательно наводил на вешку.
И снова сверлящий вой, слепящий взблеск, разрыв и крик. Ошеломленный, резкий. И через мгновение – молчание. Мне показалось, я услышал голос Ивана. Я бросился тотчас к дому, возле которого должен был стоять его миномет.
В рассеивающейся сизой мгле я увидел Ивана. Он сидел на крыльце. Как будто присел на минутку отдохнуть. Отрешенный. Равнодушный ко всему, что творилось вокруг. Я подбежал ближе и увидел: бессильно сведенные плечи, голова зависла, подбородок уткнулся в грудь.
Меня словно толкнуло. Мгновенный колющий удар.
– Ты живой, жи-и-и-вой? – закричал я. – Что с тобой? Что-о?
Иван молчал. Почему он молчит? Может, его оглушило. Мне хотелось схватить его, затрясти.
Я наклонился к нему. Иван медленно поднял глаза. В расширившихся темных зрачках я увидел немое и покорное страдание. И еще что-то жалостливое, тоскливое, бессильно-одинокое. Как у той лошади на дороге, которая упала, пытаясь встать, выбивая передними ногами яму, и не могла…
– У меня… руки, – сказал он помертвевшим тусклым голосом, – кажется… руки оторвало…
И зябко повел плечами.
И только тут я увидел кровь на оборванных обгорелых рукавах его шинели…
Возле Ивана растерянно топтался длинный, сутулый боец из его расчета, Панюшкин, что ли, была его фамилия.
– У него ноги не идут, – сказал он. – Носилки бы…
– Чего же ты? – оранул я сгоряча. – Беги, ищи… Или плащ-палатку давай…
«Хотя какие тут, к черту, носилки? Пока найдет что-нибудь подходящее, убьет по дороге», – сообразил я, но Панюшкин уже исчез.
– Ничего, ничего, сейчас мы тебя вынесем, а там все будет в порядке, – твердил я, уговаривая, успокаивая Ивана. И еще что-то говорил. Главное, что он живой, – значит, все будет хорошо, еще все впереди, – дома, наверное, побываешь, потерпи, потерпи…
Я боялся взглянуть на его руки.
Лицо Ивана на моих глазах желтело, словно бы обескровливалось. Глаза подвело темным. Он даже не смотрел на меня. Нет, его надо было тащить немедленно.
– Викто-о-ор! – оборачиваясь, громко позвал я. Панюшкин все не возвращался, одному мне было не совладать с Иваном.
Несколько разрывов, мгновенно следующих друг за другом, снова заволокли все дымом. Сбоку из дымного морозного тумана выскочил Кузьма Федоров. Он тащил минометную трубу.
– Нет мин! – прокричал он. – Командир роты приказал выносить матчасть.
– Виктор! – звал я.
И тут неожиданно с другой стороны появился Виктор. Он взглянул на Ивана и, казалось, сразу все понял. А может, ему сказали. Знал уже.
Он мотнул мне головой, неловко взял Ивана под мышки, попытался приподнять… Я подхватил за ноги, на валенках расплывались свежие пятна крови.
Взрывной волной меня сбило с ног. Когда я вскочил – у меня шумело в ушах, тошненько кружилась голова, – Иван сидел уже на бревне, его поддерживал Виктор.
– Идите за санями, – ровно сказал Иван. Удивительно. Ни крика. Ни стона. И почему ноги отнялись? – Фельдшера найдите или носилки. Лучше сани. А то пока дотащите, кровью изойду. Или замерзну…
Мы поколебались, посовещались, медленно пошли, а потом я как будто отошел, проходила кружившая голову слабость, и мы побежали к тому сараю на пригорке, возле которого в первый день боя встретил я командира стрелковой роты Юркевича. Это был даже не сарай, а рига – потолка не было, только крыша.
В ригу набилось много людей. Очевидно, стены создавали обманчивое чувство защищенности. Но как только разрывы приближались к одной стороне, все шарахались в противоположную.
Тут собрались и те, кто не ушел из деревни, не побежал к реке, а выбрал место, где было сравнительно тише и откуда можно было встать на защиту занятых позиций. Но здесь были и те, кто не хотел в тот ад, который творился впереди, и кому надлежало быть там, чтобы спасать, облегчать страдания.
– Сейчас, сейчас, – твердил нам маленький рыженький фельдшер в больших очках. Он, замирая, прислушивался к свисту и вою летящих снарядов и мин. – Где-то возчик с санями… Мы его сейчас найдем…
Тут раздался тот хрипловатый шелестящий звук, который для опытного уха нес наибольшую опасность. Вместе с другими фельдшер метнулся в дальний конец. Взрыв потряс ригу. Все заволокло дымом. Мы потеряли фельдшера. Никак не могли найти его.
И тут я увидел Петрова-Машкина. Давнего знакомца. Весельчака и похабника. Он с кнутом метался по риге. Куда большинство – туда и он. Из одного угла в другой. Кнут намертво зажал в ладони.
Я вспомнил. Еще перед отправкой на фронт, ссылаясь на какие-то хвори, он ухитрился пристроиться в хозяйственный взвод. Возницей, что ли.
Он, казалось, не признал меня. Замотал головой:
– Ты что, сдурел! Ни за что не поеду… Ты что меня за грудки таскаешь! – завопил он вдруг во весь голос и рванулся.
Виктор сзади двинул его прикладом. Петров-Машкин едва устоял на ногах. Я поддержал его.
– Вы что это? Вы что-о… – светленькие глазки его ошалело взглядывали то на меня, то на Виктора.
– Вы чего? Смотри, смо-о-три, они до смертоубийства дойдут… А еще образованные… Студенты! – Он тыкал в нас кнутом, страх, укор и отчаяние звучали в его высоком плачущем голосе.
Он поднял его до крика, метнулся:
– Пусти-ите, мать вашу! Живоглоты! А-а-а!
Кое-кто оглянулся, придвинулся поближе.
– Чего там, иди, – сказал большой, грузный, с седой щетиной на морщинистом усталом лице, – ребята тебе по совести, правильно говорят…
Пришлось Петрову-Машкину выбраться из риги. Но он все же схитрил. Близкий разрыв разбросал нас. Пока мы «разглядывались», он отвязал мохнатую лошаденку, огрел ее кнутом, рухнул в сани, дрыгнули на крутом повороте обшитые кожей пятки его валенок, – голову он прятал в сено у передка, – и был таков. Вскачь понесся к реке.
Мы с Виктором побежали в деревню. Нырнули в бушующую, свистящую, взрывающуюся, дымящуюся пропасть. Для христиан и сама преисподняя не представлялась такой, какой была деревня в те минуты. Ревущие, клокочущие дымом и огнем валы прокатывались по деревне. Из конца в конец. Вдоль и поперек. Занялись пожары.
Ивана на месте не оказалось.
– Тут девчонки-санитарки его перевязали, Панюшкин их привел. И он с ними своим ходом пошел к реке, сказывали, у них там сани, – поведал нам Павлов. Мы неожиданно наткнулись на него. Он сидел подле поваленного миномета, мотал головой, стонал.
– Будто целый, а голова кругом и кровь из ушей… – пожаловался он.
Мучительно постанывая, он поднялся, но не ушел, стал помогать нам разбирать миномет. Надо было выполнять приказ командира роты: выносить оружие к реке.
А Петров-Машкин уцелел. Недавно я случайно повстречал его. Такой же шустренький, тощенький, лицо, Правда, в мелких морщинах, седые кустики бровей, все порывался рассказать солидным пенсионерам, забивающим «козла» во дворе, какую-то непристойную байку. Они не обращали на него внимания. Видно, привыкли.
Меня сначала не признал. Вглядывался по-стариковски, щуря тусклые глазки, и вдруг обрадованно хлопнул по плечу:
– Ах, етит твою! Это ты меня цуть было на тот свет не спровадил… Да я не злой, зла не помню…
И, цокая, пришепетывая, начал вспоминать, как туго ему пришлось тогда, потому что и за коня надобно отвечать, и он коника своего уберег и вместе с кнутом все сдал честь по чести, а сам по легкому ранению попал в госпиталь, а оттуда его уже не пустили на фронт. Теперь на пенсии.
– А тот из ваших, ну, дружок твой, сказывал, руки оторвало и ноги не шли, как он, там и остался? – спросил он, легко припоминая уже давние обстоятельства.
Я сказал, что у Ивана нет левой руки – протез, а правую спасли, он теперь доцент, читает в институте историю Востока.
– Скази какой целовек мог пропасть, – поцокал Петров-Машкин с почтительным удивлением.
…Два миномета у нас погибло, два мы вынесли да четыре целых, остававшиеся на реке, – мы вновь были готовы к бою.
Над деревней поднимались черные дымы пожаров. Горело по краям. Будто немцы нарочно зажгли для ориентировки. Артиллерийский и минометный огонь как будто поутих. Вернее, гитлеровцы чередовали беспокоящий и затем неожиданно обрушивали шквальный.
К стогам сена, очевидно, из большой деревни с церковью, занятой врагом, подъехали сани. Видимо, кружной дорогой. Ее отсюда, от реки, не было видно. Сани – темное движущееся пятно – показались неожиданно из лощины в морозной туманной дымке.
Я поймал их в артиллерийский бинокль. Явственно различались раз, два, три солдата в добротных русских полушубках, но в пилотках, обвязанных для тепла бабьими платками. Лошадь шла неторопливой трусцой. Передний что-то рассказывал, оборачиваясь назад, два его приятеля, они полулежали в розвальнях, мотали головами. Смеялись. Ехали как на прогулке, как ни в чем не бывало. Будто в километре от них не горела деревня, засыпаемая снарядами и минами.
Со второго раза я накрыл их из наших минометов. Одна мина ударила, по-видимому, в самые сани. Передний солдат сразу затих, уронив голову с передка, а другой, выброшенный на дорогу, пытался подняться и падал, третий побежал назад. Мины догнали и его. Взрыв поднял его, он, казалось, подпрыгнул, как перед препятствием, и, выгибаясь, рухнул в снег.
И я испытал мгновенное мстительное и злобное чувство. Пусть это будет вам за Ивана, за Павла Возницына!..
Борис тронул меня за плечо, кивнул головой: что-то похожее на усмешку мелькнуло в его твердых ястребиных глазах. Он стоял рядом. В снежной яме на пригорке, которую только условно можно было назвать наблюдательным пунктом. Отсюда я выкрикивал команду. Корректировал огонь. Виктор был возле минометов, внизу у берега на реке.
Вскоре мы обнаружили и ружейный гранатомет. Он вел огонь из какого-то углубления, невдалеке от нашей деревни. Как только мины начали рваться вблизи, два солдата побежали. Их срезал пулемет из крайней избы.
Нам приходилось экономить. Не хватало мин. Все обещали подвезти. Подкинут пяток ящиков, и все.
Но когда я заметил замаскированный возле пригорка пулемет, – видимо, выдвинули ночью, как следует не прикрыли, – я решил рискнуть, хотя у нас оставалось по три мины на ствол.
Бориса не было. Ушел. Сказал, к командиру батальона.
Во мне что-то взыграло. И я впервые за всю войну, потом больше это ни разу не повторилось, на какой-то волне мстительного азарта, увлечения прокричал: «По фашистским захватчика-а-м…»
И сразу же, словно вызванные моим голосом, над рекой загудели самолеты этих самых фашистских захватчиков. Вернее, я сначала услышал высокий звенящий голос Виктора снизу: «Возду-у-ух!», – а затем рев и самые самолеты. От минометов сыпанули в разные стороны хорошо видимые на белом снегу серые шинели. Я как был, так и присел в яме. Воинственный пыл сразу оставил меня. К самому горлу подкатывалось тошненькое, жалкое. А куда спрячешься в голом поле, сверху все как на ладони.
А самолеты кружились над нами, тыкаясь в разные стороны, отлетая и вновь возвращаясь. Как будто что-то искали. Они придавливали нас своим ревом.
Я не сразу сообразил. Они искали, по-видимому, артиллерийские батареи. Где-то за нами были установлены тяжелые 120-мм минометы, слева в редком березняке расположились полковые пушки. Отсюда от реки хорошо были видны их белые стволы, маскировочные сети. Но сверху их, очевидно, не видели. Четыре самолета отделились и начали бомбить метрах в двухстах от настоящих ложные позиции: поднятые вверх бревна на перекладинах. Получалось прямо как в газете. Я раньше мало этому верил. Как же, обманешь! А выходит, обманули!
Большая часть самолетов, натужно и обиженно гудя, словно сверх меры были они осеменены бомбами и гневались на то, что не освободились в срок, направились в наши тылы. Вскоре оттуда донеслись ухающие голоса бомбежки. Два «мессера», длинные и юркие, как осы, развернулись, ринулись вниз. Мне показалось, в оглушающем свисте падают прямо на меня. Ударили из пушек. Прощелкало, казалось, рядом. Только снег взвихривался. Ох и неуютно же было лежать вот так в чистом поле в маленькой снежной яме. А тебя расстреливают сверху. Маленького воробышка, спрятавшего голову между ног, в рыжей шапке, шинели, которые так отчетливо выделялись на ослепительно белом снегу.
Развернулись. Второй раз пронеслись. Уже над самой рекой. И в третий – над берегом. Надо мной. Прострочили в два следа.
Когда я попытался встать, ноги не держали. Трясутся, подгибаются, как у загнанной лошади. Я медленно отряхивался, ощупывал себя. Нет, самолеты – это все-таки страшно, черт бы их побрал! Я провожал их слезящимися ненавидящими глазами.
Долго после этого Виктор собирал наших минометчиков, вытаскивая их из всяческих щелок по берегу.
Пришел Борис. Принес приказ, который поначалу и понять-то было невозможно. На пять часов вечера назначена штыковая атака. Всем вооружиться винтовками со штыками. В атаку пойдем вместе со стрелковыми ротами. В сумерках скрытно сосредоточиться… Сигнал – красная и зеленая ракеты.
Борис приказал разыскать всех наших, собраться в деревне в тех домах, которые мы занимали, минометы разобрать и сложить в риге.
Виктор сказал, в прорезях подшлемника недобро напряглись глаза, изо рта струйки пара на морозе:
– Это штыковая атака – самоубийство… Всех положат…
Борис ответил, – мы стояли втроем в стороне, – делайте, что приказано.
И, переходя на лающую командирскую скороговорку:
– Всем объяснить! Проверить одежду, обувь, санитарные пакеты, чтобы во всех… И чтобы винтовки были со штыками! Ясно?!
Грозный, предостерегающий металл прозвучал в последних словах.
Началась «челночная» операция. Мы разбирали минометы, несли их к деревне. Складывали в риге. Возвращались назад по этому снежному полю, исковерканному воронками, с распластанными то тут, то там трупами убитых, – снежок припорошил их, и они виднелись холмиками.
Мы с Виктором держались друг подле друга. Как самолеты в воздухе, которые, словно связанные, прикрывают друг друга. Я испытывал к нему братскую нежность и доверие. Порознь мы были две одинокие пылинки в холодном враждебном мире, вместе, казалось, могли встретить и отразить грудью самое неожиданное.
Мы молчали. Да и о чем было говорить? Гнетущее напряжение не оставляло нас. Весь этот день мы были на краю. Приказ об атаке, казалось, приближал конец.
Виктор неожиданно остановился, с хрипом хватанул морозный воздух, выдохнул с мукой, страданием:
– Только бы он выжил! Только бы он не замерз на дороге…
Затряс головою, всхлипнул, заплакал, открыто, по-детски, не таясь.
И я не выдержал. Я плакал тогда в первый и последний раз на войне. Мы плакали об Иване, о его страшном ранении, о его тяжкой судьбе. Только теперь, в эти минуты затишья, когда мы вдвоем стояли на пустынном поле, мы в полной мере почувствовали зияющую горечь потери. Мы плакали обо всех, кто больше не встанет, не поднимется с этой промерзлой земли…
Мы прощались с наивной верой в уготованное человеку счастье, в радостную судьбу его, со всем тем, что мы называли справедливостью разума, со всем, что должно было быть в мире и чего не было в мире. По крайней мере на войне. Но раз была возможна война, значит, не было правды, добра на всей земле. Не она правила миром, не по ее законам жили люди.
Но мы-то твердо знали, как д о л ж н ы жить люди. И поэтому мы могли идти по этой дороге войны до самого конца, сквозь все, что уготовила нам судьба.








