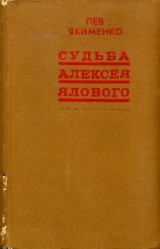
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
Виктор, оробел он, что ли, от неожиданности, вместо того чтобы уступить дорогу, позабыв о необходимости упорядочить свой туалет, начал было докладывать:
– Товарищ генерал!.. Минометная рота первого стрелкового…
– Мотню застегни, – прозаически посоветовал генерал и, обходя Виктора по снегу, вышел к нашим минометам.
Автоматчики, посмеиваясь, оживленно перешептываясь, потопали мимо сконфуженного Виктора за ним. Я, вытянувшись, стоял возле крайнего миномета.
– Достает? – спросил генерал и мотнул головой в сторону смутно темневшей на дальнем холме церкви.
Тут в сумеречном лунном свете разглядел я его поближе. Узкие лезвия глаз. Набрякшие, утомленные веки. Лицо морщинистое, с запавшими щеками. Скорбно-строгий изгиб рта.
Сказал:
– Плохо маскируетесь. Запасные позиции не годятся.
Приказал подбежавшему Борису переоборудовать.
– Вон, поближе к тем ветлам. Поднять высоту снежного вала. Для минометов выдолбить углубления в земле. Выкрасить минометы в белое, мел есть, можно получить на складе.
Поинтересовался, по каким целям ведем огонь. Какой режим обороны противника? Откуда ведут огонь по нашим минометам?..
Спросил о потерях. Как-то неожиданно, по-домашнему, горестно покряхтел:
– Многовато, сынок, а?..
Борис двинул плечами: война.
Генерал, глядя на Бориса своими узкими похолодевшими глазами, с очевидным раздражением сказал:
– Одни дураки все на войну спихивают. Ты как будто не из таких. Война – наука. Кроме всего прочего, наука и о том, как побеждать возможно меньшей кровью. Слыхал об этом?
Тут вмешался Виктор. Дерзко, мне показалось – даже с вызовом, он сказал:
– Видимо, многие слыхали, товарищ генерал. Теоретически. А вот практически что-то пока не видно…
На пятках, по-молодому генерал оборотился к нему:
– Кто таков? Откуда? Студент? МИФЛИ? Это что такое – МИФЛИ? (Генерал произносил это слово с ударением на первом слоге, подозреваю, не без умысла.)
– Теперь понятно. – Пошутил: – А то слов напридумывали, не поймешь: кобелей там причесывают, щетину палят или студентов обучают…
Посерьезнел, построжал:
– Стал быть, сколько же тебе лег надо было обучаться? Пять. А возле миномета ты за сколь управляться научился? За неделю?! – недоверчиво покачал головою. – Что-то скоро, даже по военному времени. Командир роты говорит – три месяца обучались, а практически уже в боях. Вот видишь. И вся дивизия у вас такая. Золотые люди. Добровольцы. Коммунисты, комсомольцы. А воевать не умели. И у командиров, по большей части из запаса, боевого опыта никакого. Вот, сынок, все и отлилось кровью… А с этой дивизией, – голос у генерала поднялся, зазвенел, – до самого Берлина дойти можно…
– Кресты бы взять, – хмуро заметил Виктор.
– Вот и я про то же, – согласился генерал.
И совсем другим, построжавшим командирским голосом наставительно добавил:
– Со старшими по-уставному разговаривать надобно. Хоть и мал срок, а обучиться пора бы. Тем более политрук роты. Говоришь дерзко, непочтительно, как будто не ты им, а они тебе подотчетны.
И, повернувшись к мордастому парню, адъютантом тот был, что ли, приказал:
– Запиши фамилию. При первой же возможности направим на курсы командиров. Обучится, ротой будет командовать, а то и батальоном. Из таких, бывает, добрые люди выходят.
На следующую ночь после посещения генерала взяли хуторок, лежащий справа от нас в лощине. Просто взяли. Даже удивительно. Артиллерийские разведчики понаблюдали за ними. В одну ночь, впереди наших минометов на склоне, обращенном к немцам, оборудовали огневые позиции, подвезли на лошадях, а затем на руках спустили две полковые пушки. На рассвете ударили по домикам прямой наводкой, да так удачно угадали, что наши стрелки, человек пятнадцать, без единого выстрела заняли хутор. А пушки в это время уже катили обратно.
Готовились к взятию Крестов.
Накануне намеченного решающего штурма, ночью, к нам пришел комиссар полка. Высокий, худое лицо, светлые холодноватые глаза. Его сопровождали автоматчики, он тоже был с автоматом, в маскировочном халате. Мы уже знали: он поведет полк в атаку. Поступил приказ из штаба армии взять Кресты во что бы то ни стало. Нам еще с вечера начали подвозить мины.
– Все, что есть, отдадим вам, – сказал комиссар.
Он называл нас по фамилиям, видимо, Калоян что-то такое рассказывал о нас. И он запомнил.
– Придавите их. Они по ходам сообщения во время артподготовки уходят в церковь, а потом возвращаются. Перекройте им ходы сообщения. Не дайте бегать сюда-туда. Артиллерия тут не поможет. Ваши минометы смогут… К орденам представим! – У комиссара дрогнули уголки губ. Что-то вроде улыбки получилось. Неловкой и словно бы извиняющейся. Он гладил рукой в перчатке ствол миномета и смотрел, нет, не туда, куда должен был уйти, а в глухую, подсвеченную сумеречным сиянием снега ночь, туда, где должна была быть Москва, родной дом… На мгновение в дрогнувшем лице его проглянули тревога, озабоченность, тоскливое, напряженное ожидание, в нем были надежда и прощание…
Он должен был сейчас вот уйти в ночь, собрать людей, через час-два повести их в атаку, «увлекая личным примером», в атаку, исход которой невозможно было предугадать. Бои шли уже около двух недель, и все не удавалось взять Кресты. И сколько лежало возле ледяного вала наших…
Комиссар больше ничего не сказал. Он ушел, растаял в ночи. И вслед за ним, как тени, автоматчики.
Атака началась утром. Среди дымчатых туч проглянул блеклый солнечный круг. Припоздали штурмовики, задержалась и атака. По приказу должны были атаковать на рассвете, сразу после налета наших самолетов. Комиссар дождался самолетов.
Едва они отбомбились, тяжелая артиллерия работала в глубь фашистской обороны, поднятая бомбами и снарядами дымно-серая мгла затянула немецкие позиции, и тут наши поднялись в атаку, впереди, в бинокль, угадал я комиссара, он карабкался по склону, и за ним – автоматчики, он повернулся, крикнул что-то назад, взмахивая автоматом, видимо, торопил, отставала стрелковая цепь, хорошо различимая, – все были в шинелях – автоматчики в белых халатах.
Мы, как и было приказано, повели огонь с началом атаки. Цели были давно пристреляны. Всем существом своим я чувствовал: мины ложатся куда надо, мы давили немцев, они не могли свободно передвигаться за валом, по ходам сообщений. Наши обходили церковь, мне показалось, вот-вот прорвутся в деревню. Только бы им зацепиться, засесть в домах… Перед цепью начали густо рваться снаряды и мины. Наши начали ложиться. Видимо, держали их пулеметы. Во фланг от горбика, возле церковной ограды, бил крупнокалиберный. Борис засек его. Он подготовил данные и двумя минометами попытался подавить его или, по крайней мере, ослепить. Остальные четыре посыпали мины за вал. Наши с правого фланга выдвинули два «максима» – они были укреплены на салазках, – на дульцах вспыхнули блеклые, едва видимые огоньки.
И ровно поднялась цепь, стрелки вновь пошли вперед.
Автоматчики были уже возле крайних изб…
И тут немцы с третьего залпа накрыли нашу огневую. Взрывы, сотрясая землю, следовали один за другим. Против нас работали тяжелые минометы и артиллерия.
Разнесло снежный завал, я приподнялся и увидел дымящиеся воронки, перевернутые минометы с правого края и Виктора; приподняв голову, взмахивая рукой, он выкрикивал: «Огонь! Огонь!» Три миномета, несмотря ни на что, продолжали стрелять. На огневой валялись убитые, кричали, отползая, раненые.
– Давай на огневую! – сказал Борис. – Если что, сам становись у миномета!
Я, пригибаясь, побежал к огневой. Но нашу цепочку, по которой передавалась команда во время налета, как ветром сдуло, не знаю, куда они подевались.
Я крикнул Борису:
– Переходи ближе! Ничего не будет слышно.
Я оказался почти посредине, между минометами и Борисом.
Борис со старого места, – он что же, не услышал меня? – прокричал новые данные. Я повторил их. Виктор отозвался на огневой.
Он уже навел там порядок. Тяжелораненых оттащили. Кто мог идти, уходил. Кто мог оставаться – оставались. Забелели свежие повязки на руках, на закопченных лицах. Он сам наводил.
Захлопали наши минометы. Мина шла за миной… Я вытянулся на носках. Маленькие фигурки поднимались с ослепительно белого снега на склонах холма, бежали, обтекая черные гроздья разрывов, они обходили церковь уже и слева, оставалось метров пятьдесят до ограды.
Раздался короткий режущий свист, глухой удар и, казалось, вместе с разрывом – крик от миномета. Вновь угодили на огневую.
Все покрыли разрывы. Я лежал, втягивая голову в плечи. Тяжелые удары с силой молота обрушивались на землю, рвали, поднимали ее, выпевали на разные голоса осколки. Разрывы раздавались то спереди, то сзади. То подходили, казалось, к самым ногам, то приближались к голове.
Едва поутихло, я встал и, пошатываясь, направился к минометам. Там, казалось, живого места не осталось. Зияющие раны глубоких воронок, земля, перемешанная со снегом, свежие пятна крови.
И последнее, что я успел увидеть. Недалеко от меня – Виктор, его тело, брошенное на черный снег, голова без шапки и строгое мальчишеское лицо с распахнутыми замершими глазами. Оглушающего воя того снаряда, который шел на меня, я не услышал…
Я очнулся от невыносимой боли. Прямо на меня шло низкое, сморщенное небо в черных провалах. На него противно и больно было смотреть.
Скрипели полозья. Я понял: сани. Впереди лениво подрагивали заиндевевшие крупы бегущих лошадей. Ко мне наклонился Павлов. Оказывается, старика тоже! Левая рука на перевязи, правой он натягивал на меня одеяло.
– Виктор как? – спросил я. И сам удивился, как трудно говорить и какой у меня слабый, жалкий голос. Словно во мне самом еще оставался кто-то другой, здоровый и сильный, и мог наблюдать и мог рассуждать. И не мог понять, что я уже не прежний, а слабый, беспомощный, осужденный на долгую дорогу.
– Ты вот что, ты молчи, – сказал Павлов. И дрогнувшим голосом, с неожиданной лаской: – Молчи, сынок… Тебе, того, не надо сейчас…
И отвернулся. Мне показалось, на глазах у него слезы.
Тут только вспомнил я все, что увидел в последнюю минуту.
Боль скручивала меня, рвала, выгибала. И мне хотелось одного – уйти как можно скорее от этого холодного мира, от этого низкого, сморщенного неба, от этих страданий. О самой смерти подумал я в ту минуту без страха и сожалений, как о желанном избавлении. Провалиться в темноту. И все…
Но боль не оставляла меня. Качало, подбрасывало сани на снежных переносах. Зыбкая мучительная волна держала меня на той грани, которая отделяет сознание от спасительного беспамятства, она поднимала меня и опускала, и не давала его, и мучила меня.
Я зажмурил глаза, сцепил зубы, чтобы не стонать, не кричать…
Зыбкую мутную мглу прорезает свист и шорох… И я увидел: над низкой темной землей взлетают лебеди в сияющем снежном оперении. Они вытягивают длинные гордые шеи и поднимаются все выше и выше. И трубят… Трубят так, словно прощаются навсегда, трубят так, что все тело выгибается в крике и рвется в безнадежном порыве подняться, встать…
Куда вы, белые лебеди?..
1960—1966
ЖЕРЕБЕНОК С КОЛОКОЛЬЧИКОМ
1
По дороге медленно катит подвода. Пожилой возница в мятой солдатской пилотке дремлет, ослабив вожжи. Лошади лениво мотают высоко подвязанными хвостами. Из-под копыт вылетают ошметки грязи. Под ветром хмурятся лужицы воды.
Пригревает набравшее высоту солнце. Дремотно дышат пустынные непаханые поля. Лишь кое-где поднялись щетинки яркой, по-молодому зеленой падалишной ржи. Мирных жителей давно выселили из фронтовой полосы. В уцелевших на пригорках среди лесов деревеньках укрылись полковые тылы.
За подводой рысит длинношеий жеребенок. Тормозит, скользя, разъезжаясь на высоких крепеньких ногах. Тихо звякает колокольчик. Под ботало приспособили патронную гильзу от противотанкового ружья. Гнедая кобыла обеспокоенно выворачивает голову, призывно ржет.
Жеребенок такой же гнедой, материнской масти, со светлой рыжинкой на лбу. Оседая на задние ноги, перемахивает через ров, выбирается на обочину. Когда-то вдоль дороги тянулась пешеходная тропа. Ветер подсушил ее, жеребенок наподдает, равняется с матерью. Косит на нее выпуклым влажноватым глазом. Его встречает обрадованное ржание.
Жеребенок мотает головой, успокоенно звякает колокольчиком в подтверждение того, что он рядом, что нет причин для беспокойства.
Задрав хвост, игриво срывается с места, опережает подводу. Колокольчик мотается, бьет, как на пожар.
Жеребенок резко останавливается. Вскидывает голову. Слышится тоненькое, затухающее: «…ди-и-инь!»
Он будто бы играет с колокольчиком. Припустит – колокольчик мотается, бьет, звенит. Приостановится – тишина. Качнет головой – и тотчас в ответ обрадованное: «динь-динь!»
Замрет, насторожит уши. Никого. Лишь жаворонки – свечой в высокое небо, радостные трели их – со всех сторон.
Шагнет – и вновь отрывистое, четкое: «ди-и-нь!»
Жеребенок задирает голову. Оттопыривает губу. Оскаливает молочно-белые зубы, словно пробует на вкус солнце и ветер. Тоненько, задиристо ржет.
Все-то ему внове. Все в первый раз. И высокое греющее солнце, и пустынные поля, и ветер, доносящий от леса горьковатое дыхание распускающихся деревьев.
Мгновенно вырастающий вой рвет прозрачную весеннюю тишину. Громовым ударом обрушивается на землю, вздымает ее вверх. Прямо перед жеребенком.
Жеребенок, прижав уши, шарахается от дымящейся воронки. Кобыла заржала. Возница, приподнявшийся на коленях, кнутом хлещет по крупам, пытается развернуть лошадей. Кобыла в мучительном оскале, вздрагивая от ударов, рвется вперед, к жеребенку. Зовет, приказывает вернуться.
Вновь вздыбившаяся земля закрывает от нее сына. Взрывы следуют один за другим. Между мгновенными вспышками огня мечется жеребенок. Тонкое испуганное ржание его как плач.
А в дымной мгле, среди взрывов, будто ничего не случилось, ужасающе-беспечное: «ди-и-нь! ди-и-нь!»
Возница в кровь рвет удилами лошадиные губы. Гнедая кобыла, мучительно вывернув голову, все кличет своего несмышленыша.
Жеребенок потерялся во мгле, в дыму, среди медленно опадающих черных фонтанов.
И лишь колокольчик оповещает, что он жив. Колотится, звякает. Будто в непроглядном утреннем тумане гонят лошадей с ночного. От реки, от росного луга. И продрогший жеребенок взбрыкивает, беспечно носится то взад, то вперед. «Динь, динь…»
Осатанелый вой очередного снаряда. С тяжким стоном взметывается вверх земля. И приглушенное, дальнее, торопливое: «ди-и-нь! динь!»
2
…Был ли он, этот жеребенок с колокольчиком, или ему только так кажется, ему привиделось, он сам придумал его. В тяжком полубреду, полусне. Во мгле. Он не может открыть глаза, раздвинуть веки – тяжелые набрякшие шторки. Глаза боятся режущего, слепящего света.
Со всех сторон подступает к нему боль. Нестерпимо колючая. Рвущая…
Его покачивает, будто на лодке, которая вот-вот отчалит от берега живых.
Надо остановиться, зацепиться, задержаться. Вспомнить то, что было, что происходило на самом деле. В том, что было жизнью. Твоей жизнью.
Странный все-таки звон. Мотается, плачет, зовет кого-то колокольчик. Жеребенок. Не надо. Его не надо вспоминать. В детстве у тебя был жеребенок – Хлопчик. Белоноздрый. Как он ударил тебя задними ногами. Прямо в подбородок. Снизу. Все поплыло… Зазвенело… Показалось, конец.
Вспоминай другое! Цепляйся за другое! Тропинка в лесу, испятнанная солнцем. Иди по ней. Иди тихонечко. Входи в тишину, в покой, в забвение.
Дятел на высокой меднотелой сосне. Долбит, колотит…
Лучше всего у моря. Пустынный песчаный берег. Солнце только поднялось, просвечивает зеленовато-спокойную воду до самого дна. Темные камешки на белом песке. Ты забредаешь в воду, ты забредаешь в воду, ты забредаешь в воду…
А ног своих ты не чувствуешь. Есть они у тебя, ноги, или нет. Как же, есть! Когда ты очнулся на операционном столе и услышал резкое, повелительное «пилу!», ты спросил, простонал: «Это мне… ногу будете… пилить?»
А в ответ – придушенные марлевой маской спокойно-ласковые слова: «С вами все, миленький. А вот с вашим соседом повозимся».
Кто сосед? Снайпер Беспрозваных, кряжистый немолодой сибиряк-охотник, что шел рядом, или автоматчик Федя Шевель…
Ты можешь о другом?! Другая жизнь у тебя была? Вспоминай то, что осталось за чертой…
За какой чертой?
Ну ее к чёрту, эту черту! Вот тебе и созвучие: черту́ – чёрту. Это называется, кажется, омонимами. Одинаковые по звучанию, разные по значению слова. Но в данном случае по звучанию – разные. Поставим-ка ударение. Как в стихе. Что такое стих? Стих есть ритмически организованная речь… «За всех расплачу́сь, за всех распла́чусь…» Не туда. Вернемся к ритму… Не только стих, но и проза обладает ритмом. Стих – стихия. Из хаоса рождается гармония. Искусство подчиняет стихию. Первозданнее хаос. Жизнь, возникнув из хаоса, ритмически ограничивает себя. Во времени и пространстве. Она требует мира и согласия. Мир – согласие. В этих словах мерное покачивание. Колыбельная напевность. Взрывается мир, нарушается согласие. Хаос вновь все поглощает. Бушует, все пожирая, стихия. Стихия войны…
Стоп! Красный свет. Слепящее красное мигание. Переход закрыт. Граждане, соблюдайте порядок. Переходите улицу в указанных местах. Идите только на зеленый свет.
Красный свет – свет боли! Страдания. Муки-и… Не кричи! Сожмись и не кричи. Терпи! До последнего. До забвения.
Зеленый свет. Зеленый чай. Зеленый клин. Говорят, на Дальнем Востоке есть такая земля. Туда устремлялись переселенцы с Украины. Татусь рассказывал – не край, а рай. Земля чуть ли не сама родит. На озерах, в реках, в тайге полно рыбы, птицы… Зверя не счесть. Даже тигры водятся, как в жарких странах.
Вот мы и поймали тигра-полосатика с желтыми глазами, с торчащими ушами. Усатую кошечку. Такую, что лапой ненароком заденет – и дух из тебя вон. Почему дух?! Дух – жизнь, дух – душа. Она отлетает, улетает, оставляет бренное тело. Говорят еще: «В чем только душа держится».
А в чем ей держаться, если ты сам не знаешь, где ты, на какой зыбкой грани, между тем, что ты есть и тебя уже нет. Куда тебя вынесет, куда унесет. Не лги. Не распускай слюни. Боль держит тебя, не выпускает, не отпускает. «Болит, значит, жить хочет, – сказал доктор-старик. – Живое кричит».
Приподнимите руку. Не можете? Пальцами пошевелите. Ничего, ничего… Попробуем правой… На этой руке кисть подвижна. Теперь ногу. Левую. Какой палец держу? Не можете определить. Ничего страшного. Подвигайте правой…
Только и осталось, что «подвигать» правой. Пластом на спине. Воды и то… Нянечку зови. Поильник в рот… Глотай.
Там-там-там-тара-тара-тара-там…
Все это хреновина!
Голова у тебя в порядке. Котелок варит. Солдаты это придумали, или давно сложилось: соображает человек, значит, «котелок варит». Как сопряглись эти понятия? Голову уподобили котелку, и тогда можно сказать, что варит. По принципу сходства. Или перенос по значению: варит – вар, пар, бульканье, мгла…
…Так нельзя. Так все время будешь проваливаться. Надо держать себя, надо удержать себя на грани.
Пока сознаю, пока живу. Древние говорили: «Dum spiro, spero». «Пока дышу – надеюсь». Сознание должно работать. Как машина. Мерно. Ритмично. Последовательно, логично, ясно.
Поставлена задача. Теперь проверим себя.
Представь, что ты на дороге, твердая дорога. Ты идешь по ней и чувствуешь, что под тобой земля. В бугорках и рытвинах.
Почему ты раньше не сознавал, какое это счастье встать и идти? И пальцами, пятками, босой подошвой чувствовать, что ты идешь. По твердой земле. Милой, теплой, бесконечно родной…
Вновь срыв. Провал. Двойка. Отдышимся. Ты недостаточно контролируешь сознание. В нем твоя надежда, сказал врач. У тебя ясная голова. Она должна логично мыслить. Логика есть обусловленная последовательность мышления. Но есть ли логика у памяти? По каким законам мы вспоминаем одно, другое? Память у тебя осталась. Я сейчас начну вспоминать. Она при тебе. Твой бездонный карман. Твоя надежда. Твоя отрада.
Живет моя отрада в высо-о-о-ком терему-у…
Заорать бы на всю госпитальную палату. С разгульным отчаянием.
А голос теперь у тебя тоненький, жалкенький. Няню и ту не позовешь, чтобы «утку» подала. Кто-нибудь из соседей поздоровее рыкнет, тогда услышит, принесет.
Живет моя отрада… Где живет «моя отрада»? Хорошее слово «отрада». В нем твердость дороги и ясность света. Тепла не хватает. Сострадания.
За что мне все это!..
Я больше не могу отбиваться!.. Боль наползает на меня из тьмы. Мохнатая, беспощадно жестокая… Она рвет меня; все тело – сплошная неостановимая боль.
Господи! Лучше бы сразу во тьму, во мглу, в провал. Уцепилась, душит.
Не могу больше. Не хо-о-чу больше…










