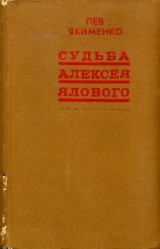
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 37 страниц)
Тут он засуетился, забегал, потом, рванувшись, замер на месте и вдруг, как будто сразу все решив, спокойным, размеренным шагом вышел из дома. Он выбрал позиции для двух расчетов противотанковых ружей, расположил их поближе к дороге.
– А чего танки… Что мы, танков не видали, – бормотал возле меня Павел Возницын. – Как это в гражданскую войну пели: «Они нас танками, а мы их санками…»
Вот уж вредный мужичонка! И тут не может… И откуда они берутся, эти супротивные люди. В каких щелоках они вывариваются, что потом только и знают, все высмеивают, во всем сомневаются, ни во что, кажется, не верят…
На политзанятиях от Павла Возницына не было спасения. Он поднимался – длинный, уныло вытянутое лицо, скрипучий, равнодушный голос – и начинал задавать вопрос за вопросом. И на каждом можно обжечься.
О причинах наших поражений в начале войны – это был по тогдашним временам самый легкий вопрос…
Возницын спрашивал: где наши танки? Самолеты? И почему лозунг «Воевать на чужой территории» не оправдался. Он так именно и говорил: «не оправдался». И об экономических ресурсах гитлеровской Германии… И о том, почему германский народ не восстает против фашистов…
– Возницын задает провокационные вопросы, – полувопросительно-полуутвердительно спрашивал у Виктора колючий человек в черном полушубке. Он назвался инструктором политотдела дивизии. Виктор проводил политзанятия в нашем взводе.
– Почему же провокационные, – ответил Виктор. Он весь подобрался. – Очевидно, у него возникают некоторые неясности, и он, не таясь, открыто об этом спрашивает.
– И вы на все отвечаете? – черный полушубок поощрительно улыбнулся.
– На те вопросы, на какие могу, отвечаю. О чем не знаю, говорю: не знаю.
– Не на все вопросы надо отвечать, – черный полушубок предостерегающе поднял палец. – Вопросы могут задаваться с определенными целями.
– Не знаю. Возницын производит впечатление прямого человека. Может, несколько желчного, неуравновешенного. Но если у него возникают вопросы, зачем их таить? Вот здесь командир отделения, он вам скажет…
И я поспешил подтвердить, что да, Возницын действительно желчный, может даже язвительный человек, бывают же такие люди по природе своей, но ничего враждебного я в нем не замечал, он не скрывает, не таит сомнений, солдат он хороший, исправный, дисциплинированный.
Как ни мало я разбирался в жизни, я почувствовал: может быть, сейчас решается судьба человека и я за него в ответе. Я готов был расхваливать Возницына, даже превозносить его, хотя он мне «насаливал» каждый день не меньше, чем Виктору на политзанятиях.
– Мы с ним побеседуем, – пообещал черный полушубок. – Но в боях советую присматривать за ним повнимательнее.
Не знаю, как Павел Возницын оказался в нашем доме. Он пришел не один, привел с собой еще четырех человек. Он покрикивал на них, и они признавали в нем своего командира. Он притащил откуда-то ящик с бутылками с зажигательной жидкостью. Взял сам, раздал своим товарищам…
Но на этот раз испытание не состоялось.
Насколько я теперь понимаю, немцы послали автоматчиков, запустили моторы – были это танки или тракторы, не знаю – в расчете на панику и смятение. Они предполагали, по-видимому, что необстрелянные солдаты, какими были большинство из нас, побегут из деревни. Но расчеты не оправдались, автоматчикам пришлось повернуть обратно, постепенно приутих артиллерийский и минометный огонь…
Медленно проходило оглушающее напряжение. Словно отпускала тебя властная, настороженная, чужая сила, сжимавшая все в комок, определявшая поступки и слова. И все словно становились сами собою. Хотя кто может сказать, когда мы такие как есть?..
Виктор первым увидел из окна Бориса. Тот шел от дома в низинке, где собрались такие же защитники, как и в нашем. Шел спокойно, неторопливо, словно осматривал деревню, словно и не было редких разрывов мин между домами, настойчивого татаканья немецкого пулемета – он все тянул цветную нить вдоль улицы. Виктор выскочил из дома, мы – за ним, бросился через дорогу к Борису, схватил его за руки, зачем-то потряс их, как будто не виделись они давно-давно, и, заглядывая ему в лицо повлажневшими глазами, начал рассказывать, сколько собралось нас в доме, и о пулемете, и о противотанковых ружьях, и о миномете, и о наших минометах, которые все еще оставались на реке.
Борис со своим неподвижным, словно бы застывшим лицом взглянул на нас раз, другой и в своей обычной манере, резко и отрывисто приказал: всем оставаться на месте, он идет в штаб батальона. Вернется и отдаст необходимые распоряжения. И пошел себе дальше, высоко поднимая ноги, обходя убитых.
И тут я, кажется впервые в своей жизни, почувствовал радость оттого, что есть тот, кто знает, что делать, кто будет приказывать и распоряжаться теперь нами.
Через некоторое время Борис, вновь так же высоко, по-журавлиному шагая, проследовал вдоль улицы, сначала к тому дому в низине, а затем повернул к нам.
– Всем вернуться в свои подразделения! – приказал он.
Нам не хотелось уходить из этого дома, потому что все мы были уже как побратимы и нам было больно расставаться со всеми, кто пришел к нам и стал рядом в трудную минуту. Виктор сказал, может, всех взять к нам и мы все вместе будем держать оборону на участке, который нам отвели.
– Это анархия! – жестко сказал Борис. И приказал идти за минометами, будем устанавливать их здесь, в деревне.
Потом мы устанавливали минометы за домами, заняли два дома, сравнительно целые, под жилье, выставили сторожевые охранения в низинке у ветел, произвели пристрелку минометов.
И только тогда мы услышали далекие безнадежные крики раненых. Они кричали оттуда, от пригорка с церковью, где сидели немцы.
Умоляли, плакали, замерзали на снегу…
Мы сказали: пойдем туда.
– Есть санитарная служба, – жестко и непреклонно ответил Борис. – У вас свое дело.
Мы подчинились. И этого подчинения я не могу себе простить до сих пор. Потому что всю ночь кричали и плакали раненые. У санитарной службы были одни сани. И многих ли они могли спасти?
И бесконечно было над нами зеленоватое вымороженное небо, и все так же кротко на нем сияли проклятые ясные звезды, и, как всегда сумрачно, улыбалась безглазая луна.
Мы забились в избу, спали не спали и всё слышали тех, кто так страшно у самых немецких позиций прощался с жизнью.
Так закончился наш первый день. День первого боя.
РОВЕСНИКИ
Хозяйственный Павлов полез в подпол с ведерком за картошкой. Минут через пять внизу что-то грохнуло и раздался какой-то странный визг – на одной все усиливающейся пронзительной ноте: «А-а-а…» Так иногда кричат во сне.
Все вскочили. Виктор маханул со стола какую-то немецкую книжку – изучал врага! – напружинившись, потянулся за винтовкой. Иван отбросил шинель с непришитой пуговицей, перекинул табуретку, неловко затоптался на месте. Я сдуру начал торопливо отстегивать гранату «эфку» от пояса… И лишь Кузьма Федоров, мигом что-то сообразив, хватанул трофейный автомат, прыгнул в открытый подпол.
Вскоре в проеме показалась белесая голова, слепые от страха глаза, заросшее рыжей щетиной длинное лицо с мясистыми губами, и наконец, судорожно напрягаясь, торопясь, словно его подталкивали снизу, выбралось длинное туловище в расстегнутой солдатской шинели.
Вот этого я не ожидал! В этой избе мы ютились вторые сутки, обжили ее, считали своей и вот – на тебе! – с нами, под нами все это время жил немецкий солдат. Враг, который совсем недавно стрелял отсюда по нас.
Мы настороженно уставились на немца. Он сделал несколько неуверенных шагов, ноги его в сапогах с короткими голенищами подгибались, он втягивал голову в плечи, как будто опасался, что вот сейчас грянет сзади выстрел.
Кузьма подтолкнул его дулом автомата поближе к свету. Солдат вскинул вверх правую руку с волосатым рыжим запястьем, словно подтверждая этим сдачу в плен, а левой на ходу, с мучительной неловкой улыбкой выхватил из верхнего кармана френча очки и надел их, облегченно подхватывая дужки пальцами уже обеих рук.
На посеревшем небритом лице его в бурых подтеках и грязных пятнах стекла очков взблеснули вдруг уверенно и холодно.
– Фу-ты, какой важный, – со смешком бормотнул Павлов. Он выбрался следом за немцем и Кузьмой. Ведро, полное картошки, он держал обеими руками, прижимая его зачем-то к животу. – Этот вражина, видно, до последнего стрелял, – словно оправдываясь, заторопился Павлов. – Друзьяки побежали, а он, вишь, не ушел, в подпол нырнул. И-их ты! Это же надо такое придумать: в картошке отсидеться. Я картошку покрупнее отбираю, вдруг: цап. Что за нечистая сила? Волос вроде человеческий, я тронул еще, он вроде шевельнулся. Тут я и подрастерялся… Откуда, думаю, человеку взяться…
– Гляжу, сидит перед ведром и выводит во весь голос, с собачьим подвывом. В углу куча картошки, а над нею одна голова, как в опере «Руслан и Людмила». Жу-у-ть, – дополнил Кузьма, не без ехидства подмигнув Павлову.
Пленный шагнул и вытянулся перед Виктором, которого, очевидно, принял за старшего.
Несколько секунд они смотрели друг на друга. Виктор пытливо, сурово, немец с неясной, как будто виноватой улыбкой. Он стоял напротив окна, которое выходило на дорогу. Нижние стекла были выбиты, дырку заткнули подушкой с вылезающими перьями, а верхние были ничего, чистые, подмороженные по краям.
Немец взглянул туда, за окно, шагнул, шатнулся как от удара…
Я не смотрел в окно. Я знал, что он там увидел. Прямо напротив окна, на подтаявшем бугорке, уткнувшись лицом в снег, вцепившись разбросанными руками в землю, лежал убитый. Виден был аккуратно подстриженный, уже припорошенный снегом затылок, беззаботный ветер то отдувал, то ронял полу френча, на заиндевевших подковках сапог кровенилось заходящее морозное солнце.
…Казалось, пленный сейчас не выдержит, – очевидно, сказывались дни, проведенные в темноте, в холоде, без еды. Кадык его ходил быстро, часто, словно он судорожно глотал что-то и никак не мог проглотить. Но вот он огромным усилием оторвал взгляд от окна, выпрямился, оглянул всех нас. Во взгляде его томилось ожесточение, вызов и что-то еще жалкое, загнанное, словно он увидел там, за окном, и свою неминуемую судьбу.
И тут Павлов неожиданно сказал рассудительным стариковским говорком:
– А его, пожалуй, и покормить не вредно. Первое, холодно там в подвале, а другое – с ним и поговорить надобно, расспросить, что он про войну, про Гитлера думает, а какой же разговор, если он, можно сказать, сколько времени не евши, не пивши…
И, никого не спрашивая, Павлов подтолкнул немца к столу, показал на скамейку: «Садись, камрад, садись!» Достал полбуханки хлеба, пододвинул чугунок с недоеденным студнем. Студень был немецкого производства. Мы нашли его тут же в чуланчике.
…Странно и неловко было смотреть на человека, который на твоих глазах вдруг неожиданно освободился от неотступно томившей мысли о скорой смерти. Словно, ему объявили помилование. Словно пропуск дали ему с того света, пустили в жизнь.
Немец сразу вдруг согрелся, порозовел, в глазах появился влажный голодный блеск, он ловко достал из-за голенища солдатскую ложку с вилкой, ел жадно, глотал не прожевывая, кусками. Долго пил воду из котелка, даже постанывал от удовлетворения.
Аккуратно вытер рот, кончики пальцев большим носовым платком.
– Из каких же он? – поинтересовался Павлов. Свертывая самокрутку, присел на скамейку недалеко от немца.
Кузьма прислонился к печи, поближе к двери, как будто оберегая выход.
И мы начали допрос. Если это можно было назвать допросом. Спрашивал Виктор. Он лучше нас знал язык.
Когда Гельмут Винклер, так звали пленного, назвал свой год рождения, мы переглянулись.
– Ровесники, – сказал Виктор. И в сузившихся глазах его вспыхнул сумрачный огонек пытливого, неуступчивого интереса. Он придвинулся так, чтобы немец оказался напротив.
Винклер, очевидно обеспокоенный этим движением, поспешно добавил, что отец его – служащий почты, старый социал-демократ. Сам Винклер, по его словам, до войны учился в университете на философском факультете.
На последовавший тут же вопрос Виктора ответил, что интересовался общей теорией искусства, точнее – проблемой национальности искусства в связи с историческими особенностями форм жизни, быта, характера.
Виктор прежде всего попросил уточнить, почему Винклер хотел заниматься изучением форм связи искусства с национальной жизнью и что он хотел выяснить в результате такого изучения.
Винклер, казалось удивленный неожиданным интересом к его университетскому прошлому, сначала пожал плечами, как будто начисто забыл то, чем жил прежде.
Подумав, он сказал, что прошел год, нет, больше – год и шесть месяцев, как он держал последний раз ученую книжку в руках (он сказал именно ученую, а не научную). После этого он только воевал… Ему казалось, пожалуй, он думает так и теперь, что характер искусства определяется, в конечном счете, как раз национальным духом, что самое проживание на определенной территории или языковая принадлежность, кажущаяся принадлежностью к нации по языку, уточнил Винклер, еще не гарантирует того, что этот писатель, художник является национальным.
– Например? – быстро спросил Виктор.
– Таким примером из германской литературы мог бы быть Гейне, – не задумываясь, ответил Винклер. – Гете никогда не был в состоянии писать порнографические произведения, а вот Гейне… Он, в сущности, развращал, разрушал немецкий дух…
«Чего он плетет насчет порнографии, развращения немецкого духа? – недоумевал про себя Иван. – В каждом доме, где они стояли, этих картинок и в чемоданах и на полу – горы. Это не зазорным у них считается или как? Спросить бы его об этом».
По всему видать, не плохо они здесь жили. Жрали по крайней мере вволю. Вот кур ощипанных мы нашли, яйца у них, окорока, колбасы и все прочее. И откуда все бралось? Народ грабили, сволочи, без зазрения совести. Это они любят, жить с удобствами. И умеют, надо отдать им должное. Даже на войне. Говорят, отпуска у них солдатам положены. Отвоевал срок, жив-здоров, валяй домой на побывку. Бардаки и то, говорят, позаводили для солдат. Вот бы спросить, есть у них бардаки или нет?..
Иван даже развеселился, представив, как бы вытянулась при этом вопросе морда у Винклера.
Виктора он не одобрял. Чего тут с политикой… С политикой и так все ясно. Дурак этот Винклер, что ли… Как же, скажет он тебе, что думает на самом деле.
Виктор, подавшись вперед, словно оппонент на каком-нибудь научном диспуте, напористо спрашивал:
– Чем же определяется этот национальный дух?
– Национальный дух определяется, – словно прилежный ученик отвечал Винклер, – всем содержанием национальной жизни. В нем выражается то, что отложилось как опыт поколений, вековой опыт данной нации. Он в крови, в чувствах, в сознании. Это то, что объединяет, что принадлежит только данной нации, ее прошлому и ее настоящему, это то, что определяет, в конечном счете, и ее будущее…
Он даже повеселел, этот Винклер! Видимо, его вполне устраивало, что разговор принял такой отвлеченный, как бы чисто теоретический характер.
…Чем больше Винклер присматривался к солдатам, пленившим его, тем спокойнее становился. Жизнь вся из загадок и чудес! Она, кажется, дарила ему нежданное избавление.
В сущности, он оказался приговоренным уже тогда, когда начался этот бой. Русские шли прямо на пулеметы. Это было безумием: они с низины выкатывались прямо на гребень, метрах в двухстах от изб, пристрелянный, прикрытый из разных точек многослойным пулеметным огнем.
Какая сила выталкивала их из речной низины? Безжалостный приказ или добровольное ослепление? Только одержимые, только фанатики были способны на это.
Одни пытались ползти, прорывая в снегу траншейки, прикрываясь жалкими саперными лопатками. Другие вскакивали, чтобы, петляя, ринуться вперед.
Его напарник Вилли едва успевал подносить и перезаряжать ленты. К стволу нельзя было прикоснуться, так он накалился.
Винклер давал им подняться и затем коротким огненным росчерком укладывал на стылую землю. Выкрики, стоны, ругательства, всхлипывания раненых, кружащий голову запах сгоревшего пороха и просачивающийся снаружи острый душок свежей крови возбуждали его до немого яростного ожесточения.
Пулемет был установлен в прирубе. В толстых сосновых бревнах прорезали бойницу – и дот готов. По крайней мере Винклер чувствовал себя здесь, как в доте. «До тех пор, пока они не ударят из пушек прямой наводкой», – мрачно заметил Вилли. Но Вилли всегда был пессимистом. Как все юмористы. Похоже, что у русских пушек не было. У тех, которые атаковали их деревню. Лишь к рассвету начали стрелять их минометы. Но вреда особого они не приносили. Правда, они поднимали султаны снега, перемешанного с землей, затрудняя прицельный огонь.
Непонятно, как им удалось просочиться, прорваться в деревню.
То тут, то там начали раздаваться глухие взрывы гранат. Внезапно умолк пулемет, установленный прямо в избе.
– Они обошли нас! – крикнул Вилли. И выскочил из глухого темного прируба.
Когда замешкавшийся Винклер (вытаскивал замок из пулемета) выскочил за ним, уже было поздно. Через распахнутую дверь он увидел выбегающих из-за сарая с винтовками наперевес тех, в серых шинелях. Он метнулся в избу. Там никого не было. Ни Кранца, ни Шмидта. Это они предали их с Вилли! Бежали, бросили! Вместо того чтобы с фланга отсечь русских…
Под окнами раздались резкие винтовочные хлопки. «Вилли?» Он не хотел этому верить и почти был уверен, что это стреляли по Вилли. И он заметался по избе, почти убежденный, что и ему сейчас конец. И тут он вспомнил о подполе. Он нырнул в спасительную темную глубину, забился, зарылся в картошку…
Эти томительные часы в подполе равны были целой жизни. Сначала он опасался, что его тут же откроют, найдут… Над его головой оглушительно топали, ходили, разговаривали русские солдаты. Эти уверенные хозяйские шаги давили, глушили его, лишали надежды. В иные минуты он испытывал к ним удушающее чувство ненависти. О, если бы ему снова в руки оружие! Он бы выставил из подпола пулемет, он бы… Он задыхался от безнадежной, не находящей выхода ярости.
В такие минуты он вспоминал почему-то горящие факелы, праздничные флаги и фюрера на балконе старой ратуши. Они, школьники, стояли недалеко от балкона, и он хорошо видел фюрера. Впервые в своей жизни. Он поразился тому, как преображалось это лицо с низким лбом, удлиненным носом, глубоко сидящими глазами. Эти глаза, казалось, мгновенно расширялись, они притягивали, мистическая сила их подчиняла тысячи, десятки тысяч замерших в послушных рядах на площади.
Он не помнил, о чем тогда говорил Гитлер, но навсегда, казалось, в самой крови осталось чувство хмельного величия, необыкновенных перемен, которые ожидали Германию и каждого из них, ее сыновей.
– Крысолов из Гаммельна созывает своей дудочкой детей, – мрачно заметил отец на его рассказ и, шаркая туфлями, пошел в спальню.
Он тогда не придал этим словам никакого значения. Отец ему казался человеком из другого века. Он даже позволял иногда снисходительно посмеиваться над социал-демократическим прошлым своего Vater’а. Оно казалось ему нереально далеким, из тех времен, когда ездили в каретах, женщины носили широкие юбки с фижмами, подкованные башмаки и цветастые чепчики.
Воспоминания не утешали в этом безнадежном заточении, в этом одиночестве. Они сами становились дополнительным источником страданий.
Почему-то чаще других ему вспоминалось происшествие, случившееся с ним в этой же деревушке месяца полтора назад, когда в ней еще были жители. Потом их выселили.
Вилли, давний друг, еще со школьных лет, это было счастьем, что и на войне они были вместе, пригласил его принять участие в дружеской пирушке.
– Будут хорошенькие девочки! Хватит на всех, – сказал Вилли невозмутимо, как будто речь шла о самом обычном после двух месяцев беспрерывных боев. Вилли умел устраивать маленькие праздники!
Винклер шел по зимней деревенской улице, поскрипывая начищенными сапогами. В чистом свежем белье, в отглаженном мундире, выбритый, надушенный, припудренный, он чувствовал себя действительно по-праздничному, легко и весело. Избы зияли черными провалами окон, света нигде не было. В мертвенном с фиолетовой дымкой сиянии месяца все казалось призрачным, заброшенным, вымершим. И лишь клубящиеся белесые столбы, встающие прямо над трубами, говорили о жизни, о присутствии людей.
Ему показалось, он на самом краю мира. Там дальше – бесконечная снежная пустыня, безжалостные ледяные ветры.
И он испытал мгновенное кружащее голову чувство, которое редко посещало его в этой стране. Подобное тому, что испытал он в первые часы в Париже. Чувство безраздельной власти. Чувство победителя, вставшего над миром.
И тут же, казалось без всякой связи, он подумал о том, что ожидало его у Вилли. И какие там будут девочки. И где только Вилли ухитрился раздобыть хорошеньких? Он, даже застонав от томящих предчувствий, припустил прямо рысцой.
Что задержало его? Что привлекло внимание? Что толкнуло его к покосившейся черной избенке? Мигнувший огонек, обнаженная женская рука, она мелькнула в окне, торопливо поправляя отошедшую плотную занавеску.
Упругим неслышным шагом по желтеющей узкой тропке он прошел в глубину двора, прямо к крыльцу, почему-то задерживая дыхание, нажал на скобу входной двери, в сенцах на него неприятно пахнуло свежим навозом, он поморщился – как они могли жить рядом со скотом! – и, уже не таясь, рванул дверь в избу.
Он увидел сразу стол в углу, покрытый белой вязаной скатертью, чадящую плошку возле икон и девушку, удивленно повернувшуюся на стук. Она расчесывала волосы. Длинные мокрые пряди закрывали ей уши, щеки.
Наверное, после бани. Сегодня ведь суббота. Русские всегда моются по субботам. Он также сообразил, что родители ее, должно быть, сейчас в бане и она одна в доме.
Ему бросились в глаза обнаженные призывно-белые коленки – ноги ее были сунуты в старые разношенные валенки, – острые груди торчком. Легкое короткое платьице, казалось, было накинуто прямо на голое тело.
Он подходил к ней все ближе, почему-то расставив руки, словно готов был поймать, схватить ее, если она попытается бежать к двери.
Она прижалась к столу и замершими глазами смотрела на него. Чем ближе он подходил, тем отчетливее видел, что перед ним совсем молоденькая девчушка, лег шестнадцати, не больше, с острым носиком и припухшими губами.
– Mädchen, Mädchen, – выдохнул он звенящим, напряженным голосом.
Он схватил ее за рванувшуюся назад талию, попытался приподнять, но она, отклоняясь, вдруг дико закричала, сжатым кулаком ударила его что было сил в лицо, и еще раз, и коленкой со всего размаха в пах.
Его словно отбросило назад, приседая от боли, не помня себя от ярости, он рванул пистолет и раз за разом выстрелил в белое, заметавшееся перед ним лицо с распущенными волосами.
Он выскочил из дома, ртом жадно хватанул режущий морозный воздух, постоял, прислушиваясь. Было по-прежнему тихо. Лишь сухо потрескивали намороженные ветки на дереве. Он пошел было по дорожке. Но внезапно что-то решив, повернул к дому. В пристройке он набрал сухого сена. В избе, возле стола, мучительно выгибаясь, всхлипывала и хрипела девушка. Кровь дымилась на чисто выскобленном полу.
Винклер подложил сено под дрова у печи, зажег его, подождал, пока разгорелось, и затем вышел из дома. Выбравшись на наезженную дорогу, он еще раз посмотрел на избу. В одном из окон мигнул кровяной отсвет. Не оглядываясь, он пошел к тому дому, где его ждали Вилли и девочки.
«Война есть война, – пытался утешить он себя, вспоминая это нелепое происшествие. – Мы приучились без промедления пускать в ход оружие. А может, она партизанка? Кто ее знает. Каждый русский может быть партизаном».
Но гнетущее, прямо какое-то мистическое чувство неизбежного возмездия не оставляло его в этом подвале, в этой дыре.
К жестоким предчувствиям прибавились вскоре мучения холода, а затем и всевластные судороги голода.
Это было какое-то нереальное существование, как в бреду, между жизнью и смертью. Он несколько раз порывался выйти, но всякий раз крохотная надежда на возможную контратаку останавливала и согревала его…
И как неожиданно все повернулось!
Поначалу, когда этот у печи (холодеющей спиной, беззащитным затылком Винклер все время чувствовал его настороженную враждебность), когда этот вытолкал его из подвала, несколько раз больно ткнув дулом автомата, Винклер решил, что это все. С поспешной готовностью он назвал бы в эти минуты все части, обороняющие рубежи (он был уверен, русские и так их знают), вооружение, он готов был даже указать некоторые артиллерийские и минометные батареи. Лишь бы не свершилось то страшное, непоправимое. Он перенес там, в преисподней, в мрачной сырой тьме такие муки, что только жизнь могла искупить их.
Но их не интересовали воинские части, номера, вооружение. Или они делали поначалу вид, что это их не интересует.
Их заинтересовало его университетское прошлое… Русские действительно сентиментальны! Видимо, у них есть слепое преклонение перед образованием. О, тогда перед ним открывалась надежда.
«…Сосунки! – думал Кузьма, с ревнивым настороженным чувством приглядываясь к тому, как повели себя студенты с пленным, – он так и назвал их про себя «студенты», до сих пор не мог примириться с тем, что их назначили командирами расчетов и он должен был подчиняться им. – Развели мармелад! Кушайте это, да не хотите ли того, да, может, попьете… А теперь в политику ударились, еще, гляди, до какого-нибудь Гегеля доберутся. Разговор должен быть короткий! Чего с ним рассусоливать. По морде видно, что шкода. Натворил он тут, на нашей земле. Небось он бы с нами не так разговаривал…»
Кузьма распалялся все больше и больше. Наконец не выдержал и высоким, рвущимся голосом крикнул Виктору:
– Что ты его привораживаешь? Да спроси ты его, какой он части, где огневые точки, ну и прочее…
У Винклера тотчас напрягся затылок. Мгновенно он втянул голову в плечи. Он больше всего опасался, нет, он просто боялся этого, с нездоровым желтоватым лицом. Каким-то подсознательным, необычайно обостренным чувством он чуял, что эти за столом не могут убить его, пленного, а тот мог пристрелить и убил бы не задумываясь, потому что видел в нем, Винклере, только врага и не хотел ничего больше видеть, знать и понимать.
В какую-то минуту промедления ему, очевидно, готовили новый вопрос, Винклер подумал, а как бы он повел себя, окажись на их месте. Он испытал мгновенное, кружащее голову чувство превосходства и не захотел додумывать свое поведение. В его положении это было бы чистым безумием, он просто знал, что действовал бы куда более решительно и властно, он даже позволил себе слегка поиронизировать: «Вряд ли бы меня заинтересовали их эстетические концепции. Или их размышления об исторической роли нации…»
…– По-вашему, нация едина? Всегда? Во все исторические периоды? – спрашивал Виктор.
– Нация – единый организм в смысле своей ответственности перед историей.
– Тогда я спрошу вас, существуют ли социальные противоречия в современной Германии? – Виктор переходил в наступление.
И Винклер это почувствовал. Он не опасался поражения в споре, он готов был заранее уступить этим русским: они ведь прирожденные диалектики, он боялся западни, боялся сказать нечто такое, что позволило бы решительно вмешаться в диспут и тому непримиримому, настороженному у печи с автоматом.
Он все время шел как бы по краю пропасти, он хотел показать и значительность своих убеждений и одновременно не говорить ничего такого, что могло бы возмутить их или оскорбить. Но эта игра, где ценой была жизнь, отбирала слишком много сил…
По временам он как бы переставал понимать, где он, что с ним. Он словно проваливался в мгновенную темноту забвения. И тогда ему не хотелось напрягать ни свою память, ни воображение ради того, чтобы извернуться, чтобы уцелеть. Ему не хотелось двигаться. Дышать не хотелось. Казалось, достаточно маленького, ничтожного усилия, и он замрет. В спасительном покое. И все уйдет от него. И он будет как Вилли на дороге…
И тут первородные силы жизни вставали на дыбы. Они бунтовали. Они возвращали ему настороженность, цепкое внимание. Чего, собственно, хочет от него этот с грубым крестьянским лицом и неожиданно отличным берлинским произношением? Уж не разведчик ли он? Но как он оказался тут, на передовой… Винклер решил уклониться от ответа на его последний вопрос.
– Я не политик и не социолог. Мне трудно ответить на ваш вопрос.
– Вы говорили о единстве нации. Но в Германии есть Крупп и Винклер. Насколько я понимаю, у вас нет заводов, фабрик, охотничьих замков, земельных угодий? Как же может быть единой нация, если она разделена, если экономическое неравенство лежит в основе ее социальной и политической структуры?
– Наши руководители считают, что Германия не может больше развиваться в своих старых границах. Она перенаселена, – осторожно сказал Винклер.
– Это вы совсем о другом, – Виктор победительно вскинул голову. – Я вас о другом спрашивал. И все же могу дать совет: заберите землю у юнкеров, заводы у концернов – и вам станет свободнее в Германии.
Винклер по-простецки развел руками: дескать, и рад бы… Улыбнулся.
– Хочу задать еще вопрос. Считаете ли вы, что существуют только национальные интересы, что в основе политики лежит национальный эгоизм и тогда, по-видимому, объединение наций невозможно и человечество обречено на бесконечные и изнурительные войны? Или возможен другой путь? Я обращаюсь к вам лично, меня интересует ваше мнение.
– Мне трудно вам что-либо определенное ответить. Я специально не размышлял над этими вопросами. Но мне кажется, надо учитывать, есть сильные и слабые нации. И есть особая ответственность сильного…
– Вы считаете нас, русских, слабой нацией? Или, если взять более широко, всех славян?
Винклер молча уставился в верхнюю доску стола. От напряжения у него порозовели уши.
Что сказать им?.. Во время войны он побывал во Франции, Голландии, Бельгии, Чехословакии… Пожил в Париже. И после этого оказался в России. Три месяца в стране – и ни разу не попал в большой город. Ему сначала показалось, что его отбросило на тысячу лет назад, что он попал в не тронутую цивилизацией древнюю Русь. Ту Русь, какой она была еще до норманнского завоевания. Заметенные снегом деревни с приземистыми домишками, кладбища на окраинах с покосившимися от ветхости черными крестами. Хмурая глушь нетронутых лесов. Первобытно-дикая Азия! И если начистоту… Он презирал русских, их неустроенную жизнь, их жалкие дома, которые так расточительно неудобно были построены из дерева, их бани, которые ютились на задах поближе к реке (эти деревенские жители, видимо, даже не подозревали, что такое водопровод, канализация!).








