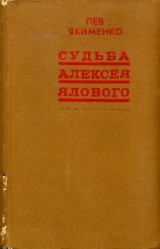
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 37 страниц)
Загорелся танк с подбитой гусеницей. Повалили черные клубы, потом вспыхнуло чистое яркое пламя…
Кто поджег его? Кто в сумятице и неразберихе боя сумел подобраться к танку, зажечь его?.. Кто-то из артиллеристов? Или бронебойщики из второй роты? Не забудем тебя, найдем, разыщем, милый ты мой человек!
Немцы, скрываясь за деревьями, подходили все ближе. Уже хорошо различались их фигуры.
Огонь двух оставшихся минометов – их подтащили поближе к командному пункту, остальные разбило прямыми попаданиями – мало мешал им. Их держали пулеметы. Немцы укрывались за деревьями, захватывали широким полукругом.
Каким-то чудом пробрался на командный пункт связной от Морозова – чумазый солдатик с винтовкой, которая казалась больше его самого. Свалился в окопчик, как с луны. Приплясывая от возбуждения, блестя смышлеными глазами, докладывал, что рота ворвалась в немецкие окопы в том лесочке, за холмами. Там блиндажи с настоящими окопами, захватили четырех офицеров, больше десятка пленных, там же медпункт – в землянке раненые. Автоматчики Шевеля как шарахнули с тыла, по пути они разгромили немецкую минометную батарею, тоже пригнали пленных. Теперь пьют шнапс и закусывают консервами – называются норвежские сардины.
Фыркающий удар, мгновенный взрыв – танковый снаряд – метнул его на землю. Он приподнялся на руках, огляделся и, кажется, только теперь уразумел, почему так угрюмо-сумрачен комбат.
– От-к-куда же они тут, н-немцы? – спросил он, заикаясь.
Беспрозваных ободряюще похлопал молоденького солдата по плечу, повел винтовкой с оптическим прицелом…
Слева от Ялового безостановочно бил ручной пулемет. Яловой видел прямой нос, глаз в напряженном прищуре, пулеметчик Коршунов – тот веселый донской казачок, который так свободно рассуждал о любви, – менял уже третий диск. За ним, пригибаясь в узкой щели, старший адъютант вместе с двумя пожилыми солдатами – их, кажется, недавно из ездовых определили в стрелки – связывали телефонным проводом гранаты.
Яловой шатнулся, горячим ветерком опалило висок, автоматная очередь прошла рядом, немцы накапливались у высотки, обтекали ее. Раненые стонали в глубокой яме от огромного выкорчеванного пня, кто мог – уходил по свободной пока еще тропе в тыл, среди стреляющих забелели свежие бинты и повязки – многие, несмотря на ранения, оставались в бою.
Яловой прикинул: не больше двадцати человек. Всеми кончиками нервов, всей кожей, внезапно захолодевшей вдоль позвоночника, он почувствовал, что сейчас может помочь только одно. Немедленная контратака. Ошеломить, сбить немцев. В надежде, что и Говоров со своей ротой догадается помочь.
Расчет, риск, случайность… Не было времени для размышлений и выбора. Только действие. Ни перед чем не останавливающаяся воля.
Быстро отобрал автоматчиков – человек шесть, – приказал во главе со старшим адъютантом оттянуться назад и ударить немцам от просеки во фланг.
– Открывайте огонь немедленно! Оттягивайте их на себя!
Старший адъютант дрогнул, мясистые щеки поползли вниз, просящие жалкие глаза, но, увидев взгляд Ялового – жесткий, непреклонный: попробуй возрази, пристрелит тут же, – пополз за солдатами.
Веснушчатому фельдшеру в очках Яловой приказал поставить в окоп тех, кто мог держать оружие. Передвинул всех на правый фланг.
– Приготовиться!
И – вверх на бруствер, под огонь. Вот что было самым трудным. Выбросить свое тело. Распрямиться в полный рост.
Тотчас автомат в бок – и вперед. Гукающие удары, вскрики раненых…
Случилось так, что в ту же минуту и немцы пошли на приступ. Сошлись почти вплотную.
Метрах в десяти из-за кустов выскочил на Ялового длинный сутулый немец, он что-то замешкался со своим автоматом, зацепился ремешком, что ли. В ту же секунду Яловой, припадая плечом к сосне, резанул его короткой очередью. Немец, поворачиваясь, как в медленном танце, хватал руками воздух.
Щепа полетела от ствола сосны. По Яловому ударил кто-то из-за березы, метров с двух. Яловой успел заметить глубоко надвинутую на голову пилотку, огонек, дрожавший на конце темного дульца, и тотчас увидел поднятый вверх приклад винтовки, он, казалось, медленно, как при замедленной съемке в кино, опускался на пилотку – страшной силы удар обрушил Беспрозваных на голову немецкого автоматчика. И тот, откинув в сторону оружие, хватаясь руками за березу, начал медленно оседать на землю…
Даже много лет спустя Яловой не мог восстановить всю последовательность дальнейшего. Хрипы, стоны, удары, короткие очереди…
Лишь потом разъяснилось, почему побежали немцы. Подошли наши танки. От горелой поляны ударила рота Говорова. И самого Говорова увидел Яловой, когда выскочил с группкой солдат – они неотступно шли за ним, ломились на открытое место к догоравшему, чадно дымившему немецкому танку. Метрах в пяти позади него, выкинув вперед правую руку, отвернув жестко-закаменевшее лицо, лежал Говоров, учитель истории.
Так вот кто поджег танк! Яловой не знал ни имени его, ни отчества, ни из каких он мест. Просто старшина Говоров – вот что он знал о нем. Не было времени похоронить его как следует. А похоронная команда, когда станет подбирать убитых, свозить их в общую могилу, – разве будет знать она, кого грузят на похоронные дроги. Какого человека хоронят! Что совершил он в этом бою!
…Яловой вновь помнил себя уже в том лесочке с глубокими ходами сообщения, с прочными блиндажами.
Старший адъютант со ссадиной на щеке, казалось, помолодевший после решительного броска своего с автоматчиками, покрикивал на неизвестно откуда появившихся писарей. Штаб полка запрашивал потери… По проселку, мимо холмов, сюда, к новому командному пункту батальона, двигались подводы – подтягивались тылы. Яловой видел с бруствера эти подводы, растянувшиеся по проселку, перед ним открывалась равнина с деревней на возвышенности. Туда предстояло наносить дальнейший удар.
Яловой дышал часто, освобожденно. Расстегнул гимнастерку. Ладонью вытирал пот. Еще не закончился день, а казалось, прожито несколько жизней. Все было: и леденящий, мгновенно схватывающий страх, и радостная мужественная решимость, и слепое кружащее ожесточение, и стерегущий глазок смерти.
– Товарищ капитан! Товарищ капитан!
Из хода сообщения ему кивал Федя Шевель. Довольный донельзя, глаза в дымке, протягивал Яловому немецкую фляжку с отвинченной пробкой, в другой руке держал раскрытую плоскую банку консервов с цветной наклейкой…
И эта наклейка была последним, что успел увидеть Яловой. В той своей прежней жизни.
Немцы обрушили на свои старые позиции огонь артиллерийского полка.
Ни взрыва, ни удара, ни боли, – ничего он поначалу не почувствовал.
Очнулся в окопе, прижат к стенке. Кто-то хрипит у самой груди. Кровавые всхлипы. Он придавлен к стенке.
Первое, что Яловой увидел: сосны на пригорке. Высокие, воткнувшиеся в небо. Они начали клониться, ломаться, изгибаться гармошкой. Низкое сморщенное небо поплыло на него, придавливало, теснило дыхание…
И тут неожиданный для него самого, изумленный и горестный крик из самых глубин сознания:
– Не так! Совсем не так!
Будто кто в кем самом еще пока не утратил способности чувствовать, размышлять, видеть и понимать то, что происходило с ним. Сознание в эти мгновения жило еще своей прежней жизнью. И это была отдельная жизнь, потому что тело его, прижатое к стенке окопа, было оглушено, неподвижно.
В нем звучал еще голос здорового человека, который мог все фиксировать и оценивать:
– Совсем не так!
Потому что именно в эти мгновения по странному капризу памяти и воображения ему вспомнилось знаменитое описание того, как Андрей Болконский, тяжело раненный, лежит на поле боя и видит высокое голубое небо и размышляет о славе, о жизни и смерти. И все писали об этом месте и внушали, и он сам убедил себя в том, что это одно из самых верных и прекрасных мест во всем романе.
Но теперь, когда перед его глазами наклонялись, ломались, морщились сосны и потемневшее небо, гребенчатое, как каменный каток, надвигалось на него, он с болезненной яркостью и отчетливостью ощутил фальшь этого описания.
Пока еще он мог сравнивать и понимать. Он теперь, как показалось ему, знал, что Толстой никогда не лежал вот так, срезанный пулей или снарядом, не знал, что́ это, а значит, и не мог написать про это.
Толстой не мог знать, что это такое, когда тебя начинает когтить боль, глаза сами собой судорожно смыкаются и ты начинаешь звать, кричать: «Санитара! Санитара!», и сам со стороны слышишь свой противненький слабый голос, и сам над собой издеваешься: «Ишь ты, жить захотел». Потому что ты еще можешь судить себя своим, пока еще здоровым сознанием.
И вновь слышал свои вскрики: «Санитара! Санитара!» И удивлялся, до чего у него слабый жалкий голос, и с ожесточением про себя: «Он не имел права, не должен был писать о том, чего не знает!»
Кто-то хрипел, дергался у него возле груди. Яловой слышал глухие всхлипы. И повторял слабеющим голосом:
– Санитара! Санитара!
Голова его бессильно зависла, и он увидел у своей груди окровавленную массу вместо лица и темный провал рта, его сводила судорожная зевота…
Ялового вытащили из окопа. Поволокли на плащ-палатке. Вновь начался обстрел. Разрывы подходили все ближе. Его бросили. Он один лежал среди разрывов на дымящемся поле. Санитары укрылись в воронках.
Утихал обстрел, они выбрались из своих укрытий, поволокли его. И вновь бросили…
Глаза его сводила мучительная судорога. Все затягивало дымной пеленой.
Пришел в себя в лесу. Просветы между деревьями. Торопливые женские голоса. Догадался: в санитарную роту, на полковой пункт попал.
– Давай ножницы! Осторожнее режь… Неужели его и в живот… Сколько крови. Товарищ капитан, куда вас? Не знаете? Сейчас разберемся.
И тут в него вкогтилась боль. Побежала по всему телу. Он впервые после ранения ощутил оглушенное тело свое, оно взвивалось, кричало. И оно было неподвластно ему, он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Все неподвижность и все боль.
Вот где-то коснулись рукой – ожгло, опалило.
– Осторожнее! – попросил, собирая все силы, всю выдержку. Не будет кричать. Не застонет. Сожмется весь… – Больно.
– Сейчас, миленький, сейчас.
Он не мог развести век. Он слышал ломкие голоса. Они шли издали. Они шли из тумана.
– Кто это? Кого? И сдавленный крик:
– Он! Капитан… Яловой… Куда, куда его?
– Клавка, отойди! Шприц, быстрее!
Что-то долго суетились они возле него. Из того, о чем переговаривались, понял, что залило всего кровью. Своей и чужой. Не сразу разобрались, где раны и какие.
Почему-то озаботились его вещмешком. Зачем он ему? Посылали куда-то ординарца.
Клава крикнула:
– Да вы что! Не видите, какой он… Отправляйте сейчас же!
Грузили на подводу. Устраивались рядом другие раненые, те, кто мог передвигаться сам.
Клава пошла за подводой, держась за боковую доску. Заплакала в голос, отстала.
Что это она? Глупая девочка. У тебя еще все…
Лошади с трудом тащили подводу. Переваливалась с кочки на кочку, подпрыгивала, стучала по обнаженным корням. Трясло, мотало на неровностях.
– Быстрее… – сказал Яловой.
Тьма подступала к нему. По временам глохло сознание. Скорее бы медсанбат. Там где-то мерещились добрые человеческие руки, которые спасут, облегчат.
Не выдержит он этой медленной тряской дороги со стонами, вздохами, матерщиной раненых. Не хватит сил.
Возница почмокал, подергал вожжами. Сутулая его спина начала подрагивать, лошади затрусили рысцой.
Проворчал:
– Спеши не спеши, теперь все… Отвоевался!
Отвоевался, отошел… В иной мир… «Летите, в звезды врезываясь».
Какие, к черту, звезды! Тут все острое, все ранит.
Боль держала, не отпускала. Нырнуть бы, уйти во тьму. В забвение. Казалось бы, небольшое усилие. И все. Конец.
Но забвения не было. Жизнь держала болью. Слабый колеблющийся огонек сознания не глох. Он возвращал его в этот мир. Не давал уходить. Боль наседала со всех сторон. Давила, рвала…
Его сняли с подводы. Подняли на носилках. Сбоку большая серая палатка. Медсанбат, что ли?..
– Яловой! Яловой!
Голос со стоном. С выкриком.
В вечерних сумерках кто-то громоздкий в ремнях наклонился над ним. Яловой с трудом угадал полковника – начальника политотдела дивизии. Крупное лицо его морщилось, дрожало перед глазами Ялового.
– Как же ты? – вздрагивающий голос. С такой человеческой тоской. – Что же ты?..
Как будто Яловой был виноват в том, что с ним случилось.
Попытался пошутить. Хотел сказать, что, мол, вот и получил предписание… Отправляется теперь на попутном транспорте.
Пошевелил губами.
– Скорее, – только и сказал.
Обессиленно смежил глаза. Мукой ему показалось это нависшее над ним расплывающееся лицо с обесцвеченными глазными провалами.
Полковник махнул рукой:
– Несите!
Колебание носилок. Мерный шаг. Покачивание. Попасть бы в этот ритм. И уплыть, уйти. Только не кричать! Не сметь!
Санитар, тот, что шел сзади, у ног, сказал:
– Да вы стоните, товарищ капитан! Легче будет, мы знаем.
Кажется, молодой парень. Из дивизионного ансамбля. Выступали как-то в полку. Танцор он, что ли. Теперь, значит, в санитарах.
Простонал. Не выдержал. Сорвался.
Ободряющий голос:
– Вот, вот… Громче. Полегче станет.
Пронесли в операционную. Звезды колюче помигивали на низком небе. Надсадно тарахтел движок. Влажноватый ветер отдувал тяжелый брезентовый вход. Оттуда яркая полоска света. Голоса.
Вплыл на операционный стол во мгле, в гуле, сотрясающем все его тело.
– Свежих пломб нету?
Профессиональное, равнодушное:
– Недавно пломбировали.
И тотчас дрогнувший голос, от головы:
– Да это же… знакомый! Я ему зубы плобмировала, месяца два назад.
Значит, и эта докторша, зубной врач, помогала теперь при операциях.
Повелительное, властное:
– Маску! Дышите глубже. Считайте!
– Раз, два, три…
– Громче! Отчетливее!
Наползал желтый туман. Желтый с зеленцой. Обволакивал, окутывал, баюкал.
– …двадцать пять, двадцать шесть…
Тихо начал валиться в бездонное, невесомое. И с великим облегчением, со вздохом:
– Вот и все!.. Ну и хорошо… Не страшно… Умирать…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Медленное, медленное возвращение. По кругам. С тяжелым звоном.
И вновь тот же хрипловатый, распорядительный женский голос:
– Пилу!
– Мне… будете… пилить? – задавленно спросил. Хватило сил. Знал уже, что ранен в шею и в ногу.
Вроде даже сквозь усмешку:
– С вами все, голубчик! За вашего соседа примемся.
Деловое, трезвое бормотание:
– Здоровенный дядя, этот снайпер… Держите покрепче.
«Беспрозваных, – подумал Яловой. – Так вот куда его…»
Сняли со стола. Понесли.
И в эти минуты, пока его снимали с операционного стола, несли и боль подавленно ныла в его обессиленном теле, он вновь подумал о том, как легко было провалиться в желтовато-зеленый туман, в беззвучную пропасть… Остаться бы там! И все! Для тебя все бы кончилось. Легкая смерть в награду человеку.
13
Еле-еле растолкали, никак не мог проснуться. Слабый огонек керосиновой лампы, смеющееся лицо двоюродной сестры Паши – она натягивала на него штанишки, рубашку. У Алеши слипались веки, он валился на бок. Паша подхватила его, тормошила. Втолкнула ноги в сапоги, шапку – на голову: «Готов казак!»
С порога открылось необыкновенное небо: светловатое по краям, темно-зеленое вверху, все в звездах. Но это было совсем другое, не летнее привычное небо. Словно праздничная кутерьма сдвинула звездные миры с насиженных мест, по-новому раскидала по небу.
Еле приметно дымился Млечный Путь; летом он сразу бросался в глаза: сиял, дышал, манил в степь с древними могилами, звал в дальнюю казацкую дорогу. Малый Воз, который, бывало, не сразу и найдешь, откатился к самому краю, повис над горой, дышлом упираясь в царственно-неприступную Северную звезду. Маленькая звездочка выглядывала из-за заснеженной шапки казацкой могилы, помигивала, будто сигналы подавала кому-то в селе. Большой Воз забрался ввысь; он выцвел, постарел, его колеса разболтались, вихляли в разные стороны; покряхтывая, он медленно разворачивался вокруг звезды, дышавшей холодом, забравшейся высоко-высоко.
Деревья – в мохнатом инее, синеватые сугробы, занесенные снегом крыши хат с темными дымоходами.
От саней, от позвякивающих удилами заиндевевших коней ложились тени на холодно искрящийся снег.
Застоявшиеся лошади рванули с места, взвизгнули полозья, что-то прокричала Паша – голос ее гулко прорезался в морозном воздухе, мелькнул хмурый осокорь, соседская хата с подслеповатыми окошками.
Алеша умостился в сене, натянул на себя большой тулуп, укрылся с головой – дохнуло сладковатым запахом клевера, пьянящей горечью полынка, – сонно покачивало на дороге, и он вновь уснул.
Не помнил, как его несли, раздевали. Очнулся, пришел в себя только в залике: подвешенная к потолку лампа, у стен на гнутых венских стульях сидят какие-то мальчики и девочки. Через полуотворенную из двух половинок дверь, в другой комнате, виднелся длинный, накрытый белой скатертью стол. Женщины расставляли на нем тарелки, переговаривались, смеялись; татусь в черном выходном костюме прошествовал через зал, в поднятых руках он держал бутылки с высокими горлышками…
Алеша повел глазами. И увидел чудо.
Все в блестках, в снежных нитях. Оно переливалось, играло всеми цветами. Пахло резко, свежо.
Только теперь под нарядным убором Алеша разглядел деревцо. Такого никогда он раньше не видел. Разве на картинках. Широкое, разлапистое внизу, оно постепенно сужалось, и на самом верху, упираясь в потолок, рдела золотисто-алая звезда.
…А потом они стали вокруг елки, взялись за руки.
У Алеши оказались соседки – девочки; на голове одной – белый бант, на голове другой – розовый, обе круглолицые, обе в белых платьицах, глазки скромно потуплены… Принцессы из сказки!
Даже предположить нельзя было, что в селе могут водиться такие девочки! Может, из города? Не иначе – из самого города!
Девочки бойкенько затопали, потащили Алешу. То в одну сторону, то в другую. Что-то затянули тонкими голосами. Про елочку… Алеша заорал от полноты чувств. Слов той песенки, что пытались петь, он не знал. Девочки вытолкали его из круга. Какая-то красивая высокая тетя в длинном сером платье прикрикнула на них, и принцессы, обиженно отворачиваясь, вновь допустили его в хоровод.
Потом завязали глаза, дали ножницы. Надо было срезать с елки подарки. Алеша срезал розового коня, и конфету в цветной обложке, и блестящий шарик – под шелестящей бумагой оказался просто рубчатый каменно-твердый грецкий орех. Потом плясали.
Музыка была необыкновенная. Тоненькая девушка играла на инструменте, который назывался фисгармония. Она ударяла по клавишам (какие длинные были у нее пальцы!), и рождался звук необыкновенной полноты. Алеше и плясать расхотелось. Стоял бы и слушал. Но его вытолкали в круг, принцессы, притопывая, сердито закричали: «Просим! Просим!»
Алеша насупленно огляделся. Из-за незнакомых голов подмигнул татусь: «Давай, сыну!» И Алеша, сводя брови к переносице, скомандовал: «Гопака!»
Тоненькая девушка рассмеялась, клавиши взвизгнули под ее руками, и Алешка, приподняв правую руку, как учил его верный и многоопытный друг Гык, пошел с перебором по кругу.
Взрослые почему-то засмеялись, захлопали, и тогда осмелевший Алешка – «рукы в бокы» – ударил «навприсядки». Руками по голенищам, до подметок достал, на одной руке крутанулся. Не хуже того цыганенка из табора, что, выманивая у хлопцев копейки, обещал станцевать: на руках, на ногах, на спине, на пузе, на голове!
Даже взмокрел Алеша. Показал все, что мог…
Смеялись до упаду. Даже обидно стало: «Что они понимают! Такие коленца давал!»
Как увезли – не помнил. Проснулся: серо, мутно, снег валит за маленьким окном. Показалось – приснилось. Поглядел, рядом на стуле розовый конь, вырезанный из картона, темный грецкий орех без обертки. Было!
Все было.
Так Алеша впервые в своей жизни встретил Новый год. Собрались учителя в их глухом степном селе, детей своих свезли. А потом на многие годы позабыли даже, что есть такой праздник – Новый год. Такое началось, что не до праздников было…
14
Мягкое покачивание. Удобны эти подвесные люльки-носилки. Перестук колес. Как давно он не ездил по железной дороге. Выходило, в последний раз в феврале сорок второго года, когда их дивизию перебрасывали на Калининский фронт. В товарных теплушках. И вот теперь, в июле сорок четвертого, он катил назад. В специальном вагоне. Для тяжелораненых. Крюгеровский вагон, так его прозвали.
Подвесная койка сбоку, у окна. Притушенный свет. Яловой смутно видит проход, свисающие простыни, приподнятые колени. То вскрик, то стон… Стойкая госпитальная вонь, в которой причудливо смешивались запахи лекарств, хлорированных отхожих мест, гнилостный душок несвежих бинтов. Пора бы уже привыкнуть!
– Больной, вы что не спите?
У изголовья возникает сестра. В белой наколке с крестиком. Высокая. Темные подглазья.
– Я не больной, – медленно произносит Яловой. Он отбивается от боли. Когда говоришь – легче. – Я раненый…
– Теперь это не имеет значения.
– Почему же не имеет? Больной тот, у кого воспаление легких… Или дизентерия… Их и называйте больными, а мы – раненые.
В самом деле, что за слово такое: «больной». Должна быть какая-то разница. Ранение – не болезнь, это…
– Все равно лечить вас будут, – голос у сестры тягучий, глохнущий. Глаза полуприкрыты, привалилась плечом к его койке, ссутулилась, казалось, непомерная тяжесть гнула ее. – Раз будут лечить, значит, все вы больные… – И, помедлив, нехотя, как в полубреду: – Все мы больные… Всех нас лечить надо.
Боль подбиралась изнутри, начала подергивать, выворачивать. Яловой вспомнил совет Шкварева, попросил достать папиросы из-под подушки.
– В нашем вагоне курить нельзя. Пойду спрошу врача.
Оторвалась, качнулась, пропала где-то в полумгле. Вновь вынырнула.
– Курите…
Достала у Ялового из-под подушки «Беломор», вставила папиросу ему в рот, чиркнула спичкой. В мгновенном красноватом озарении увидел сухие бескровные губы, врубившиеся в уголках морщины, вздрагивающие ноздри.
– И я с вами… потихоньку.
Глотала дым, отгоняла ладошкой. Стряхивала пепел с папиросы Ялового, вновь вставляла в рот. Только так и мог курить.
– Сколько же вам лет? – спросила, как по обязанности, без особого интереса.
– Двадцать два. – Яловой губами передвинул папиросу. В самом деле, потянешь, потянешь – и приглушается боль.
– Мать, отец есть?
– Да.
– Твое счастье! А невесту не приглядел, девушка есть?
– Вроде есть.
– На нее особо не надейся. Не рассчитывай. Мать примет, никогда не откажет, а все прочие…
Говорит как бы нехотя. По принуждению. Веки тяжелые, набрякшие. Глаз не видно. Со стороны – дремлет на ногах. Смертельно уставшая птица после непосильного перелета.
– Третий год в поезде. Возим, возим без конца! Нагляделась на вас. И молодых, и старых, и в полных годах. Все – калеки. Перемалывает война. Чем все кончится? Мужиков, считай, в деревне не осталось. На военных заводах только и держатся. А мы, как от фронта, так и полный рейс. В проходах кладем.
Поначалу плакала, в тамбур выскочу, наревусь – и назад. Особенно эти, которые без рук, без ног. Смотрят на тебя такими глазами. А чем поможешь? В прошлый рейс лейтенантик один, дитя еще, материнское молоко на губах не обсохло… Привезут радость родителям.
Тебе, думаешь, сладко придется? За мать держись, мать, может, вытянет.
Когда же этому конец будет?..
Кто-то надорванно закричал, позвал из конца вагона: «Сестра, сестра!» Оттолкнулась, пошла по проходу. В полутьме на расстоянии – как привидение.
Наверное, через час вновь вынырнула из сумрака, пригляделась к Яловому:
– Все не спится? Давайте-ка выпьем хороший порошочек. Сразу и уснете.
– Какой порошок?
– Пантопон.
Ялового как стегнули. На всю жизнь запомнил слова Шкварева.
– Нет уж!.. Обойдусь. Терпеть буду.
– Терпению тоже конец бывает.
Яловой решился, спросил напрямик:
– Почему вы не уйдете с поезда? Вам больше нельзя здесь.
– Куда? Всюду одно и то же… Война.
– В армейский госпиталь хотя бы… Там не такие, как мы. Других увидите. Там полегче вам будет.
– Он меня жалеет! – что-то похожее на удивление прорвалось в ее голосе. – Меня жалеет! Бедный ты мальчик! Ты не о других… О себе плакать…
Махнула рукой, согнулась, ушла.
Увидел вновь ее в рассветной мгле. Подремал час-полтора. Такой у него теперь был сон. Боль держала. Как на острых зубьях, не давала забыться. Топот, быстрый стук каблуков, озабоченные, сипловатые с ночи голоса. Что-то происходило с майором из железнодорожных войск. Суетились возле него сестры, врачи. Лежал майор наискосок от Ялового, на нижней полке.
Вот ведь как жизнь поворачивает! Приехал майор из Москвы, из управления железнодорожных войск, с какими-то инспекторскими целями на сравнительно удаленную от фронта тыловую станцию (может, ему она и казалась фронтовой). Случился налет, попал под бомбежку, ранило.
Вокруг него все вились, может, и был он каким-то большим начальством. Врачи предлагали оставить его на несколько дней в госпитале. Нет, торопили, отправили с первым поездом на следующий день. Поместили в вагон для тяжелораненых: лучше уход будет. Всех вносили, а он сам взобрался. Поддерживали под руки с двух сторон, левая нога в гипсе, прыгал на правой. За ним несли чемоданчик, портфель, какие-то свертки, пакеты. Кто-то бутылку коньяка из кармана сунул в пакет. Собрались в проходе, сестра прикрикнула, мешали проносить раненых.
– Телеграмму дадим, все сделаем, не беспокойтесь. Встречать будут по пути. Как по эстафете. Из рук в руки. Не беспокойтесь!
Хотели сопровождающего дать, начальник поезда не разрешил.
– Мать его, как обихаживают! – хриплый простуженный голос снизу. – Царапнуло, а его в вагон для тяжелораненых, нижнюю коечку, чтобы со всеми, значит, удобствами. То сестра, то врач возле него…
На одной из станций между Ленинградом и Москвой появилась молодая женщина: светлое габардиновое пальто, туфли на высоких каблуках, легкая косынка, глазами сюда-туда, увидела майора, метнулась к нему, опустилась на колени:
– Ми-и-и-ша, как же ты, Миша!
Обсуждали, прикидывали, нельзя ли перебросить в московский госпиталь – там все свои. Опытные врачи. Но эшелон шел в Ярославль.
И вот майору внезапно стало худо. Поползла температура.
В ранний рассветный час мимо Ялового проплыло желтовато-серое лицо с темными впадинами. На немой вопрос ночная сестра двинула плечами, оглянувшись, бормотнула:
– Боятся – гангрена. Надо бы снимать гипс – жена не дает. Не доверяет нашему хирургу.
Когда поезд подходил к Ярославлю, майор уже бредил. Его первым выносили из вагона. Закинутое лицо, волоски, прилипшие к потному лбу.
– Берегли, берегли и, гляди, до какой беды парня довели, – снизу все тот же скрипучий хриплый голос. Тяжкий вздох, стон, кашель. – Кому что на роду написано… Своей доли не минуешь. Она тебя где хошь найдет.
Вынесли и Ялового. Поставили носилки возле вагона. Опаздывали машины.
Высокая деревянная платформа уходила вдаль. Срывался мелкий теплый дожць. Набегавший ветер рябил лужицы.
Яловой открывал рот, ловил на язык дождевые капли. Тукали дождинки по лицу, стекали, холодили кожу. После вагонной духоты, спертого воздуха дышалось вольно, легко.
Вдали, в конце платформы, показалась высокая женская фигура. В темном. Платок откинут на плечи. В концы уцепилась руками. Мимо нее проносили носилки с ранеными.
Подняли Ялового, понесли. Женщина рванулась навстречу. Ялового несли ногами вперед (не к добру, как покойничка!), он сразу обо всем этом позабыл, видел только стремительно приближавшуюся женщину. Сколько в ее фигуре было мучительной надежды, испуганного ожидания. Он уже различал ее глаза, они вырастали, молили, кричали, спрашивали.
Алексей даже зажмурился. В том странном состоянии, в каком находился Яловой, ему померещилось: не из родных ли кто? Так уверенно, так стремительно рвалась навстречу эта женщина. Конечно, не мама. Мама – маленькая. А эта высокая. Может, тетя Таня?
Сумасшедшая, несбыточная надежда! Как они могли узнать об эшелоне! Добраться сюда, в далекий волжский город?! Почудится же такое!
Спешившая навстречу женщина споткнулась.
Во внезапном озарении тоски, боли, щемящей жалости он едва не крикнул ей:
– Мама, не спешите! Это не я, не ваш сын! Вы ошиблись.
Она и сама догадалась. Замерла, не отрывая от него глаз. Сжатые у горла пальцы. Скорбное, молитвенное отчаяние.
С хрипом дохнул Яловой.
Невозможно было позабыть темные гаснущие материнские глаза.
Кажется, впервые за всю войну он подумал о том, каково же приходится им, матерям!








