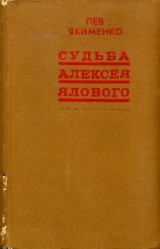
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
– Все хоцю твою законную посмотреть, – подступился как-то вечером во время перекура к Кузьме Петров-Машкин со своей улыбкой, казалось обещавшей непристойное развлечение. – Для себя все березесь, нам и на вид не казесь… Хоть бы издали… А уз наосцюпь я и не говорю… Вот небось сла-а-дкая… – смакуя, выпевал он.
Что тут поделалось с Кузьмой! Словно ударили его в самое затаенное, в самое больное… Лицо его искривилось в судорожной гримасе, он шагнул вперед, взмахнул рукой… Петров-Машкин испуганно шатнулся и торжествующе заорал на весь двор, – куда его и пришепетывание делось:
– Я его раскавычил! Видали, какой фрукт. Вот вредный гад! Он к бабе присосался. Для него все в бабе. Он и зарезать может из-за бабы, вот попомните меня…
Кузьма, сразу потеряв свою всегдашнюю осторожную сдержанность, осатанело рвался к Петрову-Машкину. Их развели.
Что-то неловкое и стыдное было во всем этом. И правда какая-то угадывалась.
Но человек не может захлопнуться, как улитка в раковине, и жить так, с глухо сомкнутыми створками. В подходящий момент он приоткроется.
Кузьма болел. Ангиной, что ли… У нас не было изолятора. Он сидел на своей кровати в казарме, подтянув колени, в одном белье, с завязанным горлом и смотрел, как я мою пол. За пререкание с помощником командира взвода мне влепили наряд вне очереди. Уборную я уже вымыл, теперь драил полы в спальной комнате.
– И где вы такие вырастаете! Ты что же, полы ни разу не мыл? – сказал Кузьма, и что-то скучающе-высокомерное прозвучало в его голосе. Словно и здесь он хотел сказать, что даже в таком ничтожном деле, как мытье полов, он выше меня своим опытом.
Я сдержал раздражение, ответил, что да, не приходилось, вырастал я в хатах с глиняным полом, а в студенческие годы тоже не пришлось.
С грехом пополам я домыл полы, на занятия мне идти не хотелось, таясь от дневального, мы сыграли с Кузьмой в шахматы. Тут я ему врезал! Играл он не ахти как, но с поразившим меня каким-то звериным упорством. Уж, кажется, сбит с ног, на спине, только и осталось «лапки» кверху, так нет же, извернется, придумает замысловатый ход. И так все время. В безнадежном положении он цеплялся за малейшую возможность, строил ловушки, хитрил, с ним каждую минуту надо было быть настороже…
– Все, больше не играю, – отрезал Кузьма на мое предложение сыграть еще одну. Он сердито смешал фигуры. Я увидел, что он расстроен и даже как будто обижен.
– Чудак ты! – засмеялся я. – Ну, что такое проигрыш…
– Сегодня проиграешь в одном, завтра и другое потеряешь. Локотки себе кусать будешь, да поздно, – проворчал Кузьма. И назидательно добавил: – Жизнь – она, брат, такая, что ухватил, держись обеими руками, не то вырвут. У меня друг-приятель жену увел. И оглянуться не успел. Ну, да черт с ней, не жалею!
Он уперся подбородком в коленки, охватил ноги руками.
– Нашел себе такую… – сказал он с неожиданным страстным придыханием. – Это такая!.. У нас же в ателье работала, неприметная с виду девчушечка, а я разглядел ее, не торопился, с год присматривался да приглядывался, ну а как поженились, вот два года уже, каждый час, каждую минуту она желанна мне! Да тебе это не понять, ты небось еще с женщиной не спал…
Я ее и на работу не пустил. Не могу я прийти и чтобы ее дома не было. А первое время то собрания, то еще… Нет ее и нет. Подружек отвадил, чтобы мы с ней только вдвоем… И я уж нигде не задерживаюсь, лечу домой, открывает она дверь, радостная, свежая, моя… Подхвачу ее, на руках несу через комнату, она смеется, прижимается ко мне… – Голос его дрогнул. Глаза потемнели, зрачки взялись синим дымком. – Не можешь ты понять, что это такое!
Он с шумом передохнул.
– Это кто может поверить, чтобы так изо дня в день, а мы ведь два года вместе, и с каждым годом она мне… Страшно подумать, случись что с ней – и я все, конченый человек, нет меня. Вот сейчас сижу в казарме, только подумаю о ней, – все бы бросил, пусть стреляют, хватают, а я бы к ней…
Замолчал. Продолжал с неожиданно властной, угрюмой силой:
– Но она меня знает, знает, почему я пошел воевать. Вот я слышал ваш разговор о фронте. Ты, что ли, говорил: самое страшное – струсить в бою? Я тебе скажу: не хочешь, не струсишь!
– Часто это не от воли, не от желания зависит. Ведь первый бой! Посмотри, почти во всех книгах о войне пишут, что в первом бою каждый боится…
– Человек с собой совладать всегда может. Все в тебе самом, все от тебя зависит. Я на что решился, я себя сам по своей воле от жены оторвал – и, видишь, живу. Если бы ты мне об этом перед войной сказал!.. И все из-за нее же, из-за жены!.. Ты не знаешь, какой любовь бывает, в книгах не все рассказано.
Он судорожно ухмыльнулся. Приподнялся на коленях, лицо пошло пятнами. С каким-то молитвенным заклинанием проговорил:
– Как я буду воевать! Я подвиг совершу. Я Героя достигну… И она знает… Вот она меня знает, она знает, что я могу!
Эти слова он повторил несколько раз…
И долго я думал о том, какая исступленная страсть-любовь потрясала, клокотала в этом неприметном, невзрачном на вид человеке. И о том, что жизнь каждого человека – непрочитанная книга, ненаписанный роман. Все люди интересны. И какое трудное искусство – учиться понимать, угадывать человека до самых потаенных глубин его.
Случилось так, что после создания в нашем батальоне минометной роты Кузьма оказался в моем подчинении. Я был командиром расчета, он наводчик, первое лицо после командира, его заместитель. Тяготы похода он переносил много легче, чем мы. Его жилистое, нескладное тело таило запас, казалось, неисчерпаемых сил. Но вот что я заметил. Не было случая, чтобы он пришел кому-нибудь на помощь по своей охоте.
После Возницына минометную плиту понес я, потом Павлов. Но старик быстро выдохся. Он еле шел, начал отставать.
– Возьми у него плиту, – сказал я Кузьме.
– Да он и не нес ее еще!
– Ты же видишь, он без сил. Он упадет сейчас.
– Придуряется старичок. За две войны приучился ловчить. Этот нас с тобой перетянет.
Это было сказано с таким равнодушием, с таким наглым безразличием, что я не выдержал.
Я взорвался. Я превысил свои командирские и человеческие права.
– Ты возьмешь сейчас плиту и будешь нести ее до тех пор, пока не упадешь, – сказал я, словно выстреливая по отдельности каждое слово.
Мы стояли друг против друга. Лицо в лицо. Заросшие щетиной. С измученными голодом, лихорадочно блестевшими глазами.
– Вот ты какой! – Кузьма с неприкрытой ненавистью смотрел на меня. – Жалельщик! За счет других! Знаем мы вас таких! Ну, погоди…
Он бормотал что-то еще обиженное, угрожающе-злобное.
А я уже упрекал себя за несдержанность, за грубость, за беззаконие, которое выразилось, я хорошо это знал, в одних только словах… Но даже неправого человека, думал я, над которым у тебя какая-нибудь, хотя бы ничтожная, маленькая власть, нельзя подавлять.
Как воспитать в себе такую уважительность к человеку, которая соединила оы твердость с вниманием, непреклонность с добротой? И возможно ли это?
Мы все шли и шли. Тоскливо посвистывал ветер в кустарниках, в кочковатых, болотистых низинках, дорога поднималась на пригорок, ныряла в затишек леса, с наметенными на опушках сугробами. Стыли недавние пожарища на месте деревень. Сиротливо и одиноко темнела банька где-нибудь в стороне, на спуске к реке, голые кусты черемухи, вздрагивающая рябина. И в уцелевших деревнях было невесело и сиротливо: не пролает собака, не кукарекнет затомившийся петух, не подаст голос проголодавшаяся скотина. Выглянет старуха в темном платке, подойдет кряжистый старик с окладистой бородой, вглядываются, словно надеются угадать своих, родных… И детей мало было видно в эту зимнюю пору.
Чаще всего слышали мы на этой дороге от обиженных деревенских людей одно и то же: «Немец-паразит все позабирал» или сумрачно-короткое: «Он пожег».
Увидели вскоре мы и поджигателей.
В лощине неожиданно наткнулись на трех убитых. Это были первые увиденные мною убитые немцы. Снег едва припорошил их мышиные солдатские шинелишки. У одного, видимо, топором начисто был снесен затылок, у другого в спине торчали вилы с коротким держаком, третий лежал ничком, в ужасе прикрывая скрещенными руками голову.
Этих убили не в бою. Этих кончили жители. Потом я слышал немало рассказов, как приканчивали старики, женщины и даже дети фашистских солдат, которые группами перед отступлением заскакивали в деревни, выгоняли людей на мороз, в чем те были, лили бензин, жгли избы.
Невдалеке от уцелевшей деревни с церквушкой чьи-то жестокие и насмешливые руки поставили у развилки, в снежном поле, два окоченевших раздетых трупа. Они стояли голые, розовато отсвечивая в неярких лучах зимнего солнца. Молодые, стройные парни с заиндевевшими волосами. У одного была под мышкой папка, обыкновенная, немецкая канцелярская папка – как будто для доклада направился к начальству с нужными бумагами, другой, как регулировщик, поднял предостерегающе правую руку вверх, левой указывал направление; тут же стоял указатель, на фанерной дощечке углем торопливо было выведено: «Nach Berlin». Нельзя было понять выражение стылых лиц: то ли гримаса боли, то ли предсмертная судорога страха затаилась в уголках промерзлых губ.
– Это бы и ни к чему. Ведь мертвые, зачем над ними так, – сказал Виктор. Что-то жалкое и растерянное появилось в его глазах.
– Повоюешь, тогда поймешь, что к чему, – ответил ему Кузьма Федоров. – Так, ни с того ни с сего, даже блоха не кусает…
«А в самом деле, – думал я, шагая вслед за Виктором, – есть предел жестокости на войне? Эти убитые, которых поставили так, это жестокость или озорство? Свирепая гримаса фронтового юмора? Но ведь это сделали не солдаты, не воины. Говорят, фронт здесь и не проходил. Мы движемся проселком. Только и было, что одинокий широкий след розвальней. Значит, это сделали мирные жители, может, вон из той деревни? Как же надо было их ожесточить, какую ненависть надо было вызвать… Что же делали фашисты на этой земле?.. И этот белобрысый молоденький солдат, рука которого указывает на Берлин? Он из тех, кто должен был сжечь эту деревушку с церковью? И вот теперь стоять ему неоплаканным, непохороненным в пустынном поле, под знобящим ветром до весны или до того, пока кто-нибудь из военного начальства, проезжая мимо, не прикажет зарыть».
В тот же день нам повстречался на дороге мальчонка лет двенадцати, такой круглолицый, ясноглазый, в лапотках, с тощей холщовой сумочкой за спиной. Он рассказывал, как сожгли их деревню. За помощь партизанам. Согнали всех жителей в просторный сарай и забили двери досками. Зажгли. Мать у него там была с сестренкой, девочкой трех лет. Он гостил у деда в соседней деревне, потому и спасся. Когда прибежал, увидел тлеющие угли и в стороне головку Анки. «Я узнал ее, я узнал ее… Она почти не обгорела…» – повторял мальчонка, словно нас надо было в чем-то убедить. Мать, видимо, на руках подняла задыхающуюся от дыма девочку, та высунула голову в узкое рубленое окошко вверху, стена рухнула внутрь, вот головку и можно было узнать. Мальчонка все повторял про эту головку, как она была похожа и как он сразу узнал ее.
Его била дрожь. Он, словно в лихорадке, клацал зубами:
– Я их… я их… я живьем рвал бы их на части!..
Я все приглядываюсь к нынешнему февралю. Каков он, этот месяц, по своему нраву? Многое позабылось. Прошло-то ведь больше двадцати лет. Дети повырастали, стали взрослыми, у них уже свои дети…
И о себе когда подумаешь, о пролетевших годах…
А словно вчера еще пускал бумажные кораблики, лазил по деревьям за самыми сладкими яблоками, они таились поближе к солнцу, на самых верхних ветках, словно вчера еще, задирая голову, смотрел, как голубиная стая исчезает в бездонной голубизне неба… И тревожный холодок страха, возможной утраты и захватывающее чувство бесконечности, распахнутой настежь беспредельности. И эти исчезающие в ней живые комочки. И гордость за них, крохотных домашних птах, так смело ушедших с крыши низенького сарая в необозримое. Что видят они? Что там, в немыслимой высоте, в том небе, которое дарит нам то радость солнечной синевы, то посылает тяжелые лиловые тучи со слепящими молниями, оглушающими раскатами грома, от которых дрожат стекла в окнах, бросает на землю снег, прохватывает землю леденящим ветром.
Все идет оттуда, с неба…
Сначала возникают маленькие точки, черточки на прозрачно-голубом, они увеличиваются, округляются, голуби резко идут на снижение, и я уже вижу вожака – красного турмана. Земля встречает их слезинками на росистой траве, дымком летних печей, тишиной и теплом.
Казалось, в те годы время не движется. И каждый день несет радость: движения, игры, впервые прочитанной книги…
Хотя и теперь кажешься себе часто молодым, и сердце бурно гонит кровь по тугим жилам, и многое будто еще можешь, и многое еще надобно успеть, но уже прикидываешь, что сможешь, а на что не станет сил, рассчитываешь, что успеешь, а на иное, может, уже и времени не хватит. Нет-нет и прозвучит дальний-дальний колокольчик: внезапным перебоем сердца, неожиданной слабостью, томящей усталостью, тяжкой бессонницей на-помнит он о пережитом, о крутых поворотах, о дальних подъемах и спусках. И жизнь человеческая все чаще кажется обидно короткой!
Так вот больше двадцати лет прошло с тех пор, а мне все кажется, что днем, когда мы шли к передовой, днем нас все время сопровождало пригревающее солнце, а ночами сторожил тускло-сиреневый месяц. Он медленно скатывался по зеленоватому, с подмороженными краями небу.
И вот ведь и в этом году у нас февраль солнечный. Что же, всегда февраль начинает весну света? Наша дорога на фронт как раз пришлась на вторую половину месяца.
На третий день мы вновь свернули с большака. Шли по плохо наторенному зимнику. Кругом – снега в дымчатых сизоватых отсветах. Редкие кусты по сторонам, как неожиданный праздник, в молодых тонких наледях слепяще вспыхивали под солнцем. Сталкиваясь под ветром, чуть слышно звенели ветки, словно пытались от чего-то предостеречь, о чем-то напомнить…
К середине дня солнце заметно пригревало. И солнце нам было во вред. Оно томило предчувствием весны и тепла: скоро-скоро побегут ручьи, оголятся пригорки, проклюнется первый зеленый росток.
А может, этого уже и не дано нам увидеть?..
В конце концов солнцу было наплевать на то, что ждало нас впереди. Оно было само по себе, а мы – сами по себе. И, видно, одна война была виновата в этом.
Тревожно и знобко было нам в этот солнечный день. Мы – в открытом поле, нас ведет узкая дорога, чуть в сторону – непролазный глубокий снег, близко фронт, погромыхивают орудия, их уже слышно, а над нами распахнутое небо, и в нем, льдисто отсвечивая, плывет смертоносный крестик, кружит над нами на безопасной высоте, и мы для него словно на ладони, а он может вызвать десять, пятнадцать, двадцать себе подобных, нагруженных бомбами, и что тогда станет на дороге…
Хотя бы уже скорее на передовую: лицом к лицу!
Иван возмущался в открытую:
– Вот скажи, порядки на этой войне! То в лесу хоронили, курить и то не давали, а теперь средь бела дня дуем по открытому, и над нами разведчик преспокойно разгуливает, поодиночке всех пересчитывает, и отставших, и приставших не пропустит… И сразу видно, куда мы идем. Какая же тут внезапность?!
Голос Ивана то глохнет, то напряженно взвивается, он бредет неровно, часто спотыкается. Я еле тащусь рядом с ним, Виктор поотстал. Какого-то бородатого дяденьку уговаривает не останавливаться, вещевой мешок снимает с него, прилаживает на себя, а у меня нет сил остановиться, и я иду…
Длинноносый Павел Возницын, который топал сзади, забубнил мне в спину и вовсе несуразное:
– И смотри, все делается у нас через силу, через не могу. Все гонят, торопят. И в колхозы загонять как взялись – где тут мужику приглядеться, прикинуть, какая из этого механика выйдет. И церкви, как по команде, позакрывали, а вера-то в народе, какой несознательный, а все же народ, вера осталась… Один начальник перед другим выслуживается, вот и делается многое без всякого разума.
Любил он эти разговоры про колхозы, про церкви. Это сейчас в открытую. А то все с шуточками, прибауточками.
Павлов как-то разозлился, прижал его:
– А ты не из кулачков? В тридцатом из деревни не убег? Зачем вредными разговорами смущаешь?
С Возницына шутливость как рукой сняло. Он злобно выматерился, плюнул и отошел в сторону.
Кто его знает, может, и убежал он из деревни во время коллективизации. Но только к нам в дивизию пришел он с завода. Рабочим человеком. За его шутками слышалась какая-то обида, но понять ее мне было трудно.
В ту пору я, пожалуй, бессознательно опасался обиженных и обозленных людей. Смущали они и тревожили. Поди разберись, что в их бедах было их виной, а что оправдывало, что было несправедливостью.
Я жил в мире ясных и непреложных истин, в этом мире несправедливость могла быть только случайной. И она должна быть исправлена или исправлялась. Но если она повторялась, если она затрагивала судьбы многих? Как тут быть? Вот об этом и не хотелось думать. А по дороге на фронт и вовсе не к чему об этом было думать.
Шли мы все из последних сил. Мне казалось, я не иду, а меня что-то передвигает, более сильное, чем я сам. Я знал лишь цель. Мы должны были дойти до передовой. И сегодня ночью вступить в бой. И если бы я не дошел, мне казалось, я не смог бы жить, то есть я не допускал даже такой возможности, что я не дойду.
..Отстал я от своих по пустячному случаю.
Это конь может все необходимое делать на ходу. А человеку надобно для этого остановиться. Вот и я отошел в сторону, проваливаясь по колено, забрался за кусты, вытоптал там площадку, присел. Подошел по дороге Виктор, приостановился, поглядел в мою сторону, предостерегающе крикнул: «Смотри, не отстань!» – и, разъезжаясь валенками, неровно, качко пошел дальше. Я промолчал, что ему скажешь на это, думал: догоню, подумаешь, по-солдатски посидел на корточках, встану и сразу догоню.
Но вернуть потерянное время не так-то просто. Особенно когда нет уже сил. Пока приводил в порядок свою зимнюю сбрую: кальсоны бязевые, потом байковые, брюки обычные, а на них еще ватные, прилаживал ремни, сумки, гранаты, пальцы на морозе не гнулись, не слушались, пока выбрался на дорогу, рота уже едва угадывалась на пригорке, одни отставшие брели по дороге, и я, как ни бодрился, как ни силился прибавить шаг, получалось как в сказке – несмотря на все усилия, я отставал все больше, рота впереди вскоре и вовсе скрылась из глаз, а я шел все медленнее, отставал уже и от отставших и вскоре совсем один брел по унылой, сумрачной по-вечернему дороге.
И вот тогда вспомнил я наш давнишний разговор с Виктором и с бессильной яростью подумал о воле: «Воля-то была, а сил не было!» Тело бастовало. Плевало оно на волю. Ноющие мышцы задубели в усталом равнодушии и никаким приказам не хотели подчиняться. Едва-едва переставлялись ноги, медленно, затрудненно. Они делали вид, что идут. А мне надо было идти быстрее и догнать своих. Только бы не свалиться! Идти! Идти! Ну же, чуть быстрее, чуть-чуть прибавьте шаг, мои ноги, мои измученные кони!..
В первой же деревне я справился у встречного старшины о нашем батальоне. Старшина сказал, что в этой деревне разместился штаб и тылы полка. Из приоткрытых дверей сараев красновато просвечивало, тянуло дымком полевых кухонь, теплым варевом. Слышались редкие хриплые голоса.
Сердобольный усатый старшина, приглядевшись ко мне, предложил зайти «на кухню», обогреться, поесть. Я покачал головой, прошел деревню, вышел в поле.
Была уже ночь. На блеклом небе зябко ежилась полнотелая сизоватая луна, по временам ее окутывали дымчатые тучи, и тогда темнело, суровело все вокруг.
Кусты расплывались, словно бы вырастали, – казалось, что впереди кряхтят и переговариваются люди. Снова показывалась дородная луна, лениво, холодно посвистывал ветер, и кругом было снежное поле, и я один шел по этой дороге. И казалось, всю жизнь суждено мне идти одному по этому пустынному снежному полю, идти и идти, и даже цель уже забыта, а есть только одно сознание: нельзя останавливаться, надо идти и идти. В полусне. В полумгле.
Не знаю, сколько было километров до той деревни, где остановился батальон. Не помню, как дошел. Помню, перед самой деревней была замерзшая речушка и крутой подъем. Дорога шла в обход. Тропа вела прямо в гору. Я начал подниматься по тропе. Упал. Видно, из проруби брали воду. Образовались наледи. Я поднялся и вновь, поскользнувшись, упал. Так и не встал. Не держали ноги – и все. Полежал и пополз на четвереньках. Рядом, на лиловато-сумеречном снегу, вихлялась по-собачьи жалкая и короткая тень моя. Я полз медленно, натужно. Посижу и вновь ползу.
Я, казалось, уже ничего не сознавал. Будто я был уже не я. Словно кто-то другой двигался на четвереньках. И я не осуждал его и не сочувствовал, а просто понимал: по-иному нельзя. Не можем по-иному. Хотя со стороны, наверное, если посмотреть, например, с этой горки, выйти из теплой избы, глянуть на дорожку… Или кто из товарищей увидел бы, из тех, кто прошел этой дорогой раньше. Сразу и не поймешь, человек там или собака ползет. Ветерок взбивал снежную пыльцу, хлестко бросал в лицо. Я переставлял локти, подтягивал громоздкие непослушные колени… Так и выбрался на гору. Вставать было трудно. Уцепился руками за сруб колодца, поднялся.
Не отряхиваясь, зашел в первую большую избу на краю. Огонек поманил, просвечивал сквозь плохо занавешенное окно.
И первое, что увидел: сумеречные, настороженные глаза Бориса. Он сидел за столом в шинели, в шапке, с раскрытой планшеткой, сбоку фонарь «летучая мышь».
– Вот молодец, – ровным, смертельно уставшим голосом сказал Борис. – Что значит командир. Не бросил своих людей. Привел отстающих…
Он осуждающе повел глазами в сторону. Там, в темном углу на полу, привалившись спинами к бревенчатой стене, дремали Виктор и Иван.
– Ты скольких привел? – спрашивал меня Борис.
Что мог я ему сказать? Неужели он не понимал, не видел? Глаза его в свете фонаря казались мне красными, злыми.
Едва ворочая непослушным, разбухшим от голода и холода языком, я что-то хрипло сказал и, как завороженный, пошатываясь, пошел к Виктору и Ивану, возле них я высмотрел свободное местечко, опустился на пол, закрыл глаза, и все поплыло мимо меня с тихим освобождающим звоном.
Не знаю, через сколько времени нас растолкали. Потребовали к командиру роты. Борис сидел все за тем же столом. Злые воспаленные глаза его, казалось, не знали покоя. Он произвел общую проверку, наша рота недосчитывала что-то около десяти человек.
– Вы должны были следить, чтобы не было отстающих. Вам и отвечать.
Мы вновь оказались под зимним ветром и холодными звездами. Одни на дороге.
Иван, жалобно пощелкивая зубами, первый повернул обратно. Сказал, никуда не пойду… Все равно замерзать. Я пошел за ним. Виктор крикнул вслед, скажите, я отпустил вас, я один пойду…
Мы постояли с Иваном на крыльце и, не сговариваясь, повернули к хозяевам, на теплую половину. Там никого из наших не было. Бородатый хозяин засуетился. Мигом очистил от детей лавку за столом. Мы задубевшими пальцами с трудом расстегивали шинельные крючки. Худенькая хозяйка поставила миску с дымящейся картошкой, сложив руки под передником, жалеющими темными глазами посмотрела на нас; переглянулась с хозяином и быстро полезла в подпол, достала капусту и кусок сала. Мы проглотили несколько картофелин и попросили: спать. Нас попробовали уложить на большую кровать со взбитой периной, мы просили – на пол. Легли на вороха зябкой, пахучей с мороза соломы и тут же уснули.
Нас снова разбудили. Старшина. Здоровенный рыжеватый мужик. До войны он работал товароведом в какой-то артели. Мы не верили в его честность и потому не любили его. Он где мог старался насолить нам. Это он, подозреваю, разыскивая для себя теплое местечко, открыл наше убежище и доложил Борису.
Борис стоял перед нами, мучительно качал головой из стороны в сторону, морщился, словно от зубной боли. Иван твердил, нас отпустил помкомвзвода, приказал – идите отдыхать. «Идите, ребята, я один пойду», – повторял Иван с мерной настойчивостью. Помкомвзвода был Виктор. Борис сказал: «Идите на холодную половину, будьте со всеми».
Не знаю, что меня вновь разбудило. Изба была полным-полна. Спали на лавках, на полу – в шинелях, валенках. Тускло светил фонарь. Перед столом стоял Виктор. Шапка, ресницы, брови – в морозном инее. Фиолетовые губы его едва шевелились. Он, должно быть, что-то докладывал Борису, который, все так же в шапке и застегнутой шинели, сидел за столом. Звякая котелками, вошли несколько человек. Виктор показал на них. Борис кивнул головой. Виктор, переступая через спящих, пошел ко мне, я подвинулся, он, постанывая, лег рядом, затих. Через некоторое время я услышал сквозь сон: «Двигай-ка!» – с другого боку пристраивался Борис. Подложил под голову противогаз, планшетку, освобожденно вздохнул.
Из туманной мглы недолгого забвения я возвращался в мучительный мир видений…
Я – маленький кутенок на неверных, подгибающихся ногах. Только голова почему-то моя, человечья. И я ползу по снежному пустынному полю. Куда? Зачем? Не понимаю. Не знаю.
Из сумеречной мглы наплывает просветленный круг. И в этом кругу возле будки на цепи высокий поджарый пес. Он бросается навстречу, призывно машет хвостом. Я вижу беззвучно раззявленную пасть, дымящийся язык.
Мне знобко от морозного ветра. Меня страшит этот оскал улыбки. А мне кто-то нашептывает, подталкивая, уговаривая: «Ползи, ползи же, дурачок, там конец пути, там тепло, там покой, отдых».
Я чувствую льдистое дыхание снега, мне трудно, тяжело, я едва переставляю лапы. Ползу в гору к этому призывно светящемуся кругу.
Пес насторожился. Только теперь, с трудом приподняв голову, я вижу, как он огромен, страшен со вздыбленной шерстью. В глазах его мелькает красная молния. Пес прыгает ко мне. Передо мной огромная оскаленная пасть – мрачный зияющий провал, и в нем, как взвившееся пламя пожара, язык.
Я коченею от ужаса, мне кажется, что я теряю вес и невесомо лечу, валюсь в мучительно бездонную пропасть. В небытие…
С трудом очнувшись, в холодном поту я думаю: «Будто с того света вернулся… Неужели люди вот так и умирают, будто проваливаются в бесконечную глухую пропасть?..»
Ворочаюсь. Откуда-то снизу, из-под пола, дует. Плотнее завертываюсь в шинель. И тут мгновенное воспоминание потрясает меня.
…На берегу моря за нами, голыми ребятишками, увязался щенок. Мохнатенький, с добрыми глупыми глазами. Он задорно тявкал, догонял нас, кувыркался вместе с нами на песке, бегал, высунув от усталости красный язычок. Мы всполошились: «Чей щенок?» Хозяина не находилось.
У рыбацкого домика, недалеко от перевернутых лодок, металась на цепи собака, безголосо раззявливая пасть.
– Это его мама, – решил я. – Она скучает за своим сыночком.
Веснушчатая девочка в красных трусиках взяла щенка на руки и понесла к собаке. Побоялась близко подойти к мечущейся большой собаке. Погладила щенка, подбросила его, жалобно заскулившего: «Ну, иди, иди же! Это твоя мама!»
Едва щенок успел подняться на ноги, как большая собака, рванувшись на цепи, жесткой мохнатой лапой пригребла его к себе. Щенок испуганно тихонько ойкнул, осатанело щелкнули зубы пса. И щенок, бессильно отвалив голову, затих на песке. Из прокушенного горла, медленно пузырясь, вытекала кровь.
Все произошло так быстро, все было так нелепо, так чудовищно необъяснимо, что поначалу я ничего не мог понять. Рыбаки под навесом, обнаженные до пояса, с лоснящимися коричневыми спинами, громко били по столу костяшками домино. На высоких кольях сушились растянутые сети. Лениво плескалось нагретое море… С хохотом падал на спину обожженный докрасна парень в плавках, отбивая волейбольный мяч. А у лодки на желтом песке лежал кутенок с надломленной тонкой шеей, безвольно раскинув мохнатенькие свои лапы. И его погубитель лежал тут же в тени и, высунув язык, хекал от жары как ни в чем не бывало. И толстая кухарка, вытирая фартуком разморенное лицо, несла этой большой собаке что-то из кухни в алюминиевой миске и призывно ворковала: «Ма-а-трос!»
– Это ты, мальчик, сказал… что она его мама, – запинаясь, выговорила девочка. Глаза ее с открытой неприязнью смотрели на меня. Словно я один был виноват во всем случившемся.
И я не выдержал. Я побежал, я закричал:
– Мама! Мама-а! Почему она так сделала, эта собака…
Я безутешно бился в теплых, жалеющих маминых коленях, и в те минуты мир казался мне огромным, темным и непонятным. И я, маленькая живая пылинка в нем, безвинно причастная к горю и страданию.
…И теперь, когда я лежал на холодном полу, в чужой холодной избе, в далекой калининской деревне, и вокруг меня храпели, хрипели, ворочались во сне люди, с которыми мне завтра в бой, я подумал: тогда, в детстве, я, наверное, впервые почувствовал ужасающую силу случая, беззащитность жизни, мгновенность ее и лютую силу злобы, которая сторожит, прыгает на цепи, чтобы рвануться и схватить за горло трепетно-живое. И еще подумал я: человек не должен быть беззащитным. Жизнь должна уметь оборонять себя.
Я нащупываю свою винтовку. Придвигаю поближе. Гладкая ложа. Металлический холодок ствола. Кажется, только теперь в полной мере чувствую то, что многократно будет пережито на войне: почти нежность и доверие к оружию. И с этим я вновь засыпаю.








