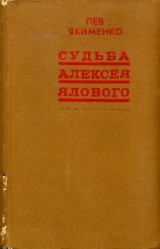
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 37 страниц)
ПАРЕНИЯ
Бабушка не любила нищих, убогих, калек, слепцов. Издалека бывало слышно сквозь переливчатый лай собак тоненькое, настырное, жалобное: «Пода-а-айте Хри-и-ста ра-а-ди…»
– Ходят, робыть не хотят, пранци б вас зъилы[1]1
Выражаясь таким образом, Алешина бабушка не знала действительного смысла того, о чем говорила. Сколько раз Алеша ее спрашивал: «Бабушка, что такое «пранци»?» – «А бог его знает… Люди казали, и я кажу».
Лишь впоследствии он узнал истинный смысл этого выражения. «Пранци» происходит от немецкого «Pranzen», дурная болезнь. Вначале это было действительно страшное проклятие, ругань: «Пранци б вас зъилы». Но со временем многое забывается, слова и выражения теряют свой начальный смысл, и к Алешиному детству слова: «Пранци б тебе зъилы» – звучали довольно безобидно, так же, как и другой обиходный ругательный оборот: «Холера б тебя забрала».
[Закрыть], – ворчала она.
Но, покорная прадедовскому закону, отрезала добрый шмат паляныци, а то и кусок сала, сурово говорила Алеше:
– Подай!..
И он «подавал». На всю жизнь потом это осталось: не отказывать в милостыне тем, кто просил.
Но в детстве он видел и знал другую нищету: гордую нищету странников-кобзарей. Их он увидел и услышал впервые на ярмарке.
Ярмарки уже были на историческом излете, в закатной поре своей. Они пришлись на самую раннюю пору узнавания и понимания, когда мир начинал осознаваться в его безбрежности, во вспыхивающих красочных переливах, в движении, в гуле времен.
Ты знал только свою хату, осокорь на углу, двор, свою почти всегда пустынную улицу… И вот ты на ярмарке. Она безбрежна, как море; вся огромная базарная площадь от аптеки до коновязей набита палатками, людьми, подводами; гомон, пестрота, крики, безостановочное движение…
Сколько же людей, оказывается, живет на свете! На ярмарку собирались не только со всех концов твоего села, приезжали из Привольного, Пищаливки, Хуторов. Из самого «района» приезжали – села, в котором размещались все власти: райисполком, милиция…
Гуляючи не пройдешь, надо было проталкиваться вслед за татусем, обходить подводы. Протискиваться между палатками и лотками с намистом, лентами, гребешками; и вдруг прямо перед тобой на низеньких столиках – видно, специально для приманки детей – оказывались цветные леденцы – горы! Длинные конфеты в пестрых резных обертках, приманчиво пахнущая подсолнечным маслом халва. А прозрачные петушки на палочках! Они призывно кукарекали, горели на солнце, словно схваченные пожаром. Где еще можно увидеть такие богатства! И все же, сглотнув слюну, эти соблазны можно было миновать.
Но был соблазн, возле которого ноги сами собой тормозили. Не идут, и все. Замрут возле зеленой тележки, возле продавца в белом фартуке… Обмакнет он формочку в ведро с водой, махнет полотенцем, желтый кружочек вафли вниз, ложкой – белое, розоватое, придавит кружочком сверху – и получай свое мороженое. Формочки были разных видов: маленькая, средняя и большая. Задача была в том, чтобы заполучить хотя бы среднюю. Татусь сразу: маленькая – для маленьких, средняя для школьников, большая только для взрослых. Такой, мол, закон у продавца. А сколько в той маленькой! Лизнешь раз-другой, зацепишь языком побольше – и готово: все… Ноги вновь поворачивают к зеленой тележке, упираются, тянут за собой татуся.
Но на ярмарке бывало и настоящее чудо, перед которым и леденцы, и длинные конфеты в пестрых обертках, и петушки на палочках, и бублики, присыпанные маком, даже мороженое – все отступало, все меркло. Тут же на базарной площади, но подальше, в стороне от бесконечных пестрых рядов и палаток с товарами, возводили карусель.
О эти сказочные, плывущие в голубой высоте белые и вороные кони с жесткими гривами, с седелками и всамделишными стременами, эти расписные сидушки с резными поручнями – чубатые парубки при всем народе обнимали на них закружившихся, взвизгивающих от восторга и страха дивчат в цветных платках и ярких намистах. Эта музыка кружения, полета! Мчишься между небом и землей, мелькают лица, деревья…
С тех детских лет вынес Алеша убеждение: человек летал. Сам по себе, как случается иногда во сне. Взмахнешь руками, и ты летишь, вольно паришь, поднимаешься вверх. Снижаешься к домам и вновь незначительным усилием уходишь в небесную глубь. Плывешь над землей, над улицей, над маленькими людьми там, внизу. Ты уже у гор, приблизишься к острому выступу, ногой ощутишь грубую неподатливую твердь, толчок – и ты вновь в небе, перед тобой глубокое ущелье, внизу пенится речушка, на перекатах, на склонах светлеет, зеленеет трава-мурава…
Откуда это ущелье, горная речка? От каких предков, из каких превращений?..
Ты видишь уходящее вдаль горное ущелье, ты паришь…
Это как бесконечность. Это как вечная жизнь. Недаром люди придумали ангелов с крыльями.
…И в довольно зрелом возрасте Алексею Яловому доводилось летать во сне. И вновь к нему возвращалось удивительное чувство преодоления, свободы, бесконечности.
Откуда эта память парения?.. Она не только в глухих глубинах бессознательного, она в крови.
Почему вдруг, когда тебе за сорок, и далеко за сорок, и ты вполне «оседлый», не очень склонный к странствиям и приключениям гражданин, тебе вдруг привидится во сне, что ты вождь краснокожих, и ты видишь как бы со стороны гордо очерченный профиль, пламенеющее непокорное лицо, сухое, затянутое в удобные одежды тело, длинные ноги в белых мокасинах, развевающиеся на голове перья боевого убора и чувствуешь, сознаешь, что это ты и не ты, и все же в каждом движении, в чертах лица угадываешь себя.
Он замыслил побег. Прыжок откуда-то из тюремной высоты прямо на согнувшуюся вершину гибкого дерева, оно распрямляется и переносит тебя (его). Ты (он) хватаешься руками за другую ветку, напряжение, рывок, и ты за высокой каменной стеной, ты вне ограды с колючей проволокой, вышками и пулеметами.
И тут ты (он) вспоминаешь, что умеешь летать. Толчок – и ты в высоте. Сильный мах руками, движение ногами, такое, как в море во время плавания, и ты полетел. Но это не тот радостный беспредельный полет, какой случается в детстве. Это отяжеленный полет, полет скачками. Как бы гигантские прыжки. Под тобою улицы, перед тобою многоэтажные громады домов.
Ты снижаешься и видишь у колоннады, у приоткрытых высоких кованых дверей кого-то в черной сутане, он похож на католического патера. Он манит тебя (его), выдвигая из-за складки сутаны белую руку с черным, наганом, он, казалось, предлагает тебе оружие, он крутит барабан, щелкает. Ты чувствуешь какой-то обман, но снижаешься, грозно предостерегаешь глазами: за предательство – смерть. Ты у колонн – на солнце они отбрасывают тени, ты – у самой земли, тянешься за оружием и видишь, что этот в черном протягивал тебе деревянное оружие – детскую игрушку, он отбрасывает ее и выхватывает сизоватое, вороненое, по блеску, по отливу ты понимаешь, что это настоящее оружие; дуло ползет вверх, сейчас блеснет пламя… И вдруг ты вспоминаешь: ты же умеешь летать! Сильный толчок, взлет, и ты на какой-то балюстраде, и тот, в черной рясе, предатель, где-то внизу, он забыт. Но в бурных толчках крови – предчувствие новой опасности. Кто-то по крышам, прячась за трубами, пробирается с автоматом, мелькнуло что-то похожее на черный эсэсовский мундир с фашистской свастикой на рукаве…
И тут ты как бы отделяешься. Он, это он, беглец. Его надо спасать. С мгновенным напряжением ты прикидываешь, как и чем помочь ему, где заполучить автомат, прикрыть этого беглеца.
Возвращается память войны. В руках то знакомое напряжение, когда в твоих руках оружие, и, как в давние военные дни, ты нажимаешь на спусковой крючок, освобожденная горячая дрожь автомата, косой рассеянный дождь смерти, подвижный твой щит, глухая преграда.
И на этой вспышке боевой ярости, тревоги за чужую жизнь, которая какими-то нитями связана с твоей, на этом напряжении глухой ненависти, добра и жалости твой сон внезапно прерывается.
Кто может сказать, что то, что приснилось, менее реально, чем то, что случилось, или было, или могло быть. Кто скажет, почему, в силу каких глубинных, уходящих во тьму связей, возникают эти странные, реальные до головокружения цветные сны…
В наших снах глухие загадочные отзвуки веков, дальних судеб, непознанных скрещений?..
Тогда же во время ярмарки, после карусельного кружения и полета, спустившись на землю, Алеша увидел и услышал слепца-лирника.
Увидел потом, сначала услышал. Выбирался с сестрой Надей из карусельной толчеи, и сквозь праздничное позванивание, взвизги бубна и гармоники, незатихающий гомон людского моря донеслись какие-то слова. Кто-то невидимый выкрикивал их, жаловался, грозил. Слова шли снизу, словно бы из-под земли, под слабый рокот струн.
Алеша потянул Надю за собой и – сквозь плотную толпу молчаливых, хмуро-серьезных мужиков – куда и делось их хмельное ярмарочное оживление.
А высокий вздрагивающий старческий голос с какой-то непонятной силой выкрикивал: «Ой, визволи, боже, нас, всіх бідных невольників з тяжкої неволі з віри бусурманської…»
Вроде песни. И не похоже. Рассказывал под струнный перебор о давнем грозном и богатом бедами времени. Доносился плач из темниц, отчаявшиеся люди взывали к господу, просили вызволить их, вернуть «на ясні зорі на тихі води, у край веселий, у мир хрещений!»
В густой мужской толпе то тут, то там нарядные вкрапления притихших женщин, – то одна, то другая доставала платочек, горько кивала головой.
За мужскими пиджаками, старинными свитками, воняющими дегтем сапогами, широкими женскими юбками невидимый голос уже рассказывал про казака Голоту, побившего хвастливых татар-захватчиков. «…В чистім полі не орел літа, то козак Голота добрим конем гуля…»
Ни на одну из песен, которые знал Алеша – их пели дивчата на улице, – это было не похоже. Из воинственных, непокорных судьбе времен шел тот голос, те слова и та музыка.
Когда Алеша наконец пробился вперед, он увидел и самого певца. Лирник расположился на пригорке, перед ним пустое пространство, будто кто провел невидимый магический полукруг. Запавшие щеки, вялая серая, похожая на кудель борода, пустые, словно выжженные, красные глазницы. Страшны были эти красные глазницы на приподнятом к небу худом лице, взгляд сам собой опускался вниз на струны. Они звенели, рокотали. Их перебирали неправдоподобно белые длинные пальцы. Ни у кого таких не было: белых, до восковой прозрачности, гибких, подвижных, чутких. Не мужицкая рука. Лирнику не приходилось задавать скотине корм, выгребать навоз, метать снопы, – у всех тех людей, среди которых жил Алеша, руки были в рубцах от мозолей, к темных трещинах… У лирника было другое назначение.
Он своим видом, своей судьбой, своими песнями-рассказами, казалось, пришел из других времен, из дикого, грозного и воинственного мира.
Он умолкал, лишь одни струны разговаривали под его руками, покачивал головой, будто припоминал что-то, вздыхал и вновь, вернув себе силу, рассказывал уже про Гонту и Зализняка, про то, как гуляли они в ляшской крови при пожарах в Чигирине, как погубил Гонта жену и своих малолетних детей, предавшихся униатам, отступивших от истинной веры – веры своего народа.
Лирник то протягивал какое-нибудь слово, придавая ему трагическую выразительность, то выкрикивал с гневом, болью, то начинал быстро-быстро говорить, и музыка, казалось, отставала, плелась жалобно сбоку.
Многого из того, о чем рассказывал лирник, не понял Алеша, многого не разобрал, не расслышал. Но странное грозно-воинственное напряжение владело им.
Какая-то колдовская и завораживающая сила была в этом высоком, со старческим дребезжанием голосе, в самих словах и событиях, в музыке, в резких перепадах ритмов и звучаний. Смертельная опасность и победное ликование, прощание с матерью, с любимой и разгульная удаль, хмельное упоение битвой, звон сабель и ржание коней, потерявших всадников.
Вот что поднимало и, как на высокой волне, держало, несло маленького Алешу. В те минуты на ярмарке, когда он слушал лирника, он попадал в завораживающую стихию мужественного самоотречения, каждодневных сражений, разгула и высокой печали. Жизнь и смерть шли рядом – они были казацкой долей…
Летели медные пятаки, серебряные гривенники в оловянную чашечку, что стояла у ног поводыря. Он сидел осторонь – мальчонка, стриженный в кружок, в холщовой рубашке с матерчатыми завязками, с равнодушно-хмурыми глазами. Они, казалось, не видели ни лирника, ни звенящих монет, ни покряхтывающей, вздыхающей, роняющей слезу толпы, а были где-то далеко-далеко… В вольной степи, а может, и в родной хате, которая помнилась материнским голосом, теплым отблеском огня из печи, запахом увядших трав. Было, ушло. Говорили, в поводыри к слепцам определяли сирот.
И не без тайной опаски подумал в те минуты Алеша о недоброй сиротской доле. Хорошо знал, помнил бабушкины слова, часто она их повторяла: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».
Всю жизнь не забывал.
ЗЕЛЕНЫЙ КЛИН
На накатанной до блеска зимней дороге то тут, то там желтели широкие разводья, – видно, останавливал хозяин лошадей по нужде, горбились холмики замерзшего конского помета. Попадались клочья сена; по обочинам – замысловатые желтые узоры. Тут другое: мальчишки шли из школы, баловались, вырисовывали на спор, а кое-где гуляющие псы пооставляли свои тайные отметки. Алеша тоже приостановился, задумчиво поросил, стараясь вывести на ослепительной белизне снега что-то похожее на цветок. И рысцой за отцом:
– Татусь, а Зеленый клин – это сказка или на самом деле?
Спросил серьезно, совсем взрослый мальчик, во второй класс уже ходит, хотя и восьми еще нет, скоро будет; в руке кошелочка, тяжелая такая, вон сколько учебников, тетрадей, по каждому предмету отдельно, а еще линейка, пенал, цветные карандаши в коробочке; резинка; чернильница-невыливайка в матерчатом чехольчике, похожем на кисет, веревочка вокруг запястья – чернила не прольются, а в случае чего можно обидчика стукнуть… А с отцом разговор важный. Спросил сегодня Веру Петровну, учительницу, про Зеленый клин, сказала, не знает, не слыхала, как будто село такое, Зеленый гай называется, за Мелитополем есть. А какое там село, когда это целый край, татусь рассказывал, далеко-далеко: почти месяц надо добираться, на Дальнем Востоке.
Там солнце раньше нашего всходит. Зимы вроде почти не бывает. Зверья всякого полно. Олени не те, что на севере, на которых ездят, а другие, у них рога, как ветви на деревьях, их обрезают, называются панты, и лекарство делают, ото всех болезней помогает. Тигры бродят. Их убивают, шкуры сдерут, в комнате прямо на пол постелют – мягко, тепло. Озера позарастали бамбуком, вроде нашего камыша, толщина у него как у молодого дерева. Рыбы в реках столько, что даже медведь ее ловит. Станет на берегу, лапой хвать и выбрасывает, пока кучка не вырастет, тогда он ее землей прикинет, чтобы провонялась – такую он любит. Птиц всяких невидимо. Человека не боятся, с одного выстрела по нескольку штук берут…
Выходило, если и есть где на земле рай, так только там, на Дальнем Востоке, в Зеленом клину. Но и татусь выдумщик известный. Сколько времени дурил Алеше голову. Привезет из города черного хлеба, говорит – зайчики дали. Распишет: выскочил заяц из Царицыной балки, большой такой заяц, в серой шубке с коричневым воротником, закричал тоненьким голосом: «Подождите! Остановитесь! Передайте Алеше эту буханку хлеба!», у вас, мол, такого нет, у вас только белый, паляныця, а это специальный черный зайчиков хлеб. «Алеша мальчик хороший, добрый – вот ему и подарок!» Алеша уши развесит, всему верил, теперь так просто не проведешь, потому и спросил Веру Петровну.
– Есть такой край, – утверждал татусь. Глаза в туманной дымке. – Я же тебе на карте показывал и в книге, помнишь, Арсеньева «По Уссурийскому краю».
На карте-то он показывал, ткнул пальцем, а там написано: «о. Ханка», а слов таких – «Зеленый клин» – нет. В книге тоже, читать подряд трудно, но то, что прочитал, – на сказку не похоже: и гнус, и холод, и разлившиеся реки.
– Зеленый клин в другом месте, там всегда тепло, – доказывал татусь.
С этим Зеленым клином так получалось, что вроде собирались они туда переезжать. Мама помалкивала, однажды устало сказала: «Не дури ты ребенку голову. Тут – глушь, а там – дикость». А татусь про житье привольное: пчел разведем, на охоту будем ходить, дом на поляне у тайги поставим. И чтобы река недалеко. Выберем такое место.
Бабушке ничего не говорили. Понятно, на Кубань как-то уговаривал переехать, на мамину родину, бабушка как отрезала: «Тут умру, недолго мне, поховайте, тогда хоть на край света».
Алеше другое, жалостливо так говорила: «Ты меня, внучек, не бросай, на тебя надия, до смерти догодуешь». Вот тебе и Зеленый клин. Манило, как в сказку, а бабушку как одну оставить?.. Предательство было бы. Да и маму, видно, не сдвинуть.
Алеша хорошо себе все это представлял, жизнь в Зеленом клину. И просторную хату из дерева с высоким крыльцом. И поляну всю в цветах, почему-то казалось, что это будут маки: красные и белые, с их непрочными, облетающими под ветром лепестками. И себя с ружьем, – татусь говорил, там с малых лет детей к охоте приучают, а чего приучать, что он, ружья не видел, у дяди Феди не какое-нибудь, а двустволка. Сколько раз со стены снимал, и ничего, удерживал. И курок – двумя руками поднажать, и взведешь. Бабахнуть бы хоть раз из ружья, попробовать! Где там! Патроны дядя Федя куда-то прячет, под десятью замками скрывает от своих «шибеников» Тольки и Гришки – двоюродных братьев Алеши. Не раз искали, по всем потайным углам лазили.
В этих мечтаниях и рассуждениях Алеша и не заметил, что татусь уже стоит, папиросу достает, с дядьком Миколой Бессарабом в разговор вступает.
Дорога уходила вправо, а им надо было тропкой через кладбище. Тут на развилке им и повстречался Микола Бессараб. Вроде даже специально их тут поджидал. Топтался в черном кожухе, на плече большая светлая латка, еще в гражданскую войну на него нападали: вилами пробили. Был он председателем комнезама – комбеда.
Алеше Бессараб хмуро сказал:
– Ты, хлопчику, отойди. Не для тебя разговор.
И Алеша из теплых краев, от сладких мечтаний вернулся вновь в свой привычный мир.
Он обидчиво топтался перед кладбищем. Поглядывал на занесенные снегом сиротливые холмики. Наверху под большим новым крестом желтела свежая могила. Кого же это успели похоронить? Во все стороны, ныряя в снежных наметах, поразбегались потемневшие от времени и непогоды кресты: тихо печалились то группами, то поодиночке над отлетевшими жизнями…
А чего веселого? Вот когда поминают, трава везде, солнце, людей полно, куличи, яйца крашеные кладут на могилы, дети от одной к другой так и шастают, едят все подряд – «на спомин души», а воробьев этих – со всего села, наверное, слетаются, пшено для них посыпают… Тогда еще ничего.
А так не любил Алеша кладбища. И не то что боялся, а опасался. Известно, бога нет, нечистой силы тоже, – мама, татусь в один голос об этом, – а вот с мертвыми разные истории приключаются.
Хоть бы недавно: на хуторах умерла одна женщина. Обмыли ее, одели во все смертное, на кладбище принесли. Дьяк с кадилом, певчих пригласили, батюшка отслужил – все как положено. Но только крышку на гроб, а покойница взяла да и встала. В гробу. Днем. При всем народе. Как привидение. Одна женщина – бах в обморок. Другая в крик: «Конец свита!» «С нами крестная сила!» – сыпанули во все стороны. Дьяк с великого страху в могилу съехал, с того времени голоса лишился, а голос был знаменитый – в театр приглашали, второй месяц глотает сырые яйца, не помогает. Мужички, из тех, которые помянули еще перед выносом, начали покойницу обратно в гроб заталкивать. Раз померла, лежи. Она из рук рвется, кричит, как живая. А потом по-матерному как шуганет, мужики и отступились, поверили, что живая. Встала из гроба и пошла домой: только лаяла всех подряд. Своего чоловика, что рад жену в гроб вогнать, соседей, что сбежались на похороны – им бы только погулять, знаем мы этот «спомин души», – кощунствовала она и буйствовала. Досталось и священнику: старый «ледарь» сослепу «живу людыну» чуть на тот свет не спровадил – великий грех на душу брал!
Третья хата ее, справа – как в город ехать. И по хозяйству теперь и за детьми. Будто и не побывала на том свете.
Вот и не верь, когда говорят: встают мертвецы из могил. А к бабушке разве не приходил дедушка с кладбища. В окно как застучит ночью, дождь, ветер, и его голос явственно: «Степанидо, выйди! Степанидо…» Бабушка упала на колени перед иконами, лампада горит, а она одно: «Господи, спаси и помилуй!» Что-то такое с похоронами не так сделали, не соблюли порядок, вот душа его и являлась.
– Выдумки все это, – сердилась мама. – Бабушка была взволнована, потрясена, вот ей и показалось, что ее кто-то зовет…
Может, оно и так, только и бабушка при своем уме, уверяет, истинно все было, несколько раз являлся. Врать-то ей незачем. Может, и есть бесприютные души, встают из гробов. Или с того света являются.
Днем не страшно через кладбище. Идешь, и никакого внимания. А ночью, особенно осенью, когда темнеет рано, дорожка только сереет, а кругом – тьма, ветер как пройдет по кустам, они шевелятся, будто кто возле них вздыхает, шепчет что-то. То крест как-то странно поведет себя: вдруг вроде в сторону подастся, того и гляди, встанет за ним кто в белом… То затемнеет что-то зловеще впереди, двинется.
Идет Алеша, замирает, только вперед смотрит, не знает, пришло время камни хватать или крестное знамение сотворить, как бабушка учила. От нечистой силы обороняться.
Не любил он кладбище ночью. А другой дороги не было. Тут самая прямая и близкая. Ходил. Мама убедила: «Ты – храбрый мальчик. Ты уже понимаешь: человек умер, и его нет. Одни кости остаются. Как ты думаешь, кости вставать могут?» Всякому понятно: нет.
Он и хлопцев в этом уверял: ничего не боится. А про себя знал: опасался. Но так как через кладбище один ходил, значит, действительно не боялся. Значит, храбрый.
Кладбище кладбищем, а шапку Алеша все же сдвинул, ухо приоткрыл, наставил его под ветер: о чем таком важном хотел дядько Микола Бессараб поговорить с татусем втайне.
Беспокойный, видно, шел разговор, трудный, невеселый. Микола Бессараб ни на шаг от татуся, то с одной стороны, то с другой что-то доказывает. Правда, спокойно. Без крика. Настырный дядько: говорит, будто командует.
Никак Алеша не уловит, про что разговор. Тихо говорят. Татусь пятый окурок в снег метнул. «Пушка» назывались папиросы. Были еще «Наша марка», в картонной красивой коробке, татусь их брал, когда в гости собирались.
Замолчал татусь. Бессараб к нему и так и сяк. А он молчит. Словно и языком пошевелить не может: как будто не он про Зеленый клин, про этот далекий край вот только что складно выпевал.
А может, замерз. Как-никак не лето. Алеша и то на месте уже начал сапогом о сапог постукивать, подпрыгивать. Так у него пальто какое: на вате, с воротником, – никакой мороз с ветром не страшен, а у татуся старенькое, осеннее называется, на рукавах все вытерлось, бабушка плачется: нет чтобы себе, так все ее ублажает да детям, а о себе и байдуже.
– Ничего, сынок, перебегаю, – бодренько объяснял татусь, – корову же с тобой прошлым летом ездили торговать – знаешь, сколько денег ушло, бабушка про то, видно, забыла. Перебегаю эту зиму, а там денег соберем, я себе такую шубу справлю!..
Бегать, может, и ничего, а когда вот так на одном месте… Да на ветру с морозцем. Губы вон у татуся прямо задубели, не шевельнет ими, уголки вниз сползли – пристыли, даже шапка – высокая смушковая шапка – потеряла свой бравый казацкий вид, сдвинулась набок.
Не узнает своего отца Алеша. Какой-то растерянный… Как будто тяжкую ношу взвалил на него Микола Бессараб, и он – ни с места.
И жалость, пронзительная сыновья жалость опаляет Алешку. Чего он слушает этого Бессараба. Сказал бы: «Отойди» – и домой. Алеша волчком на Бессараба – и к татусю:
– Пойдем домой… Будто не услышали.
– Не-е, Хомич, про то не кажить. Вы хоть и учитель, а хозяйство на вас… А маты… вона вас послушает. Вы ж нам давно про то говорили, объединяться, мол, гуртом и пана добре бить… Подошло время… Вам самому и надо пример показать.
Лицо у Миколы Бессараба в желваках, не поймешь, посмеивается или сердится, глаз от татуся не отводит, голос въедливый.
– Домой пора! – вновь решительно вклинивается Алеша.
И тут впервые татусь взглянул на Алешку. Как будто просыпаться начал. Узнавать. С трудом начал размораживать глаза.
– Сейчас идем, сынок, – сказал. Положил руку на плечо сына, словно тот ему опора.
– Сколько же нас наберется? – спросил у Бессараба, как о решенном.
Бессараб так и понял.
– С вами девятнадцать хозяйств. За нами потянутся. Побачите. Агитнем, нажмем. Главное – основатели есть, як это у вас по-ученому: и-ни-циа-то-ры, – выговорил по слогам. Прижмурил глаз, подмигнул Алеше. На том и разошлись.
– Коллективизация начинается, – ответил отец на вопрос сына.
– Чего? – Алеша даже остановился. Слово непонятное – впервые слышал.
– Все вместе будем хозяйничать. Это хорошее дело, сынок. Легче жить станет. – И словно сам с собой: – Не рановато ли?.. Машин мало. С тракторов бы начать.
– А трактор что такое?
– Машина такая. И пахать на ней, и молотить. Один трактор двадцать лошадей может заменить.
И вновь засомневался татусь, загоревал почти в открытую:
– Поймут ли люди? Каждый в свое вцепился, как собака в кость. Землю надо объединить, хозяйства вместе свести… Лошадей отдать…
Алешка первый не понял.
– Хлопчика отдать? – потрясенно выкрикнул он. До него только сейчас дошло, что это и их касается. С них начинаться будет.
– И Хлопчика… – потухшим голосом подтвердил татусь. – Не нам одним… Знаешь, сколько коней будет, когда все сведут. Полная конюшня.
Алешка вцепился отцу в рукав.
– Хлопчика я никому не отдам, – отрубил.
Он мог так – упрется, не сдвинешь. Бей, казни – на своем будет стоять.
Татусь промолчал.
Надолго забыл Алеша про Зеленый клин – крестьянский рай.








