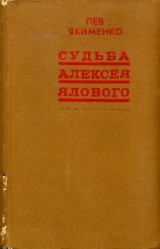
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 37 страниц)
15
Вторую ночь подряд дверь в палату – со стуком, нараспашку, бесцеремонный топот сапог, шумное дыхание…
Щелчок выключателя как пистолетный выстрел. Режущий свет прорывался сквозь веки.
– Ну как? – чей-то дремотно-любопытствующий голос с дальнего конца палаты. Не спалось или поджидал.
Самодовольный хохоток, в ответ громкое, властное:
– Чего как? Порядок, как в аптеке. У меня не сорвется.
– Ну, язви тя, ходок!..
Яловой с трудом раздвинул набрякшие веки. Но разглядеть как следует «ходока» так и не смог. Что-то смуглое, черное, гибкое протопало по палате, рухнуло на кровать так, что взвизгнули все пружины. Полетели на пол сапоги, с шумом пошла с плеч гимнастерка…
Будто тяжелая плита придавливала Ялового, его распластанное на спине тело, вгоняла в подушку перебинтованные голову и шею. Тело судорожно сжималось, проваливалось во тьму, в немую муку. И вновь подходила откуда-то спасительная волна, поднимала, выносила… И тогда Яловой слышал хрипловатое дыхание соседа, стук графина, бульканье воды в стакане. «Ходок» пил, всхрапывая, как загнанная лошадь.
– Нельзя ли потише, – попросил Яловой. – И свет выключите, пожалуйста!
– Что? – «Ходок» вскочил с кровати. Разгульный, хмельной, яростный. – Кто там пищит?
– Перестань безобразничать! – Яловой напряг голос.
– Ты мне будешь указывать! Да ты кто такой! – «Ходок» кричал, не смущаясь поздним часом, не остерегаясь тех, кто успел уснуть и теперь разбуженно ворочался на кровати, и тех, кто не спал и слышал все с самого начала.
Все ему было нипочем. На все он плевал.
– Да ты знаешь, что я отсюда вот прямо на фронт и сразу на горяченькое… А ты здесь будешь отлеживаться, нянек-мамок звать, чтобы тебя из ложечки кормили, сопли подбирали, клистир ставили. И ты меня будешь учить!
…Неужели он не видел, в каком состоянии принесли Ялового в палату с вокзала? Неужели не понимал, на кого он сейчас замахивался? А может, не хотел глядеть? Понимать. Знать.
– Какой же ты!.. Попался бы ты мне… – голос Ялового прерывался. – Встретились бы мы с тобой пораньше!..
– А-а-а… Так ты, видно, из тех, кто с пистолетиком позади, за чужими спинами: «Вперед!» – «Ходок» прямо взвился. – Вякни еще только слово…
В палате разбуженно загудели:
– Хватит вам! Сцепились, что петухи!
– Что раскричался, Селезнев? Погулял – угомонись…
– Дайте спать людям…
Но свет еще долго горел в палате, пока Селезнев ходил по своим делам, вытирал руки полотенцем, складывал и упрятывал под матрас форму.
Слезы бессилия, жалости к себе душили Ялового. Кажется, никогда после ранения не чувствовал так Яловой всей муки беспомощности. Своего унижения. Будто его топтали грязными сапогами, каблуком придавливали рот, наступали на глаза… И он не мог себя защитить, отстоять!
Его рука, бессильно лежащая вдоль также бессильного неподвижного тела, его ладонь на мгновение ощутила рубчатую холодноватость пистолетной рукоятки. В полубредовом сознании воспаленно мигнуло, пробежало, заполонило судорожное мстительное чувство. Почудилось, убил бы в ту минуту!
Казалось, не дрогнула бы рука. Потому что против него был не человек. Бандит. Бешеная собака, сорвавшаяся с цепи!
И вдруг (из каких далей?) неслышно возник и присел на лихорадочно вздрагивающую кровать Великий Старик. Жестко выпирающие скулы. Библейско-мужицкая борода. Хмурые осуждающие глаза.
Какую правду знал он? Почему привел Андрея Болконского после смертельного ранения на Бородинском поле к прощению всех? Анатоля Курагина, обидчика своего, простил со смирением и умилением. Прощать всех, прощать врагов своих… В себе находил Лев Толстой или думал, что так будет лучше людям, если все будут прощать, не останется зла и неправды на земле? Но если тот, кого ты прощаешь, плевать хотел на твое смирение? Если в твоей готовности терпеть увидит слабость, а не силу и еще с большей лютостью накинется на тебя. Будет давить, унижать!..
Что же, и в этом случае подставь левую щеку, если ударили тебя по правой?
Есть ли безусловный нравственный закон, который мог бы объединить всех людей?
Творить добро и одно добро? Разве не платили гнусным злом за святое добро!
Может, смерть и уравнивает всех, но в жизни, пока ты еще дышишь, пока ты еще сознаешь себя здесь, по эту сторону, смирение перед наглостью и силой может породить только страдание. Для всех, кто не хочет или не может противостоять.
Не сдаваться и не смиряться! Перед жестокостью, силой, наглостью. Растопчут, если поддашься. И не только тебя. Всех. Добрых и смиренных.
На следующее утро Яловой попросил сестру вызвать главного врача госпиталя.
– Не связывайтесь вы с Селезневым, – шепнула сестра. – Он какой-то… Не в себе… Мы все его опасаемся. Хотя бы скорее его отправили!
Яловой сказал, что он непременно хотел бы поговорить с главным врачом.
К вечеру, когда отоспавшийся Селезнев вновь отправился «на волю», к Яловому подошел начальник отделения. Маленький, желтый, сморщенный. Язва у него была, что ли? Он сидел на краешке стула, рот страдальчески поджат…
– Вы потерпите, – сказал начальник отделения. – Мы его скоро выписываем. И действительно прямо на фронт. По его просьбе, заметьте! Могли бы мы его поприжать. Ну, а смысл какой? Он дважды в штрафниках был… И дважды возвращал себе звания и ордена. Ожесточенный человек. Покромсали мы его тут, кишочек ему повырезали. Контузия у него была… Может, вас в другую палату перевести? Напрасно вас сюда положили. Здесь выздоравливающая команда. Вот и даем поблажки.
Но прежде чем его перевели в другую палату, Яловой еще раз повстречался с Селезневым.
Заявился тот поздно, часов в двенадцать ночи. Да не один, с дружками.
– Где тут жалобщик? – закричал от порога. – Колька, хватай за кровать, потащим в коридор! А то и во двор, прямо к нужнику!
Один из его спутников, тот, что постарше, схватил майора за руку, начал что-то ему нашептывать.
Селезнев отталкивал его плечом, разгульно выкрикивал:
– Мать вашу всех! Сюда бы моих ребят, я бы поднял трам-тарарам в городе! Мы бы шуганули тыловичков!
На кровать к Яловому подсел горбоносый лейтенант с хищноватым вырезом ноздрей. Из тех, что вернулись вместе с Селезневым. Дохнул водочным перегаром, примиряюще улыбнулся:
– Не серчай на нас, капитан! Селезнев так… куражится. Попугать хочет. Тут мы… на патруль нарвались. Уходили дворами, через заборы… Хорошо хоть не стреляли. Видишь, последние деньки отбываем. Скоро и обратно. А там, знаешь сам, как может обернуться. Кому же неохота погулять напоследок!
Ни в одном госпитале подобного не встречал Яловой. Только впоследствии понял, в чем дело. Последние недели доживал госпиталь в тыловом городе. Вот и разболтался порядок. Раненых выписывали, сортировали, переводили в другие госпитали.
– Прощаться пришел, капитан…
Помялся у кровати. Пригладил рукой ежик волос – не успели отрасти как следует. В госпиталях всех пускали «под нолик». Уже в полном обмундировании. На плечах – гостевой халат. Переминался с ноги на ногу. В поношенных выцветших сапогах со стоптанными каблуками.
– Михаил Афанасьевич, возьмите там, в тумбочке, табак для вас…
– Вроде и ни к чему он теперь. Природный свой курить дома буду. У нас табак родит.
– Возьмите, возьмите!
Больше и говорить будто не о чем. А ведь прощался с человеком, который, можно сказать, был Яловому и нянькой, и мамкой. Почти месяц.
Пришел как-то к ним в палату. Дружка разыскивал. Красноватое, продубленное солнцем и ветрами лицо. Развернутые плечи человека, который с детских лет ходил за плугом. Метал с косилки. Подавал снопы в барабан молотилки.
Поглядел, как дежурная сестрица Валя, вертлявая, курносенькая, кормила Ялового. Одну ложку супа в рот, из второй – на грудь…
Яловой сразу же:
– Хватит! Больше не буду! Не хочу!
– Нельзя так, капитан! Враз отощаете! – прогудел Михаил Афанасьевич. Подошел к кровати и неожиданно сказал сестре: – Дай-ка, сестрица, я покормлю его.
Сестра взглянула на широкие ладони, узловатые пальцы добровольного помощника, усомнилась:
– Куда тебе… с такими ручищами!
– Погляди, погляди… – лицо хмуроватое, неподвижное. А глаза поголубели.
Поправил салфетку, тарелку перед собой, ложка в руке. Проворчал:
– Молодая еще, неумеха. Пойдут дети, научишься. У меня их семь душ.
– Какой прыткий! И когда успел столько? Из себя вроде еще ничего. Видный дядя. – Сестра развеселилась. Не прочь была и глазками поиграть.
– А тут и спешить не надо. Выйдешь замуж, поймешь… Баба у меня подходящая… И пошло само собой. Как по конвейеру. Один за другим. Последний нашелся уже без меня…
Откуда у этого человека такие чуткие, внимательные руки? Не то что пролить, капли не уронит. Впервые Яловой почувствовал, что ест с удовольствием. Раньше обед – страдание. Больше трех-четырех ложек супа не съедал. Прольют горячее на грудь, обожжет; провалитесь вы с вашим обедом!
– Помогал я своей бабе детей вскармливать, – сказал Михаил Афанасьевич. – Обучился. Практика у меня есть.
Все, что говорил и делал он, было исполнено какого-то удивительного чувства достоинства и необходимости. Хотя говорил он, пожалуй, мало. Приносили обед, и тотчас он появлялся в палате.
– Как на службу! – подшучивали поначалу.
Потрет щеку, засмущается:
– А чего… Делать-то все равно нечего.
И к Яловому с салфеткой. Как добрая няня.
Не засиживался, не задерживался после обеда.
– Покой вам надо, – ронял. – Сном всякая болезнь выгоняется.
Только и выпытал Яловой, узнал, что Михаил Афанасьевич из дальнего алтайского села. С малых лет при земле. Хлеборобы от деда и прадеда. Страстишка одна была. Пчелы. По весне, как выставит ульи, пчела начинает первый облет. Тишина такая… Веточка не колыхнется. Солнце пригревает, молодая трава пробивается сквозь прошлогоднюю листву, тянется к теплу. Пчел только и слышно. Жужжат, звенят… Благодать!
– Человеку покой нужен, – говорил Михаил Афанасьевич. – Которые суетятся, из загребущих, все им мало, перегорают быстро. И потом, к делу одному надо прикипеть. Вот хоть к земле. Или к книжке. По каменному делу, литейному… А те, которые кидаются то на одно, то на другое, у таких в руках соображения не будет. Неосновательные это люди.
Увидел как-то на тумбочке том Шиллера. Исторические драмы. Считалось, что сестра будет читать Яловому. Минут по десять раза два только и почитала… Откуда ей вырвать вольную минуту? Со всех сторон: «Сестрица, сестрица!» Полистал Михаил Афанасьевич книжку, что-то вычитал, шевеля губами. Удивился: «Тридцать лет воевали!» Вздохнул: «Сколько же годов в истории люди без войны обходились?»
Сказал:
– Зря говорят, будто мир на крови держится. Кабы все меж людьми в согласии устроить, только тогда и пойдет настоящая жизнь. А пока друг против друга с оружием или с кулаками, до тех пор и кровь будет.
И вот этот человек, который стал за последние недели родственно необходимым, в последний раз присел на стуле возле кровати Ялового.
– Доберетесь домой, напишите, Михаил Афанасьевич!
– Про что писать-то? Что доехал? Так это и так следует. Что делать буду? Известно. Обыкновенная жизнь, что про нее писать. Вот адресок оставлю. Будете в наших краях, заглядывайте.
Трудно было говорить, но Яловой начал с того, как он ему благодарен…
Михаил Афанасьевич то ли сконфузился, то ли даже обиделся. Глаза сузились, замкнулись.
– Зря про это… Меж людей все по-людски должно.
Встал:
– Не залеживайся. При первой возможности подымайся. Болезнь лежачих любит, она съедает их. На пасеку бы тебя ко мне, я бы тебя выходил… Трава у нас высокая.
На том и простились. Расстались навсегда.
…Кто бы мог подумать, что повернуться самому, без чужой помощи, со спины на бок и с бока на спину – счастье?
Он двигался. Да, пока в кровати, но он сам поворачивался. Не надо было звать нянечку, сестру. Он сам по себе, с трудом, упираясь рукой в стенку, взял и повернулся. Перед глазами поплыла голубовато-серая стена. Отдышись, лежи себе на боку, изучай. Надоест, возьмешь и повернешься. Отдыхай на спине. Сам себе хозяин.
И другое. Как ни закатывай в потолок глаза, а все же начал отходить, и всякий раз сжимался, когда сестричка или няня, хорошо, если пожилая, а по военному времени большей частью молоденькая, в самой девичьей поре, бесстрашно откинет простыню – подвинет «утку», верши свое дело, солдат.
Унизительна, страшна беспомощность!
Да и девчонок жалел. Несладко им приходилось. Они тоже страдали.
А теперь он сам себе казак. Никто не кормил. Ложку рукой удерживал. С перерывами, с отдыхом, но ел сам.
Мама рассказывала, в детстве его любимое слово было – «сам». Увидит кого, сразу с рук, кроха, ходить только начал: «Я – шам».
Приходилось начинать с этого: «Я – сам».
Подошел и для него колокольный праздничный день.
– Что, вставать будем?
В палату влетела сестричка, полы халата развеваются, вся улыбчивая, как солнышко.
Яловой сидел на кровати. В одних кальсонах. Бязевых, рудоватых, застиранных до чрезвычайности. Провалившиеся глаза. Худое заострившееся лицо. Но он сидел. Держался, как на шаткой палубе. И не падал. Поднапрягся и сел. Без посторонней помощи. Босыми ногами впервые за эти месяцы ощутил шершавую прохладу пола.
Кто-то сказал сестре об этом: встал, мол, капитан! Прибежала. Молоденькая. Умела еще радоваться за других.
– Халат, тапочки нести?
На месте не стоит, пританцовывает.
Голос сестры глохнет, угол палаты начинает поворачиваться, ползти вверх, Яловой валится в постель.
Холодный пот по спине. В голове – звонкое кружение.
– Отдохну, – говорит он сестре. – Встанем, пойдем.
Если правда, что человек произошел от мохнатого четвероногого предка… Как же, должно быть, трудно было ему подняться, встать на ноги, удержаться! Тут три месяца полежал, а там с изначальных времен на четвереньках.
Поднимись! Заставь себя устоять!
Все плыло, кружилось перед глазами. Непрочный мир колебался под ним, уходил из-под ног; кровати поехали перед глазами в разные стороны; стена то клонилась, то ползла вверх.
И все же он устоял. Двинулся. Почти повис на бедной сестричке, левая нога не слушалась, отставала, шлепал правой. Засекалась она, цеплялась за ровный пол. Левая рука вывернута, ладонь наружу. Будто подаяние просила.
И все же он двигался! И видел все совсем по-другому. Ему вдруг открылась необычная прелесть пространства и глубины. Скошенный мир выровнялся. Он теперь мог взглянуть на стол сверху. Увидел раскрытую книгу. Графин с водой. Мутноватая сверху, подсвеченная солнцем.
Ноги подламывались. Непрочные, нестойкие, они как будто состояли из одних костей. Шел, как на деревянных ходулях. Едва-едва передвигал их. Рухнул на ближнюю кровать.
Подскочил кто-то из раненых, подхватил с другой стороны. Вместе с сестрой помогли добраться до своей кровати. То ли несли, то ли помогали двигаться.
Один из самых великих дней в его госпитальной жизни!
16
Как тяжелый ледокол прокладывает дорогу во льдах, так и в госпитальных условиях, среди страданий, операций, холодного отчаяния и слабого света надежды, в этих невозможных для человека условиях, как только отступала смерть, прокладывали себе дорогу всевластные законы человеческого бытия.
Тяжелые ранения, болезни уравнивали всех лишь поначалу. Каждый возвращался к жизни или терял веру в возможное возвращение по-своему. В госпитале, как и везде, были свои мученики и праведники. Светлые герои. И ожесточившиеся в неверии. Были и ловкачи, а то и шкурники, которые из самого своего несчастного положения стремились извлечь наивозможную выгоду для себя.
Барахтался в кошмаре. Шел по целине. Слепил блеск снежного наста. Откуда-то из оврага выскочила собака. Понеслась прямо на него. Он отбивался ногами, крутился на месте. Она наскакивала с разных сторон. Прикрывал руками шею и лицо. Черная длинная собака осатанело подпрыгивала. Мотались оттянутые красные соски. Раззявленная пасть с острыми клыками у самого лица. Упал. Тут же вскочил. Увидел на рукаве полушубка вырванный клок. Собака вновь беззвучно мотнулась, резкая боль по всему телу, на снег капнула, задымилась кровь; он отчетливо видел расплывающееся яркое пятно. Очнулся. Притушенный синий свет лампочки у двери. Голые облетевшие ветки темных деревьев за окном. Простонал. И сейчас же угол подушки в рот. Загнал, как кляп. Удушил рвущийся крик.
К рассвету забылся. Освобожденно задышал. Впервые за эти месяцы увидел во сне Ольгу Николаевну. Да так явственно, так отчетливо. Будто расстались только вчера и вот теперь свиделись снова. Она возникла на пригорке среди желтовато отсвечивающих стволов высоких сосен. Медленно приближалась, помахивая рукой с отставленной назад, по-детски, ладошкой. В синей юбке, в той своей нарядной белой блузке – пламенела вышивка по рукавам, вдоль ворота. Но почему-то босая. Его больше всего поразили неправдоподобно белые, скользящие по песку ноги. Голос ее услышал: призывный, вздрагивающий, но какой-то приглушенный, будто летел он из потрескивающих разрядами далей:
– Алеша, давайте побегаем.
Яловой – со смешком, со всхлипом, про себя: «Не то что бегать, а и ходить-то теперь не горазд»; шлеп да шлеп, пока доковыляет, «дошкандыбает», как говорят на Украине…
Вдруг она оказалась рядом. Протянула руки, длинные пальцы коснулись его плеч, дрогнули ресницы, прикрыли глаза ее… Упруго поднявшаяся грудь коснулась его, она безвольно привалилась к нему. Болезненное желание обожгло его, он еще успел подивиться ему – после всего, что случилось…
Он вновь увидел ее уходящей вверх по пригорку. Босые ноги не касались земли. Они потемнели, почему-то в ржавых пятнах… Ни разу не оглянулась…
Глухое ранящее чувство невозвратимой потери. Он порывался остановить, вернуть. Не мог крикнуть. Щемящее удушье сдавило горло.
Как она вновь оказалась перед ним? Будто с разгона натолкнулся, увидел: немо распростерта на земле – заострившийся нос, две складки у переносицы. Скорбная неподвижность ее тела была страшна…
Очнувшись, Яловой услышал свои судорожные всхлипывания.
Слабый синеватый свет ночника. Тихий голос:
– Ты что? Войну переживаешь?
Сосед Николай Александрович свесил голову со своей кровати.
Яловой с трудом глотнул – не отпускало удушье. Помотал головой: другое. Край подушки мокрый от слез.
– А я вчера видел такой сон! – Николай Александрович почмокал губами, – Будто я – мальчонка, в ночное мне ехать, лошадь ловлю. Рыжуха у нас была, еще до коллективизации. Характерная кобылка, без приманки не обратаешь. Да-а… Я кусок хлеба ей протягиваю, она губами берет, только я с уздечкой к ней – она головой мотнет и в сторону. Да так проворно отскочит, знаешь, как собака. И такое зло меня взяло. Кнутом ее как стегану: получай, стерва неподатливая! Проснулся, весь от дрожи захожусь, подвернись кто, кусать бы начал…
Потом в соображение пришел… Где. Что. По какому случаю. Думаю про себя: что же это? Малость такая во сне привиделась и в горе привела. Что там Рыжуха! Тут, можно сказать, жизнь вся…
Голос его сорвался. Резко скрипнули пружины. Спиной к Яловому, лицом к стенке. Замолчал.
…Каждое утро по тому, что перед ним: одеяло, приподнятое плечом, слежавшиеся темные волосы на затылке или худое лицо со сторожкими глазами, – угадывал Яловой, в каком сегодня настроении его сосед.
Николай Александрович Соловьев был госпитальным старожилом. Почти все врачи, сестры, нянечки знали его. В начале сорок третьего года его привезли из-под Сталинграда. С того времени и оставался он в госпитале. Для одних – Коля, для других – Николай Александрович.
Если отворачивался к стене, лучше было не трогать. Высокий надломленный голос:
– Что вы мучаете меня! Оставьте в покое. Я всю ночь не спал.
Отказывался от еды, отрешенно затихал на своей кровати.
Кричал сестре, которая, тронув его за плечо, показывала на шприц:
– Хватит! Всего искололи. Живого места не осталось. Подохну и так!
Голос из-под одеяла, от стенки, как из могилы.
На два года уложи здорового человека в больницу – пропадет. Даже если будет знать, что непременно выйдет. Не горше ли тому, кто жил надеждой и медленно день за днем терял ее, потому что видел, как уходили его соседи – и те, кто поначалу «потяжелее» были, и те, кто «полегче», – одни бодренько, на своих ногах, другие с сопровождающими – отправлялись на свои гнездовья, а он все оставался в углу на постылой кровати. И надежда капля по капле оставляла его в то время, когда он смотрел на тех, кто приходил прощаться, отчужденно-незнакомый, в военном обмундировании, в тяжело ступающих сапогах, провожал их, и глаза у него – как у подбитой птицы, которая прощалась с отлетающими в родные края побратимами.
А потом прощаться перестал. Отворачивался к стенке. Видеть не хотел.
Отпускало, полегче становилось – преображался.
Парикмахер, старый, с трудом ковыляющий на согнутых ногах, Михаил Моисеевич, которого занесло военным ветром в этот волжский город откуда-то из Белоруссии, шел к нему первому. Готов был брить, как лежачего, в постели.
Николай Александрович взмахивал рукой.
Как всех. Встану.
По-ребячьи ломкий голос.
Подпрыгивая на одной ноге, добирался до стула, усаживался.
Сквозь расстегнутый ворот бязевой больничной рубашки просвечивала худая выпирающая ключица. Не лицо – просквоженный страданием лик, на котором одни глаза обретали житейски-заинтересованное выражение.
Тут уж соблюдалось все, что, по понятиям Николая Александровича, требовалось знающему себе цену клиенту. Входило в «культурное обслуживание». Горячие салфетки – компресс. Массаж с кремом. Одеколон. Слегка припудрить.
И в эти минуты, когда он поднимался со стула, довольно посапывая, угадывался ухажеристый в прошлом парень, который переехал из деревни в поселок, работал на железнодорожной станции, кой-чего «поднахватался», но по праздникам не прочь был достать из материнского сундучка гармошку и – на улицу. «Пошухарить» с приятелями.
Психология и подвела Ялового. Угадал: действительно играл на гармошке Николай Александрович. Решил подбодрить соседа. Достала сестра, принесла гармошку в палату. Яловой насел, уговорил Николая Александровича. Перекинул тот через плечо ремень, развел мехи, тронул клавиши. Затрясся весь, откинул гармошку, сам – к стене, одеяло на голову.
Неделю ни с кем не разговаривал.
Остались как-то с Яловым в палате. Остальные все, кто мог, спустились вниз в зал на какой-то концерт. Повернулся к Яловому, приподнялся на локте.
– Ты вот скажи, капитан, ты грамотный вроде, в институте философии учился, скажи, почему люди фальшивят друг перед другом. Врачи, например. Вьются, внимательные, обходительные: «Коленька, Николай Александрович», а я вижу, по глазам их вижу, пустые они у них: ничего сделать не могут. Нет таких лекарств у них. И рукой бы махнули, да… На помойку пока не выписывают! Человек как-никак. Воевал. А до того дела нет, что я, как собака, которая подыхает на перекрестке. На глазах у всех. Нет того, чтобы кто набрался смелости… Из жалостливых… и прибил бы. И собаке бы хорошо. И другим-прочим… глаза перестал бы мозолить.
Яловой медленно приходил в себя. Последние дни режущая боль в шее выжимала все силы. Ни сесть, ни лечь… Покряхтел, промычал:
– Зачем ты сам себя травишь… Всем тут достается.
– По-разному. – Соловьев откинулся на подушке, глаза в потолок, левая нога поджата – не распрямлялась она у него – коленкой оттопыривала одеяло. – Ты вот… И стонешь и гнешься, а все же выкарабкиваешься. Форму попросил, значит, намерение такое, в город выбраться. Витек, тот, который в углу, вот-вот рванет из госпиталя. Лоб пробит, отметина на всю жизнь, а все же теперь сам себе хозяин. А у меня ничего не маячит.
Помолчал. Приглушенный расстоянием, стенами, донесся гудок. Пароходы еще ходят. По утрам уже заморозки.
– Ты думаешь, я не боролся, не надеялся. Я не из пугливых. Сколько раз на костыли становился. Пройдусь, мокрый весь как мышь. Упаду на кровать: нет сил. Гниет позвоночник. То один свищ откроется, то другой. На операционный стол таскали, счет потерял. Чистили, чистили, а все без толку.
…Чем ему поможешь? Чем облегчишь, утешишь? Дураки это придумали, что люди не нуждаются в утешении. И ложь может стать правдой, если она облегчает.
– Слышь, Николай Александрович, – Яловой наклонился к Соловьеву, – вчера в перевязочной начальник госпиталя с ведущим хирургом говорил, выписали, вытребовали специально для тебя, через Наркомздрав выбили какое-то новое лекарство! Сыворотка Богомольца, что ли. Ее только испытывают…
– На мне, как на собаке, все новые лекарства пробуют, – без особого воодушевления отозвался Соловьев. – Завтра колоть начнут. Потерплю. Другого не остается…
– А может, и есть такое лекарство. Для тебя… Другим – нет, а тебе, гляди, и поможет.
– Загнул ты… Лекарство не для одного человека делается.
– Делается не для одного, а помогает по-разному. К замку слесарь и то пока ключ подберет, а тут к человеку.
– Может, и так… Лежу иной раз ночью, не сплю, прикидываю: а может, и дотерплю… Дождусь, что придумают лекарство, какое поможет. Не я же один, много нас таких.
– Лекарство лекарством, а и вера нужна. Ты про чудеса слыхал?
– Это какие в религии? Сказки про то, как Христос и прочие к жизни калек вертали?
– Не все там и сказки. Я читал где-то, что внушение и вера могут творить чудеса. Ты сам себе вредишь: вот какой я, никто и ничем не поможет. А надо убеждать себя: я встану, слышите все вы, встану! Я буду здоров! Повторять, как верующие бабки «Отче наш». Цепляйся за все, старайся почаще подниматься. Залежался ты…
– Сказал бы я тебе, капитан! Вот и видно, что чужая беда, она не печет! Что же ты себе не внушил, когда в коридоре полетел, колено – в кровь, на голове – шишка, до сих пор вон еще синеет. Вот и сказал бы: «Я здоров! Я здоров! Могу ходить. Падать не буду!»
– Поддел ты меня! – Яловой улыбнулся. Потер рукой колено – побаливало до сих пор. – Только я не о том. Скажи, вот встал бы завтра, выписался из госпиталя… Чего бы тебе больше всего хотелось?
– Не заманивай ты!.. Мне хорошие сны уже все переснились, остались одни плохие.
Безрадостный надорванный голос.
– Не слыхал про то, как ко мне жену выписывали? С год, наверное, назад. Я тогда петушком начал было. Меня даже в театр уговорили. Оперный тут поблизости. Допрыгал я на костыльках. До конца не досидел. Мура какая-то, про что поют, слов не разберешь. Да и сидеть долго невмоготу.
Начались ко мне всякие подходы. Не хотите ли, Николай Александрович, обстановку переменить, например домой… Заботы всякие… Бывает, что на пользу. Хуже станет, вернетесь, примем. Поманило меня, мечтать начал…
Речушка у нас в ветлах, вьется меж холмов, омутки там такие… Приманчивые. Разок бы с удочкой в утреннем туманце постоять – ожил бы!
Только моя баба меня умней оказалась. Начальство с ней в разговоры, а она им: спихнуть хотите, вы свое сделайте, на ноги поднимите, с дорогой душой возьму. А с таким куда же я? Вы же на носилках его доставите. Он как дите малое… Ему и подай, и убери, и все прочее. От него не отойти, мы с дочкой враз загнемся.
И мне об этом напрямик: они, Коля, тебя обдурить хотят. На недостатки жаловалась, по ней, правда, не видать, чтоб особо бедовала. Налитая, в полной силе баба, кожа на лице гладкая, розовая. Официанткой а военной столовой пристроилась. Дочь, говорит, справная, в четвертый класс ходит.
Вроде все разумно объяснила. Только я и другое угадал. Глазами виляла, понял, не верит, что оживу. И до того мне стало…
Долго молчал Соловьев. Молчал и Яловой. Снизу из зала донесся шелестящий вырастающий шум, разрозненные хлопки – аплодировали артистам.
– Передо мной теперь ничего не скроется, – с неожиданным ожесточением проговорил Соловьев. – Я кого хочу расшифрую, враз вижу, что таит, про что на самом деле думает.
Судорожно позевал.
– Прыгай не прыгай – через себя не перескочишь. Давай, капитан, лучше поспим. Тут мне один мудрец объяснил, до тебя на твоей койке лежал, из учителей, говорил, есть такое древнее изречение: «Пока дышу – надеюсь». Можно, сказал, и по-другому: «Пока сплю – живу».
Пробормотал, оборачиваясь к стенке:
– Солдат спит, а служба идет.
Поворочался, добавил:
– Внушай не внушай – на пустом месте веры не бывает!
Сыне наш!
Получили твое письмо. Принесло оно нам большую радость.
Мы увидели, что написал ты его сам. Буквы – в разные стороны, каракульки, видно, как дрожала, напрягалась твоя рука, а все же теперь видим, что она целая у тебя. Только слабая, а рука твоя. Мама даже всплакнула.
Покаюсь, когда получали письма, которые ты диктовал – все разными почерками, – думали, скрываешь от нас, лишился рук. Теперь видим, что не так.
Мама порывалась все к тебе в госпиталь, я удерживал: без вызовов, без пропусков сейчас никуда не проедешь. А от нас к тебе дорога длинная. Да и, главное, своими слезами, своим горем могла не помочь, а повредить тебе.
Вот и решили мы дожидаться тебя. Поверили, что скоро вернешься. Каждый день говорим об этом. Как врачи? Когда обещают тебя выпустить?
На нас только внимания не обращай. Сообразуйся со своим здоровьем.
Ты спрашиваешь о нашей жизни. Живем, как все. Лампа у нас карбидка из снарядной гильзы, светло, как при электричестве. Сидим по вечерам возле нее, ученические тетрадки проверяем.
Вас, сынов наших, ждем. Мама собирается купить козу, чтобы тебя козьим молоком отпаивать.
Куры у нас есть. Несутся. Будут свежие яички. Забавное зверье! Хохлатка – белая курочка с высоким гребешком – увидит, как я возвращаюсь из школы, несется ко мне, летит, как собачонка.
Позавчера ходил на Черное озеро, знаешь, то, в дальней степи, камыш косить. Созрел уже, пожелтел. Рано пошел, до восхода. И вот, представляешь, с озерца взлетела на моих глазах стая лебедей.
Что-то они припоздали с отлетом. Уже лужицы по утрам ледком схватывает. Взлетали с шумом, хлопаньем. И круто забирали вверх. Уходили в небо. На взлете их подсветило солнце. Из-за горы его еще не было видно, но оно уже поднялось, раннее, красноватое. Лебеди попадали в полосу света, розовели. В снежно-розовом оперении они показались мне сказочно прекрасными.
Камыш косил весь день, допоздна. Будет чем топить зимой. Перевезем с мамой тачкой – безотказная тележка, палочка-выручалочка по нынешним обстоятельствам.
И когда косил, и домой шел уже в сумерках – все думал про вас.
Дети мои, сыновья мои любимые, белые лебеди вы, наши… Поскорее бы вы возвращались!
Яловой топал по коридору: левая нога непослушно вверх, не было силы в ней, не давала опоры, зато правой всей ступней «бу-ух, бу-ух», как конь копытом в деревянный помост, подтягивал и левую. Рука бессильно висит, вывернута по-чудному, ладошка вбок. Двигался в то место, куда и цари пешком ходили. По этому шлепанью и определяли в соседних палатах: «капитан потопал».
Не то чтоб в охотку, в страдание ему были по большей части безуспешные походы. Посидит-посидит на стульчаке – и с тем же назад. От клизм прямо тошнило. «Атония, – вздыхал врач. – Последствия. Со временем пройдет».








