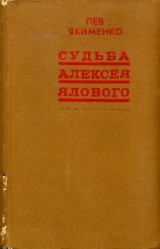
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 37 страниц)
Тут ко мне лейтенантик, заморыш такой в очках, не нашли лучше, чтобы к ним приставить. Оказывается, он за столиком сидел, книжку читал при коптилке… Поверишь ты в такое, чтобы полная изба девок, а он, сопровождающий значит, ночью книжечки читал бы! Но было, подтверждаю… Берет меня за плечо, разворачивает и за дверь. Слышу, крючок накинул.
В апреле дело было, по ночам подмораживало, на морозце я и начал в себя приходить. С лейтенантом супу не сваришь. Не в себе человек, чокнутый! Топчусь на дороге. От избы меня на аркане не оттянуть, покуриваю, соображаю, как к делу приступить.
И тут, как в сказке: «По моему хотенью, по твоему веленью…» Выскакивает какая-то на крылечко. Зырк по сторонам, нужную будочку выглядела, туда и назад. Я перед ней, ойкнуть не успела… Так, мол, и так, извините, не скажете, нет ли среди вас дальней сродственницы Валентины Красновой…
Повела плечиками: вроде такой не было, но поручиться не может, с разных мест они, у лейтенанта надо осведомиться.
И не без интереса зырк на меня. Я шинель приоткрыл, ордена на мне в два ряда, гоголем гляжу, потому как девка меня враз зацепила. Сухонькая, подбористая, зубки мелкие, веснушки на щеках, глаза синим дымком схвачены…
Сам не помню, как девку закрутил, что обещал… Видно, и ей пришелся, тайком от лейтенанта вещички свои прихватила и ко мне… В ту же ночь с Тонькой в батальон пригнали.
Начали меня таскать, политпросвет и прочие морали читать. Два раза бумага приходила. А я уперся: «Не верну Тоньку! Моя! Любовь у нас с ней. Обженюсь!» Комдив пригрозил для порядка, а трогать не велел. Разберемся после наступления.
Как ты думаешь, могут они у меня Тоньку оттягать?..
Горели подожженные «катюшами» леса. По ночам над дальними лесами вставали жаркие зарева: фашисты жгли оставляемые селения. Каждую ночь с натужным гулом на запад направлялись тяжелые бомбардировщики.
Преследовали отступающих врагов и днем. В опережающем звенящем вое низко над дорогами проносились парами истребители. Солдаты возбужденно махали руками, пилотками, кричали что-то вслед.
– Вот это война! – Сурганов провожал взглядом самолеты. – Второй день нигде фашист не зацепится. Постреляет из минометов, из пушек. Мы пальнем – и они дальше покатились. Не догоним никак…
– Зацепятся! Подходящее место выберут, в землю вгрызутся. Ты что, не знаешь их? – сказал Яловой.
– Зацепятся – сдвинем. Теперь их так турнули, до самой Германии будут катиться. Вот посмотришь, последнее лето воюем.
Маленький худой солдат, взятый поутру в плен, ошалело вертел головой, вздыхал: «О-о, русс артиллери!»
«Катюши» прошлись по обороне, огненный вихрь поднял землю, кустарники, взрывы рушили окопы и блиндажи. Солдат забился в какую-то щель, а когда опамятовался, перед ним уже стоял наш автоматчик.
Услышал прерывистое стрекотанье: «кукурузник», укрываясь за холмами, пробирался к переднему краю, – настороженно вытянул худую морщинистую шею, закатил глаза:
– У-у-у, русс фанер!
И, видя вокруг себя общее оживление, начал изображать, как ночью подлетает «русс фанер», «у-у-у-у», и вдруг звука нет, «фанер» кружит с выключенным мотором, немцы не стреляют, боятся себя обнаружить, солдаты жмутся к земле, но предательский дым с огнем из трубы показывает, где блиндаж, со свистом летит бомба… и все! – солдат откинул руки и закрыл глаза. Прямое попадание.
– Артист! – восхитился кто-то.
Солдат поклонился, разведя руки в стороны. По всему видно, был доволен, что остался живой, что его накормили и слушают русские солдаты… Что для него война кончилась.
Яловому припомнился вчерашний лейтенант. Его взяли в лесу, ночью. Он подпрыгивал, опираясь на палку, левая нога без сапога, в грязных бинтах с пятнами крови. Его вел, поддерживая под руку, веснушчатый юнец, автомат на плече, глубоко сидящие глаза загнанно шныряют по сторонам.
Лейтенант, заросший многодневной щетиной, губы в белых пузырьках лихорадки, плакал, просил позаботиться о солдате. Он – настоящий солдат. Все сволочи, вся рота, остатки ее, восемнадцать человек… бросили его, своего командира, раненного, и только один вернулся и оставался с ним до конца. Без него он бы пропал!
В отблесках костерка дергалось, кривилось его лицо, крупные слезы медленно скатывались по грязной щетине, он смахивал их ладонью в ржавых пятнах глины и копоти…
Высокий длиннолицый старшина – Яловой не помнил точно, откуда он, – подсовывал лейтенанту котелок с кашей, хлеб:
– Да ты ешь!.. И зверька твоего накормим.
И тут Яловой как будто въявь увидел тот давний февраль сорок второго года, первые бои, убитых на снегу и первого их пленного студента-фашиста. Вот так же они подкармливали его, совали хлеб. Спрашивали о конце войны… Как он ухмыльнулся, сколько же спеси было у него.
Яловой выступил из темноты, лейтенант, морщась, попытался встать. Яловой показал ему рукой, чтобы он сидел. Спросил, что думает он о результате войны.
Лейтенант схватился за голову, застонал, всхлипнул даже:
– Капут! Германия проиграла войну. Ничто нас не спасет. Если солдаты бросают своего офицера… Это поражение! Плохо будет немцам. Несчастная страна… Несчастный народ…
Говорил быстро, бессвязно, будто в бреду.
– Солдаты будут сражаться до конца. Но и чудо нам теперь не поможет. Никакое новое оружие. Гитлер не рассчитал… Со всех сторон на нас. Погибнет народ. Погибнет Германия. Голод… Болезни… Мой народ!
– Скажите ему, товарищ капитан, пусть не убивается. – Старшина подбросил ветки в костер, он задымил, вспыхнул ярче, Яловой заметил рваный шрам через всю щеку – штыком его, что ли? – Мы не такие, как они… Мы детишек, баб, стариков безвинно губить не будем. Народ переводить не будем.
– Не жалей ты их раньше времени, старшина! – веско бухнул кто-то из темноты.
Бесконечный марш. Ночью и днем. По лесным дорогам. Через речушки. По большакам. Батальоны то развертывались в боевые порядки, то вновь свертывались в походные колонны.
Фашисты пытались задержать продвижение, выбрасывая боевые заслоны. С минометами, бронетранспортерами, самоходными орудиями. Цеплялись за удобные рубежи. Но после короткого боя бросали позиции, откатывались дальше.
Алексей Яловой то уходил к артиллеристам, во второй, третий батальон, то вновь возвращался к Сурганову, батальон которого двигался головным.
Шли по затравевшему проселку. Вдали нависла лесная гряда. Сбоку в просвет било предзакатное солнце. Вдруг оно вспыхнуло на кустах одичавшего шиповника. Красные, розовые, белые чашечки засветились ярко, празднично.
В Яловом дрогнуло давнее, детское. Он подбежал к кустам и только тут увидел, что проходили они мимо того, что было когда-то поселением. Фашистские каратели сожгли деревню, видимо, давно, года два назад. Лишь бугры, поросшие бурьяном, свидетельствовали о том, где стояли когда-то избы. Даже печей не осталось. А шиповник уцелел. Хлебнул людской крови и слёз, колюче поднялся, выбросил к свету буйное цветение. Дождался своих…
Алексей торопливо сорвал один цветок, другой… Продел себе в петлю на кармане гимнастерки. Увидел девушек из санроты – Женю и вторую, с диковато косящими глазами, ее звали, кажется, Клавой, протянул им охапку. Они крикнули спасибо, засмеялись, начали прилаживать к пилоткам.
Яловой увидел, что и другие, по его примеру, выходили из рядов, подбегали к шиповнику. Цветы в петлицах гимнастерок, у звездочек на пилотках.
Почему так добрели лица при виде цветов? Виделось домашнее, незабытое. Соловьиные ночи. Светлые наличники родной избы…
И с привычной уже скорбью подумал о тех, кто жил когда-то в этих местах. Живой из них кто остался? Вернутся ли они сюда или так и зарастет по-кладбищенски суровое взбугренное поле, воскресающее летом в буйном цветении шиповника…
Все чаще попадались группы пленных.
За сожженной деревней встретились автоматчики из боевого охранения. Из лесу на дорогу они выталкивали пленных, строили их в колонну. Неожиданно, непонятно откуда, вынырнули штурмовики. Мрачно-зеленоватые, огромные, с красными звездами на крыльях, понеслись вдоль дороги с буревым оглушающим воем.
Пленные панически рванулись в разные стороны, попадали в кювет, закрывая руками голову, поползли к ямкам, пытаясь в них укрыться…
Автоматчики кричали: «Назад! Цурюк!», но страх был так силен, что не помогали даже предупредительные выстрелы.
И лишь после того, как один за другим над дорогой прошла шестерка штурмовиков, автоматчикам удалось собрать пленных. Немецкие солдаты неловко улыбались, отряхивались, знобко ежились…
– Во-о научили бегать! Резвее зайцев, – глаза Павла Сурганова в недобром прищуре. – Слыхал, они наши ИЛы «летающей смертью» называют. Теперь поверю. От одного вида, считай, добровольно на смерть кинулись. Свободно могли мои ребята их всех из автоматов порезать.
Повернулся к Яловому. Потряс сжатыми кулаками.
– Отливается им сорок первый! За все, что претерпели!
Неужели и впрямь скоро конец войны?..
Хмельное радостное чувство кружило голову.
И тут же приказывал себе не думать о том, что могло быть за тем рубежным днем. Надо было еще дожить до него. Надо было еще дойти, завоевать его.
Случилось так, что на короткий привал подвернули к лесному озерку среди сосен. Что тут началось! Друг перед другом, кто быстрей разденется, бултых в воду. Яловой среди первых. Обожгло, дохнуло прохладой. Поплыл среди кувшинок. Повернулся на спину, задышал часто, освобожденно.
Услышал крики. По берегу носился носатый майор, начальник штаба, грозил пистолетом, требовал к себе командира. Оказывается, был какой-то приказ: нельзя купаться в незнакомых, не обследованных санитарной службой водоемах.
Яловой медленно оделся, отошел подальше от сутолоки и гама, прилег под высокой, дремотно дышавшей сосной, прикрыл глаза.
Впервые за эти суматошные дни подумал об Ольге Николаевне. Как прощался с ней. Выпросил коня у командира полка, получил разрешение на короткую отлучку. Дивизия проходила мимо штаба армии.
Алексей увидел Ольгу Николаеву издали. Она торопилась, почти бежала. В гимнастерке, юбке, волосы развевались, не успела или не захотела надеть берет.
Обняла. Припала к плечу.
– Мы уходим. У меня минут пятнадцать, не больше.
– Я знаю, – бормотнула невнятно. – Мне вчера сказали…
Шла рядом с ним прямая, отрешенная. За елями и соснами, у кустарника она остановилась, вопросительно взглянула на Ялового, присела на траву.
Яловой целовал ее в шею, в губы. Она прилегла, руки беззащитно вдоль тела. Алексей наклонился над ней и поразился странному выражению ее лица. В нем была покорность и опасливое ожидание. Будто она сама понуждала себя к тому, что должно было произойти, и в то же время считала: все, что может произойти, должно произойти не так, не теперь и не в таких обстоятельствах.
Болезненный укол обиды, ревности оттолкнул его, поднял. Ольга Николаевна села, охватила колени руками, качнулась из стороны в сторону:
– Господи, почему мы такие глупые! Почему мы не можем быть другими?
Взглянула сквозь слезы на Ялового, всхлипнула:
– Видимся раз в три месяца… Счет ведем на минуты. Разве так можно?
И с глухой мукой:
– Ах война! Эта война!
Продел ногу в стремя, Ольга Николаевна сдавленно вскрикнула:
– Алеша!.. Подождите же, Алеша!
Припала. Голову спрятала на его груди. Тряслись плечи. Он гладил ее, бормотал:
– Ну что вы, Оленька… Не надо.
– Я сейчас… я сейчас.
Сквозь гимнастерку жгли ее слезы. Он пытался приподнять ее голову.
– Не надо… Я не плачу. Нельзя плакать… При прощании. Я сейчас… Я хочу сказать вам… Ничего не надо говорить. Не буду ничего. Я об очень важном. Я сейчас отпущу вас…
Шла рядом. Держалась за повод. Конь косил на нее темно-фиолетовым глазом.
Кинула руки на плечи. Исступленный шепот. Возле самого уха:
– Если можно, поберегитесь. Не лезьте вы… Не надо… всегда впереди.
На коне верхом, оглянулся. Стояла у двух молоденьких раскудрявившихся березок. Голова с наклоном вперед. Провожала глазами. Не отрываясь глядела ему вслед.
– Отдыхаем или как?
Травинка игриво прошлась по губам Алексея, щекотно полезла к носу.
Алексей чихнул, открыл глаза.
– Будьте здоровы! – со смехом.
Возле него присела на корточки сестрица из санитарной роты – Клава. Дремотная хмарь в косящих глазах, проступающий румянец на смуглых щеках.
Глухо, с перебоем ударило сердце. И Яловой потянулся к ее коленкам, тронул их. Клава послушно села, прилегла рядом. Все вершилось в оглушающей тишине.
Яловой наклонился над Клавой, по глазам ее прошла мутная волна, она прикрыла веки.
– Ты чего, – бормотнула она, – еще чего вздумаешь…
И, будто против своей воли, руками захватила его шею, потянула к себе.
– Ка-пи-та-на Яло-во-го к «первому», капитана Ялового…
Между деревьями мелькала солдатская гимнастерка, били сапоги по обнаженным корневищам, неслось громкое, приказное:
– Капитана Ялового к «первому»!
Клава оттолкнула Ялового, рывком села, ворот гимнастерки расстегнут, в глазах злые слезы.
…Яловой шел к «первому» – командиру полка, вздрагивая от несхлынувшего напряжения, даже зубы постукивали – будто сразу на мороз, и не мог опомниться, прийти в себя. Наваждение какое-то!
Что ее повлекло к Яловому?
Как-то по прибытии в полк, недели две прошло, Яловой занемог. Ломало всего, лихорадило… Пошел в санчасть, температуру измерить, попросить что-нибудь из лекарств.
Вот тут он впервые и увидел Клаву. В белом халате, подвязанном цветной лентой, в шлепанцах. Она молча подала термометр.
Яловой расстегнул шинель, сунул термометр под мышку, присел на скамейке.
Клава сновала по влажноватому, промытому до желтого блеска полу, наклонялась над столиком, ворот у халата расходился, воровато приоткрывалась ложбинка между смутно белевшими грудями.
«Фу-ты, черт, да она без платья, что ли… В одном халате», – тягуче подумал Яловой, отвел глаза.
Было жарко, глуховато шумело в голове.
Клава бегло взглянула на поднявшийся столбик термометра, встряхнула его. Яловой стоял посреди избы, не уходил. Клава приблизилась к нему, что-то говорила об аспирине, о малине. Непонятный туманный взгляд. Лениво подняла руки, положила ему на шею.
Стояли друг подле друга, не шелохнувшись.
Стукнула дверь, в избу шагнула медсестра. Неловко попятилась назад, засмеялась, подбежала к столику:
– Я на минутку! Сейчас уйду!
Клава дремотно сказала:
– А чего тут? Нечего тебе и уходить.
Неторопливо расцепила руки, отошла от Ялового…
С тем и разошлись. Больше Яловой не показывался в санчасти, избегал даже. Да и Клава вроде не искала встреч с ним. Неловкое что-то казалось ему в том внезапном порыве, в напряженном желании.
И вот теперь снова…
Чудился ему укоризненный взгляд Ольги Николаевны издалека.
Почему и для нее, и для него оказалось невозможным перешагнуть через рубеж тогда, при прощании? И почему таким обнаженно простым и возможным показалось все с этой, почти незнакомой девчонкой?
– Странные дела твои, господи, – растерянно бормотал Яловой. Все никак не мог прийти в себя. Вспомнилось грубовато откровенное выражение из одной старинной книги: «И тут свершилось восстание плоти». Засмеялся.
Все чаще, все упорнее отступающие цеплялись за промежуточные рубежи.
Батальон Павла Сурганова залег среди болотистых кочек, поросших осиной, кривыми березками, низкорослыми елями. Немцы закрепились на полотне железной дороги. Их поддерживали минометы и артиллерия с дальних позиций. Самоходки били прямой наводкой. Взрывами выплескивало коричневую жижу, осколки срезали ветки. Иссеченные зеленые листья, подрагивая, опускались на землю.
Сурганов, примостившись в выемке под защитой низкорослого ельника, косясь на поднятый невдалеке взрывом бурый фонтан, кричал в трубку, вызывал «первого».
Полковник Осянин, судя по разговору, советовал продвигаться, не дожидаясь обещанной поддержки «катюш».
Сурганов, наглухо закрыв трубку, выматерился и вновь прокричал, что противник зацепился, сильный огонь, несем большие потери…
Яловой прислонился к глыбистому серому камню – какими только бурями его занесло в болото, – покусывал горьковатый стебелек, прикидывал действительные потери.
Насчет «больших» Сурганов загибал. Снаряды глубоко уходили в болотистую почву и пока не приносили особого вреда. Мины – другое дело. С глухим кряканьем они рвались наверху. Солдаты жались за кочками. Нескольких человек уже отправили в санроту. Поддерживая под руки, вели санитары; пронесли на носилках.
– Что будем делать, представитель Ставки? – крикнул Сурганов. Он бросил трубку, подобрался ближе к Яловому. Раздумчиво провел пальцами по светлым усам. – Тут-то ничего, болотом пройдем. На открытое выскочим – могут так шарахнуть! Вот чего опасаюсь. Людей зазря терять не хочется.
– В болоте сидеть тоже резона нет, – сказал Яловой.
Что-то медлит сегодня Сурганов. Даже не понять. Командир дивизии – любитель истории – на одном из совещаний назвал Сурганова «молниеносным». По аналогии с древним полководцем. Разведку боем почти всегда поручали Сурганову. На прорыв шел первым. А сегодня мнется, тянет.
– Ну подзадержимся, долго же они не усидят, их по всему фронту жмут, все равно побегут, – рассуждал Сурганов. – Через час-два и «катюши» подойдут. Тогда и двинем. Как считаешь?
Мгновенно вырастающий сверлящий вой. Яловой припал к болотной жиже. Осколки визгливо зачмокали, запели с высвистом.
– Тяжелыми бьет. – Сурганов приподнялся, на скуле грязное пятно. – Где-то у них батарея недалеко. Надо бы поискать…
Приказал телефонисту связываться с артиллеристами. Решил сам договориться с ними о поддержке. Распорядился выдвинуть бронебойщиков в цепь. Против самоходок. Батальонные минометы уже устанавливали в ельнике; ругались, кряхтели солдаты.
«Дельный, хороший командир, – думал Яловой. – А все же раньше надо было готовиться к атаке. Да и сейчас не очень-то торопит».
– С Тонькой поругался вчера, – пожаловался Сурганов. – Восстала: не хочу кое-как. Я ей – то есть как… Обидные слова такие. Я же всегда приказываю перво-наперво палатку для тебя натянуть. Чтобы никакого соблазна. А она – не буду, и все. Плачет. С утра вчера на мои тылы «мессеры» наскочили, ездового убили, двух поранило. Для Тоньки все внове, страху натерпелась, и жалко ей его. Пожилой был ездовой. Он мне, говорит, про дочку свою рассказывал, в первый класс ходит, письмо сама уже написала. Люди гибнут, а мы с тобой… Не по-человечески это. Так и ушел ни с чем.
Помолчал, последил глазами: на горизонте птичьей стайкой плыли самолеты. Не понять чьи. Откашлялся.
– Что-то муторно сегодня мне, Алешка. Как будто внутри что подпекает. Щемит. С какого такого случая? За войну всего повидал. А сейчас вроде жалко мне кого-то. Не пойму, к чему…
– Конец войны почуял, вот и уговариваешь себя, – сказал Яловой.
– Во мне, что ли, дело! – обозлился Сурганов. – Ты что, не понимаешь? Выскочим на полотно, там же все пристреляно у них, накроют, от батальона рожки да ножки останутся.
«Первый» вновь вызвал к телефону Сурганова. Зло морща лоб, комбат требовал артиллерийской поддержки. Прикрыв рукой трубку, отводил душу:
– Боится задницей пошевелить, старый хрен!.. Уже небось донес, что насыпь прошли, не хочет теперь виноватым быть. Пока не дадут огонь, не двинусь. Артполк обещал.
Сунул трубку Яловому:
– Тебя!
– Что ето-о крутит… «тридцать пятый», – полковник Осянин говорил в растяжку, что было признаком раздражения. – Ты за-а чем там смотришь? С тебя тоже спросится! Огоньку сейчас подкинем. И двигайте!
Сурганов поправил на груди автомат. Невдалеке шарахнула мина, полетели с кустарника ветки и листья. Он даже не покосился. Лицо злое, отчужденное.
– Будем поднимать, – сказал Яловой.
– Я во вторую, там зеленый лейтенантик, только из училища. – Сурганов не смотрел на Ялового, обращался к старшему адъютанту – начальнику штаба батальона.
– Тогда я в первую, – Яловой тоже поднялся.
– Нечего тебе лезть! – неожиданно высоким голосом прикрикнул Сурганов. – Сиди здесь, на командном! Отвечать за вас!..
Яловой молча двинулся вперед.
И вдруг его что-то пронзило. Он оглянулся: широкая спина Павла, прикрытая плащ-палаткой – начался мелкий дождь, – скрывалась за ельником.
– Павел! – позвал Яловой. – Майор Сурганов!
Сурганов повернул голову. Жесткие хмурые глаза.
Яловой взмахнул рукой.
– До встречи.
Сурганов нехотя двинул плечом, не любил сантиментов, заторопился.
Уже в цепи догнал их наблюдатель с двумя разведчиками и связистами из поддерживающего артиллерийского дивизиона.
Артиллерия поработала в глубину, на самоходки, перенесла огонь поближе, нащупала насыпь.
Рота, с которой шел Яловой, продвигалась перебежками. Выбрались на прогалинку, насыпь метрах в тридцати. Захлебываясь, ударил в упор крупнокалиберный пулемет. Падая на землю, Яловой успел заметить бронетранспортер в перелеске. К нему бежали, выскакивая из окопов, немецкие солдаты. Оборачиваясь, короткими очередями били из автоматов.
Гулкие удары бронебойных ружей – Сурганов загодя выдвинул их на фланг. Бронетранспортер захлопал, задымил, подал назад, начал разворачиваться.
Яловой вскочил, взмахнул пистолетом, бросился вперед. Рядом с ним тяжело топал сибиряк-охотник снайпер Беспрозваных.
Яловой увидел фашистского солдата: ворот кителя расстегнут, вздыбленные короткие волосы, розоватое мясистое ухо. Отбросив в сторону пулемет, упираясь руками, солдат выбирался из окопа. Алексей видел его напрягшиеся руки, скошенные глаза. И в то же время каким-то боковым зрением отмечал жестко затвердевшие красноватую скулу, плащ-палатку, перехваченную у горла, слышал прерывистое дыхание бегущего рядом снайпера Беспрозваных.
Может, тот и оказался в этом бою возле Ялового потому, что, по фронтовым понятиям, были они давними знакомыми. Чуть ли не с весны. Повстречались у зубного врача. Шинель торчком на широченной спине, перевязанная платком раздувшаяся щека, заплывший глаз, сипящий голос: «Простыл в засаде. Третий день… Мо́чи нет…»
…Придерживая левой ладонью правую руку, Яловой выстрелил на бегу из пистолета по убегавшему солдату. И второй раз, третий. Фашист, петляя, уходил. Почти не оборачиваясь, сбоку, из-под себя метнул гранату с длинной ручкой.
Беспрозваных плечом оттолкнул Ялового и спустя мгновение выстрелил из снайперской винтовки. Кажется, с колена.
Яловой, падая, успел увидеть, как подпрыгнул вражеский солдат, будто его стегануло, и тут же, безвольно сгибаясь, начал валиться; и почти в ту же секунду рванула брошенная им граната. Рядом. Яловому показалось, у самой головы…
Когда вскочил, земля пошла из-под ног, упал бы, если бы не подхватил Беспрозваных. Дымно, кисло несло взрывчаткой. Перед глазами цветные круги.
Издали, сквозь щелканье и гул в ушах, услышал тоненькое, комариное:
– Никак контузило…
Увидел перед собою заросшее щетиной бугристое лицо Беспрозваных, напряженно раскрытый рот. Разобрал:
– Капитан, ты меня слышишь?
Глазами показал: да! Пистолетом вперед: пошли!
Сила возвращалась. В голове гудело и саднило, как после удара, но туман рассеивался, все вновь виделось отчетливо.
Немецкие солдаты карабкались на автомашину, гудевшую на дороге. В перелеске горел подожженный бронебойщиками транспортер.
Раздался отвратительный, хриплый, повторившийся визг – ударил немецкий шестиствольный миномет, солдаты прозвали его «ишаком».
На насыпи мелькнул Сурганов. Он размахивал автоматом, видно, торопил вперед. Из зоны обстрела.
Тяжкие удары один за другим потрясли землю. Закричали раненые…
С группой солдат через перелесок, обходя горевший бронетранспортер, Яловой пробивался на дорогу, по которой уже уходили немецкие автомашины. Вдогон им били из пулеметов… Немцы отвечали редким огнем самоходок, скрывавшихся где-то за холмами.
…Яловой со своей группой первым вошел в деревню: совершенно пустую, ни единого жителя. И целую. Избы голубели фигурными наличниками. В огородах хозяйственно поднялся картофель, на грядках призывно зеленел молоденький лук.
– Гляди-ко, – удивился Беспрозваных. Он разглядывал ухоженные парники с приподнятыми рамами. – Это что же у них тут, подсобное хозяйство было? Жителей, значит, поугоняли, вроде сами хозяйничали.
Еще на подходе Яловой заметил, что деревня была обнесена проволокой в три ряда. Наверное, и минные поля шли сплошь. Лишь дорога оставалась открытой, проволочные ворота были сдвинуты в сторону. Пригляделся, нащупал глазами несколько дотов, один в низине, другой повыше, над дорогой. Бровки расходящихся ходов сообщений поросли травой. Клонились под ветром ромашки. Давние укрепления. Не иначе партизан опасались. Не давали, значит, им покоя в лесном краю.
Разъя́снилось. Проглянуло солнце. Хоть и склонилось оно к западу, все же томило по-летнему.
Видно, граната и впрямь рванула близехонько. В голове гудело, подрагивали ноги, как после непосильного напряжения. Яловой прилег на какой-то деревянный топчан у высоко поднятой на фундаменте избы с голубыми наличниками. Беспрозваных хозяйственно покричал кому-то, чтобы тот нес дрова. Ладил котелок во дворе.
…Какие же легкие белесовато-прозрачные тучи плыли в небе! Будто и не было недавней хмури, мелкого дождя. Казалось, бездонной глубины были провалы в высоте. В вечность, в бесконечность уводили они. Голова кружилась.
Пресновато пахло спрыснутой теплым дождем травой, горьковато – потревоженным луком. Посреди двора поднялся березовый самоварный дымок.
Руки, гимнастерка Ялового пропитались пороховым дымом, едким потом, на брюках – ржавые болотные пятна. Как он стрелял из пистолета! В руке его еще таилась оцепеневшая память недавнего. Слепое ожесточение. Жажда не промахнуться. Попасть…
Краешком глаза он успел поглядеть на того солдата, в которого целил он и которого срезал Беспрозваных. Мальчишески округлый подбородок, сожженные кончики ресниц, оскаленный рот. Что хотел крикнуть он в последнее свое мгновение? «Ма-а-ма!» А, видно, упорный. До последнего строчил из пулемета.
И другой солдат – в поношенном зеленовато-сером мундире, чуть в стороне от бронетранспортера. Темные стариковские мешки под глазами, остекленевшие закатившиеся зрачки, бугристая широкая ладонь.
Древние веровали, что у истоков жизни – всегда кровь. Они приносили жертвы, чтобы умилостивить богов, чтобы насытить их. Чтобы выжить – надо убить. Чтобы родить – надо умереть.
Неужели кровь как проклятие будет сопутствовать всей истории человечества? Ведь эти, хмельно уверенные в победе, в своих касках, в мышино-серых мундирах, с автоматами, – они пришли из центра Европы, из центра цивилизации. И остановить их может только смерть…
Яловой взглядывал на дальний березняк, просквоженный солнцем, на зеленеющие пригорки, на распахнутое окно с уцелевшими стеклами, и в эти минуты ему казалось, что он и все сошедшиеся в недавнем бою солдаты, рвущиеся снаряды, ревущие машины – все они вместе были пришельцы из чужих миров, потому что всему этому не могло быть места на этой земле.
Она была создана для покоя, согласного труда и любви.
– Та що вы, дядько! Нема кращих мест, як у нас на Украине. А який у нас степ… Могилы там старинные от запорожских времен. А яке сонце. А мисяц який… – молодой певучий голос от костерка.
– А девки какие ! – поддразнивал Беспрозваных.
– Дивчат краше наших нема, дядько!
– Откуда же ты?
– С Днепропетровщины.
По голосу Яловой узнал Федю Шевеля – автоматчика. Ранней весной он как-то сопровождал Ялового в штаб полка. Днем таяло, по ночам подмораживало. Похрустывал ледок под ногами.
На чистом зеленовато-звездном небе уселась полнолицая луна, насквозь просвечивала лес. Тени от деревьев отчетливо чертились на дороге. Стайки первозданно-белых берез, отходивших от зимней стужи, хмурая корявость застывших дубов, зеленоватое свечение молодых осин. Между деревьями сизовато-льдистые отблески подтаявших снегов, бурые макушки обнажившихся бугорков.
Вздрагивающий от возбуждения голос Федора:
– Вы знаете, який у нас месяц в степи… Видно, как днем. Слышали, как в нашей песне: «Ніч яка місячна, зоряна ясная, видно, хоть голки збирай»… Я прицепщиком на тракторе работал. Прибежишь вечером, вымоешься, похватаешь, что на столе, чистую сорочку на себя, чуб перед зеркалом накрутишь – и на гулянку. После школы, как пошел на работу в колхоз, так и парубковать начал. Под осокорем на углу собирались. Там осокорь такой был, верите, вдвоем не охватишь, запорожских времен, говорили люди. Дружок у меня был Колька Небаба, вместе школу после седьмого бросили, важко нам показалось вчиться, на свои трудовые хлеба перешли. Як раз перед войной он гармошку купил, сидит на пне, «Во саду ли, в огороде» наигрывает. Первую выучил. Из девчат, кто посмелее, притопывает, вроде каблуками землю пробует, парубков в круг вызывает.
Кто песню потихоньку заводит: «На вгороді верба рясна…» Другие семечки лузгают, шелуха во все стороны. Мастера такие были, как фонтан, без перерыва, все кругом себя засевали.
А я Галю выглядаю…
Припозднится она, топчешься, топчешься, места себе не находишь. За квартал угадывал. Спешит по улице, кофточка на ней такая, сама вышивала, на груди, рукавах, по вороту палахкотыть, як красный мак. Подбежит, глянем друг на дружку, а не подходим, не решались на людях. Она с дивчатами, а я с парубками.
Покрутимся, покрутимся, да и потихоньку с гулянки. Вначале она, а за ней и я. Дожидается меня под кустом терна в тени, схвачу ее за плечи, проголублю. Она дрогнет, замрет. Постоим и пойдем себе за село, в степь, на запорожскую могилу. Сядем, положу ей голову на колени, и так до самого свитанку. Утренняя звезда умываться начнет, роса выпадет, Галя меня тормошит:
– Пора, Федя!..
Вот и весь сон. Дуже счастливый я був! Галю доведу до хаты, а сам домой уже бегом. Ведро на себя холодной воды, рабочую одежду, кружку молока с ломтем хлеба – и в степь, на работу. День уже начинался, коров в череду гнали.
И счастливый же я був! Кому расскажешь, не поверят, а, мабуть, и смеяться начнут: что же ты за парубок, с дивчиной всю ночь продремал!.. А я ни про что другое… Самая радость была, голову ей положу на колени, а она пальцами волосы перебирает, рассказывает, что днем делала, кого видела, про что говорила.
Узнавал у Гали, не лает ее мать, что поздно домой вертается.
– Не-е, – засмеялась. – У меня мама добра та разумна…
Спросила только титка Одарка: «С кем это ты всю ночь прогуляла?»
– С Федей… С Шевелем…
– Счастливая пора у тебя, дытыно! Дывысь только, чтоб сама не опоганила свою радость. Пришли ко мне Федора!..
Как сказала про это Галя, на следующий день прибежал. Титка Одарка возле летней печки ухватом чугун с борщом на огонь ставила.
Глянула на меня, головой покачала:
– Ну, жених, свататься прибежал? А вот такого не пробовал! – покрутила ухватом перед моим носом, а глаза смеются.
Сказала, как отрубила:
– Гулять гуляйте, лаять не буду. Дивчину побереги, сынку. Галя еще молоденька, дурненька. Рано вам жениться. Будете решать через год, когда школу окончит!








