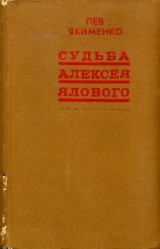
Текст книги "Судьба Алексея Ялового (сборник)"
Автор книги: Лев Якименко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
– Для чего же это?.. – спросил я.
Он хихикнул.
– Первое дело – учет…
И с некоторой молодцеватостью повел плечами.
Я сказал ему, чтобы он больше ко мне не приезжал, не хочу его видеть.
– Скажи-и какие чистюленьки, маменькины деточки… – протянул он. И враз обозлился: – Тебе как человеку, а ты… Морщится, отворачивается. Думаешь, не вижу… Строит из себя!.. Не бойся, не пристанет… Что ты в жизни можешь понимать!.. Только кому обеляться придется, еще неизвестно, – пригрозил он. Непонятно, в связи с чем.
Круто повернулся и, боком неся голову на своей искривленной шее, потопал по коридору.
Денег он так и не вернул. Уборщица его забеременела. Потребовала, чтобы женился. Он ничего другого не придумал, рванул домой.
Увидел его летом, когда на каникулы приехал. В нашем маленьком парке, в темной аллее, он деловито тискал какую-то грудастую коротконожку. Нахальство в нем и раньше было, теперь он его на людях показывал. На работу он устроился в какую-то контору, жениться вроде собирался на этой коротконожке. И это после мечтаний геологоразведочного… Не знаю, что он хотел для себя в жизни.
При редких встречах меня будто не видел. Голову набок, словно прислушивается к чему, словно по следу идет. А лицо обиженное. Постная морда ни в чем не повинного неудачника.)
– Во время войны, – рассказывала мама, – он оказался в истребительном батальоне. Даже начальником вроде каким-то был. Ходил с винтовкой, с красной повязкой, покрикивал, когда мы окопы рыли.
А потом пришли немцы. И он вдруг вынырнул у них в полиции. Мать у него в ногах валялась, просила: «Не позорь ты нашу семью!..»
Безобразничал он… Дедушку Филиппа ты знал. Тихий такой, смирный, слова никому поперек не скажет. И этот дознался, что во время гражданской войны дедушка был в Таманской армии. А его с лошадьми тогда в обоз забрали. И он действительно до Астрахани дошел. Книжечка у него была, что красный партизан. А для немцев слова страшнее, чем партизан, не было. По его слову забрали дедушку и расстреляли…
Зину Лопухову ты помнишь. Она, по-моему, в один год с тобой школу кончала. Вернулась в город она незадолго до прихода немцев. Недели за две. И такое начала вытворять. И в клубе на немецких вечерах танцует. И дома у нее офицеры, и днем и ночью. Пляски. Гулянки.
А потом взяли ее. Повесили на базарной площади. Неделю висела. Все снимать не давали. А матери-то каково… Говорят, рацию нашли. Будто она была нашей разведчицей.
Тоже люди на этого показывали. Будто он немцев на след навел.
Нам сколько раз грозил. «Ну, где, говорит, ваш идейный, – он тебя идейным называл. – Пусть только заявится». Откупались мы. Брал он и деньги и вещи.
Ходит наглый, хозяином, пьяный от власти, от страха, который внушал людям.
Мать от него отреклась. Заболела. Месяц без памяти лежала. Не зашел, даже не спросил, как она.
Но только и ему конец пришел. Ох, страшный конец! То ли на самом деле, то ли немцы нарочно так подстроили, только поймали его во время обыска на воровстве. Будто незаконно брал, с другими не делился… Посадили.
Видно, припугнули крепко. И оказался он в гестапо палачом. Людей вешал. Его возили по всему краю. Люди даже имя его боялись называть.
Мать почернела. Из церкви не выходила. Грехи замаливала. Свой грех, что родила такого…
Так он и исчез. Одни говорили, что немцы сами потом его расстреляли, другие, что вроде отошел он с ними…
Только о таком, сынок, и вспоминать, и говорить не хочется.
…Каждое лето бываю я в своем родном городке. И вот как-то вечером повстречался с матерью Петьки Козловского. На уголке. Возле широкоэкранного кинотеатра. Воздвигли его недавно на месте старого профессионального училища (во время войны немцы разобрали здание, камни вывезли на дорогу, сколько лет пустырь зарастал бурьяном). Перед входом – розы. Вокруг цветники, хотя и трудно у нас с водой, новый водопровод никак не закончат, но цветы всюду, вдоль улиц, у райкома партии, возле клуба… Нежнейшее тончайшее разноцветье. Стройный, как тополек, табачок. Настороженно приподнятые граммофонные горлышки петуний… Они дышат разморенно, сладковато, томительно – родные запахи, запахи детства и юности!..
Мать Петьки Козловского, видимо, из церкви шла. Темное платье со сборками. По-монашески строго, уголками вперед, подвязан платок. Тоже темный. Высокая, прямая, но уже рыхловатая. Я поздоровался, остановился, заметил припухшее лицо. Спросил, как здоровье.
– Какое же мое здоровье, – высоким певучим голосом сказала она. – Я уж старая бабка, Алеша, семьдесят мне скоро…
И начала обстоятельно, со всеми подробностями рассказывать, как лежала она в больнице и все не могли ей сбить давление, а голова же прямо раскалывается и круги, как радуга, перед глазами, да, спасибо, бабка Проскуриха посоветовала ей акациевый мед со столетником, месяц попила и встала. И с желудком у нее – остерегается чего лишнего съесть. И что больше года уже, как не работает, на огороде, правда, сама управляется и по дому все, а раньше на машине шила, детское разное, женское, поторговывала на базаре и ничего себе жила, а теперь всего понавозили, в магазинах все есть, и детское какое хочешь и женское, кто же будет покупать, да и руки болят, опухают…
– А так ничего, жить можно, огород свой, виноград кустов десять есть… Пенсию ж пятнадцать рублей за мужа получаю…
Собрала морщинки у глаз, пошутила не без лукавинки:
– Хватает, по потребностям, как при коммунизме… И Лелька, племянница, какую десятку пришлет, а к праздникам и к Маю, и к ноябрю, а уж к женскому Восьмому марта обязательно подарок. Вот недавно пальто зимнее, совсем еще хорошее пальто прислала. И платок ее подарок. И на платье…
Она рассказывала и словно подшучивала, подсмеивалась над собой, над своей жизнью, над своим одиночеством.
С неожиданной серьезностью, построжав, сказала:
– Нервенная я… такая нервенная!.. Веришь, стукнет где ненароком, меня аж затрусит всю… Через это и здоровье у меня никуда.
И с прорвавшейся затаенной тоской низким, стонущим голосом проговорила:
– Как вспомню свою жизнь!.. Ты же знаешь, какая у нас была жизнь. Сколько страху набрались… Мой же после артели дома чеботарил. Туфли шил, тапочки… А я торговала… Торгуешь, а сама все по сторонам, как заяц в лесу, поглядываешь, как бы фин не налетел. Боялись мы в те годы финов, налогов этих боялись, обложат как частника-кустаря, с себя последнюю сорочку спустишь, вот и хоронились. А жить хотелось не хуже, чем другие. Вот и сидит мой дома при свете, окна занавешены, чтобы с улицы не было видно, постукивает молоточком, дратву сучит, а сам прислушивается, не идет ли кто чужой… Вот оно теперь и выходит.
– Тимофеевна, вы скоро? – окликнула ее сгорбленная старушка, терпеливо ожидавшая в сторонке.
– Сейчас, сейчас… – отозвалась Тимофеевна. – Кличут меня, – протянула она, улыбнулась, – видно, красивые были у нее в молодости глаза, улыбка прошла по ним, они засветились глубоко и ясно, будто не было горя, утрат, болезней, одинокой старости. Добавила: – Женщина из станицы. В церковь приезжала. Ночевать будет. Кровать у меня есть свободная. Пускаю.
Я смотрел ей вслед. Вспыхивают голубые неоновые огни на кинотеатре. Идет картина «Вызываем огонь на себя». Сквозь темную шевелящуюся листву высоких акаций струится, переливается дымчатый нездешний свет, а повыше, в темном бездонном провале неба, вспыхивают одна за одной, все ярче разгораются звезды, и среди них справа над горой выделяется неподвижный красный глазок – там у нас ретрансляционная телевизионная вышка. Вот и телевизоры появились в нашем городке.
«А про Петьку она не вспомнила», – думаю я. И рассказывают, никогда не вспоминает. И с ней никто о нем не заговаривает.
В первые годы после войны я как-то повстречал ее мужа. Он воевал, был награжден, вернулся снова к своему ремеслу и пил по-прежнему, от этого, видимо, и умер раньше времени. Но тогда он был еще довольно крепок, с черными лихими солдатскими усиками, «выпимши», как сказал сам, но на ногах стоял твердо.
Смотрел, смотрел на меня, качал головою каким-то своим мыслям.
– Ты русский, – неожиданно сказал он. – И я русский… А он не русский. Предатель родины он!
Он согнулся, скорчился у стены, будто жгло, пекло его невыносимо изнутри, и плакал. Лающий плач мужчины. Пошел, побежал согнувшись к калитке.
А вот мать ни разу при мне не вспомнила Петьку. И дома я у нее был. Фотографии мужа, родственников. Она сама в молодые годы. А Петькиной карточки нигде нет. Будто и не жил он. Будто и на свете его никогда не было.
И мне показалось, самый страшный суд в этом молчаливом проклятии матери.
ПОСТУПЛЕНИЕ В ИНСТИТУТ
Приемом в институт ведал Кобзев. Должность его называлась: «Ответственный секретарь приемной комиссии». А вообще он был в институте то ли помощником, то ли заместителем директора по студенческим делам.
Недели две я напрасно добивался от него серьезного объяснения. Короткие разговоры на ходу, в коридоре, на лестничных площадках, по пути в буфет ни к чему не приводили. Я только и успевал – в который раз! – сказать, что без литературы мне не жить и что он, я надеюсь, чуткий человек, поймет меня…
– Разберемся, разберемся, – лениво говорил Кобзев и шел неторопливо куда-то по своим делам.
Я заметил, что он все делал неторопливо, с этакой сонной развальцей.
Я переводился из одного института в другой. Из технического в гуманитарный, на литературный факультет. И это было пыткой. «Зачем, почему? На вас государство тратило деньги!» Но разве нельзя было понять, что если я решился оставить институт, в котором успешно проучился год, то для этого были свои чрезвычайно важные причины. Неискоренимая любовь к литературе. Желание жить искусством.
Мне казалось, тот год я прожил, как птица со связанными крыльями. Чувство несвободы, насилия мучило и угнетало меня. «Должен, должен!» – заставлял, подгонял я себя. И учился. Вытягивал, поэтому меня и не хотели отпускать из института. С трудом я вымолил документы.
Мне казалось, уже одно то обстоятельство, что я совершал такой шаг, уходил из прославленного энергетического института, должно было открыть передо мною двери литературного факультета. Тем более что закончил я школу отличником и имел право на поступление без экзаменов.
Но Кобзев, очевидно, думал иначе.
В один из августовских дней он согнутым наподобие крючка пальцем выдернул меня из группки поступавших и тут же, у шумной застекленной двери, у входа в приемную комиссию, доверительно сказал:
– Ну вот, принято решение и по вашему вопросу.
И, немного выждав, добавил:
– Вам отказано.
Он вскинул глаза. Студенистые, зыбкие, – казалось, без зрачков. Они смотрели на меня скучающе-доброжелательно, с неким вопросцем, который заранее предполагал повторение уже сказанного.
У меня слов не нашлось.
Он был очень вежливый человек, этот Кобзев. Он протянул мне на прощание короткопалую жирную руку и размеренно-ленивым голосом пожелал успехов.
Я смотрел на его уверенно-хозяйский затылок, на достойно удаляющуюся спину с покатыми плечами, туго обтянутыми чесучовым пиджаком, и мне казалось, что он издевается надо мною.
Но если был ответственный секретарь, то должен был быть и председатель.
Я пошел к директору института. «Старая большевичка, иди!» – советовали ребята.
В кабинете директора пахло то ли духами, то ли цветами. Сиренью, что ли. Я волновался, цветов не заметил и споткнулся дважды на ковровой дорожке.
– О-о, снова подвернулась, – неожиданно звучным полным голосом сказала директор. Высокая и прямая, вышла из-за стола. Легко наклонилась, длинными, чисто промытыми пальцами тронула дорожку, поправила.
Я обалдело стоял возле стола и не догадался ей помочь. То есть, что надо помочь, я сообразил сразу. Но пока прикидывал, что и как, а затем восхищался простотой и демократизмом, директор, в темном английском костюме, в белой, глухо застегнутой блузке, уже была возле своего кресла. Она не очень торопилась сесть. Мне даже показалось, ей приятно было, что представилась возможность встать, пройтись, наклониться. Через много лет, когда мне самому приходилось подолгу сидеть за письменным столом, на всякого рода собраниях и заседаниях, я узнал эту радость неожиданного движения, хотя бы самого незначительного.
– Ну, так что же вас привело ко мне? – спросила она, неторопливо усаживаясь на свой стул с широкими подлокотниками. Предложила сесть и мне.
Тут я ее поближе рассмотрел. Что меня удивило, – у нее почти не было седых волос. В темный небольшой узелок собраны на затылке. И лицо продолговатое, проглаженное, без заметных морщинок. Лицо ухоженной и заботящейся о себе женщины. Никак не скажешь, что старуха. Только потом я разглядел морщины у глаз, приметил обвисшую кожу у рта…
А глаза у нее были, не в пример Кобзеву, доброжелательные, светло-голубые, со смешинкой даже.
Я приободрился и рассказал о своем деле.
– Вы напишите, голубчик, вот тут на листочке, чтобы я не позабыла. – Она подвинула ко мне деревянный кармашек с вложенными в него плотными листиками белой бумаги.
– Да нет, не здесь, а там, у секретаря. – Она улыбнулась моей недогадливости, потому что я уже было потянулся за ручкой, чтобы тут же, за ее столом, заполнить листок для памяти.
Она отчетливо произносила слова своим музыкальным, хорошо поставленные голосом, выговаривая их чуть в нос.
– Ответ узнаете у Александра Иосифовича. Он пригласит вас и сообщит.
Она кивком головы простилась со мной и склонилась над бумагами.
Я был очарован мягкостью обхождения, благородной сдержанностью, участием. И уж абсолютно был уверен, что все решено.
Кобзев проманежил меня еще две недели. Перед самыми занятиями, в конце августа, сказал:
– Мы нашли возможным положительно решить ваш вопрос. Вы зачислены на исторический.
Я был ошеломлен.
– Как на исторический?.. Я ведь только ради того, чтобы учиться на литературном…
Чуть ли не впервые я узнавал удручающее чувство беззащитности и беспомощности, властную силу враждебных обстоятельств. Словно кто-то неутомимый и враждебный воздвигал передо мною все новые и новые, казалось непреодолимые, препятствия. Кажется, до меня начинал доходить смысл поговорки: «Лбом стенку не прошибешь». Но кто и почему воздвигал передо мною эту стенку – вот что было для меня необъяснимо и непонятно.
– Я… я не согласен с вами. И вы поступили несправедливо, неправильно, против закона… – сказал я со всей твердостью, на какую был способен в ту минуту.
Но у Кобзева, оказывается, были высокие государственные соображения, когда он за меня решал мою судьбу.
– Послушайте! – сказал он. Голос его звучал веско и значительно. – Я присмотрелся к вам. Вы не знаете себя. Своих действительных возможностей. Исторический факультет подходит вам лучше всего. Вы не раз еще вспомните и поблагодарите меня.
И он удалился с уверенным сознанием своей проницательности и исполненного долга.
Я смотрел ему вслед. И жгучая тяжесть обиды, несправедливости кружила мне голову, выжимала слезы из глаз.
Я не мог поверить, что, оказывается, есть люди из той злой породы, которая находит пакостное удовольствие мучить своих ближних при всяком сколько-нибудь подходящем случае. Как же иначе можно было объяснить происходившее со мной?
Почему мне все это так запомнилось? Почему об этом я говорю?
Недавно с поэтом-сверстником мы разговаривали о нашем поколении. Он сказал: социальный идеализм, с этим мы входили в жизнь.
Может, это и так. Но я бы назвал наше ощущение мира, с которым мы входили в сознательную жизнь, романтикой революции с ее самыми высокими историческими целями.
И поэтому нас так ранило малейшее отступление от тех идеальных принципов, которые были провозглашены, хотя мы часто в ту пору не замечали, не понимали больших исторических бед, лишь по временам смутно догадываясь о них.
Но убеждение мое о торжествующей в конце концов справедливости не могли поколебать никакие Кобзевы!
Я бросился к директору.
Она умоляюще подняла чистые длинные ладошки свои, словно отгораживаясь от всех волнений и неприятностей.
– Я уже не занимаюсь приемом. У меня много других дел, голубчик. Разговаривайте с Александром Иосифовичем, только с Александром Иосифовичем.
Упрямо нагнув голову, я попытался втолковать ей, что как раз я и пришел к ней потому, что Александр Иосифович несправедлив, излишне самоуверен, когда пытается за меня…
Но я увидел, что она меня не слушает. Не хочет слушать. Она, казалось, отсутствовала, ее как бы не было.
И еще я увидел. В кресле сидела просто старая и очень усталая женщина с сиреневыми мешками под глазами, она не хочет неприятных объяснений, столкновений.
Я сразу понял всю тщетность моих усилий. Я не закончил фразу, оборвал ее, судорожно глотнув окончание слова, круто повернул к двери. Тихо прикрыл эту обитую кожей бесшумную тяжелую дверь, хотя мне хотелось так трахнуть ею, чтобы стекла из окон полетели к чертовой матери!
«Ну, если ты старая, если ты устала, зачем ты держишься за эту должность? – думал я в немой ярости, вышагивая по дорожкам парка. – Ведь руководишь не ты, за тебя управляет Александр Иосифович Кобзев. Что льстит тебе? Сознание власти? Уважение к твоей должности?»
В молодой неуступчивой запальчивости своей я обвинял самое человечество.
Почему люди так цепляются за власть? Неужели может тешить человека одно сознание того, что ему подчиняются, что ему послушны?
Откуда возникает тщеславие власти? Боязнь соперничества? Что же, извечно это стремление повелевать другими? Возвышаться над себе подобными. Оно в природе человека? Или это особенное свойство отдельных людей?
Мне казалось, что передо мной открывалась тайна одной из общечеловеческих трагедий, трагедий всех времен и социальных систем. Трагедия самого человечества.
И я не без тайного удовольствия думал о том, какие значительные и необыкновенные мысли приходили мне в голову. Не забудьте, я поступал на первый курс и мне было семнадцать лет. (В школу я пошел рано, шести лет.)
Но вскоре я переменил свое мнение о директоре.
Она приехала с Кобзевым в общежитие. Добралась даже к нам, на самую «верхотуру», на седьмой этаж.
«Чтобы посмотреть, как разместились и как живут новички» – эту фразу Кобзев, очевидно, не очень заботясь о разнообразии, произносил во всех комнатах. Держался он уверенно, с достоинством. Всех уже знал по фамилиям.
Мы предложили им стулья. Она молодец была, наша директор, старушка! Шутка ли, в такие годы по лестницам на седьмой этаж – и ничего себе, сидит, улыбается, только платочком помахивает.
В нашей комнате им пришлось подзадержаться. Среди прочих претензий одна была самого невинного свойства. За кипятком нам приходилось бегать на третий этаж. Известно, что без кипятка невозможен ни студенческий завтрак, ни ужин. А часто кипяток с сахаром заменял нам и обед. С седьмого на третий, с третьего на седьмой. Сколько раз на день! Тут и к занятиям некогда готовиться. На бесцельную трату времени мы и напирали.
Наш директор неожиданно разволновалась.
– Александр Иосифович! – сказала она низким вибрирующим голосом. – Если мне не изменяет память, я еще в прошлом году просила вас распорядиться установить дополнительный «титан» на шестом этаже?
Кобзев безразлично промолчал.
Тогда она взорвалась. Решительно поднялась, гневная, непримиримая.
– Слышите! Немедленно, в два дня, чтобы «титан» был установлен! И вы доложите мне об исполнении!
Кобзев, все с тем же безразличным, отсутствующим лицом, что-то записал в своем блокнотике.
Все еще раздраженная, у нее даже веко задергалось, директор прошлась по нашей комнате. Остановилась передо мной. Пригляделась, узнала, заулыбалась.
– А-а, это вы-ы… Вот видите, вы расстраивались, а все обошлось. Как вам первые лекции на вашем литературном?
И она даже с некоторым торжеством взглянула в сторону Кобзева. Смотри, и я знаю студентов, помню их, обстоятельства их поступления!..
Я же ничего не понимал. Решил, что старушка все перепутала.
– Меня не пустили на литературный. Я на историческом! – дерзко, с вызовом сказал я.
– Тут что-то не так, – растерянно сказала директор. – Александр Иосифович, я, кажется, просила вас…
Кобзев перебил ее:
– Я вам докладывал в свое время.
– Но тем не менее я просила вас…
– Ничего нельзя было сделать. Мест уже не было. Факультет и так перегружен, – решительно отрубил Кобзев.
И директор сдалась. Она устало, растерянно качнула головой:
– Да, да…
И пошла к выходу, не попрощавшись, по-старчески шаркая подошвами туфель.
– Привет! – очевидно, за обоих сразу сказал Кобзев и помахал от двери своей полной куцей ладошкой.
И я задумался над отношениями, которые связывали этих двух людей. Спор обо мне приоткрывал какую-то тайну.
«Она, очевидно, добрый, порядочный человек, – думал я о директоре. – Но она как будто боится Кобзева. Не то что боится, а как бы опасается его… Опасается той тайной власти, которую он, по-видимому, имеет. Или он для нее удобный человек: напористый, молодой, расторопный?.. Поручи – все сделает. А она просто усталая, старая женщина, которая решила смиряться или не замечать его почтительной нагловатости…»








