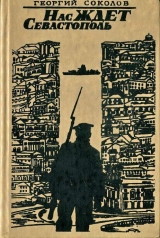
Текст книги "Нас ждет Севастополь"
Автор книги: Георгий Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 50 страниц)
– Минуточку, капитан. Есть разговор один. Совсем было запамятовал. Касается вас лично.
Капитан вернулся, сел на ящик. Уральцев мигнул Глушецкому, и тот кивнул в знак того, что понял.
– Мне надо отлучиться, – сказал Глушецкий и вышел из блиндажа.
Уральцев сел напротив Игнатюка и сказал:
– На днях я пойду с группой разведчиков за «языком». Поскольку вы сомневались в моих боевых качествах, я попросил командира бригады, чтобы со мной пошли вы. Он дал согласие. Так что – готовьтесь.
Игнатюк вскочил:
– Была нужда… У меня своих дел хватает…
– Одно другому не мешает. Да вы садитесь.
Игнатюк сел и настороженно посмотрел на несколько необычное выражение лица замполита. Уральцеву хотелось говорить спокойно, не выдавая своих чувств. Но внутри его все бурлило от гнева, от желания ударить по ехидному носу капитана, и помимо его воли это в какой-то степени отразилось на лице. Все же Уральцев заставил себя улыбнуться и с невинным видом спросить:
– Трусите, капитан?
– Я никогда не трушу, когда дело идет об интересах государства, – сухо заявил Игнатюк. – Но надо считаться с целесообразностью.
– Стало быть, будете отказываться, – заключил Уральцев и, уже не в силах сдержать свои чувства, с яростью заговорил: – Слушай, капитан, я вижу тебя насквозь. Ты карьерист, а может быть, и похуже. Знаю, зачем тебе хотелось самому повести Зайцева и доложить, что он шпион. Маленький капиталец хотел приобрести на жизни парнишки. Так вот слушай: если будешь подкапываться под меня или Глушецкого, делать нам гадости, то обижайся потом на себя. Не посмотрю ни на что, а голову твою откручу и скажу потом, что так и было. Наказание меня не страшит. Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. И знай, что я и Глушецкий любим Родину не меньше твоего и ни сил своих, ни жизни не пожалеем для борьбы с фашистами. Понял?
Он говорил, почти в упор глядя в глаза Игнатюка. Тот не отводил взгляда, только щурился, и Уральцев видел, что в глазах капитана нет смятения, в них читалось: «Говори, говори, а последнее слово за мной». Тогда Уральцев встал, протянул руку Игнатюку и сказал:
– Будем считать, что у нас состоялась дружеская беседа, во время которой достигнуто взаимное понимание. Не так ли?
И он сдавил руку капитана. Тот сморщился от боли.
– Ладно, пусти руку.
Но Уральцев сдавил сильнее, и капитан, вскрикнув, сполз с ящика. Не выпуская руки, Уральцев сквозь зубы процедил:
– Подтверди, что все понял.
– Понял. Ну, хватит.
Уральцев выпустил его руку. Капитан встал, потер руку и, не глядя на замполита, пошел к выходу.
– Разрешаю взять у старшины бутылочку «Московской», – сказал Уральцев.
– Иди ты к черту, – не оборачиваясь, зло бросил Игнатюк.
Стоявший поблизости от блиндажа Глушецкий увидел, как Игнатюк чуть ли не бегом помчался по траншее.
Войдя в блиндаж, он спросил:
– Чего это он словно с привязи сорвался?
Уральцев стоял у стола и с ожесточением почесывал подбородок.
– Поговорили, – усмехнулся он.
– Ты не дал ему по шее?
– До этого не дошло. Обменялись дружеским рукопожатием.
– И ты поставил его на колени, – догадался Глушецкий, зная силу руки Уральцева.
– Сам встал.
– Стоило ли? – задумался Глушецкий. – Предупреждал же полковник, не тронь дерьмо…
– Поживем – увидим. Начальнику политотдела я расскажу.
– Почему он такой?
– Кто?
– Да этот Игнатюк. В такое время заниматься склоками, подсиживанием, выслуживаться перед начальством…
– Такое уж воспитание, видимо. Да и мать-природа наградила его такими качествами. Коган как-то рассказывал анекдот о подобном человеке. Попал такой в яму. А там уже сидят волк, заяц, коза. Сидят в западне сутки, двое. Проголодались. Волк ощерил зубы, и все заметались по яме. Тогда Игнатюк и говорит…
– Игнатюк?!
– Однофамилец… Сердито так говорит: «Чего вы панику подняли? Товарищ волк знает, кого кушать».
– И волк съел зайца.
– Его, конечно. Он оказался самым большим паникером.
Глушецкий улыбнулся, по улыбка получилась грустной.
2
Зайцев стоял перед разведчиками с опущенной головой, без пояса, грязный, дрожащий.
«Какой он жалкий и противный», – подумал Глушецкий, стараясь не смотреть на него.
Разведчики сидели молча, хмурые, с суровыми лицами. Они любили Когана за его веселый нрав, умение по-матросски выкрутиться из любой беды и никогда не падать духом, и они, конечно, не могли простить Зайцеву, которого обвиняли в его смерти.
Уральцев глядел на разведчиков спокойным, сосредоточенным взглядом, пытаясь определить, что они будут говорить о Зайцеве, какую кару требовать для него. Если разведчики приговорят Зайцева к расстрелу, то приговор нужно привести в исполнение сегодня же. Кто должен расстреливать? Начальник политотдела сказал, что это должен сделать командир роты. Но Глушецкий, когда Уральцев сообщил ему об этом, брезгливо поморщился и сказал: «Я убиваю только в бою. У меня на пленного рука не поднимается, а на своего тем более». Уральцев чувствовал, что у него не дрогнула бы рука, будь Зайцев настоящий враг. Но ведь он не враг, он обыкновенный советский парнишка. Вся его вина состоит в том, что у него нет качеств настоящего воина. Сейчас Уральцев думал, что, пожалуй, напрасно он затеял все это дело. Следовало бы, как советовал Глушецкий, передать дело в военный трибунал. Можно было сделать так, чтобы суд проходил в роте, чтобы все разведчики слушали и «наматывали на ус».
Глушецкий поднялся и, кашлянув, обвел всех строгим взглядом. Не взглянул только на Зайцева.
– Командир бригады, – сказал он, – приказал отдать бойца Зайцева на ваш суд. Как решите – так и будет. В чем он провинился – вы знаете. Прошу высказываться.
Несколько минут все молчали. Зайцев поднял голову и опять опустил. Первым взял слово Добрецов.
– Раздумывать тут долго не приходится, – сказал он решительно. – За невыполнение боевого задания и проявленную трусость положен расстрел. Нам не нужны людишки вроде Зайцева.
– Я согласен с Добрецовым, – заявил сержант Третьяков, зачисленный в роту недавно с пополнением. У него было узкое загорелое лицо с глубокими морщинами на лбу и под глазами. – В батальоне, в котором я служил, из-за одного труса погиб целый взвод, была отдана противнику высота. Труса мы расстреляли прямо на поле боя. Зайцева надо было расстрелять так же во время разведки, чтобы другим неповадно было.
– Так он же убежал, – насмешливо заметил кто-то.
Третьяков не ответил на реплику, а только сердито метнул строгими глазами на разведчиков и сел.
«Резко говорят, – подумал Глушецкий. – Неужели приговорят к расстрелу?»
Поднялся Гучков. Ткнув пальцем по направлению Зайцева, он резко и презрительно проговорил:
– Вот он стоит перед нами, как пленный. Посмотрите, какой жалкий этот лев с заячьей душой… Думаю, что у каждого из нас скребет на сердце, глядя на него. Я, например, думаю: «Не доведи, боже, стоять мне перед товарищами в таком виде». Слушай, Зайцев, чувствуешь ли ты, что совершил подлое дело? Отвечай! – уже повелительно крикнул он.
Зайцев поднял голову и опять опустил.
– Мне нет оправдания, – чуть слышно произнес он. – Но я прошу пощадить меня.
– Слышали? – повернулся Гучков к разведчикам. – Он сам себя осудил, но он просит пощады. На войне, брат, не щадят. Нет! Да и сам посуди, за что тебя щадить?!
«И этот скажет расстрелять», – подумал Уральцев, удивляясь резкости суждений выступающих.
– Но, – Гучков многозначительно помолчал, – расстрелять проще всего. С этого труса надо снять шкуру. Но душу губить его пока не следует. В штрафную роту отдавать тоже нет смысла.
– Правильно, – живо откликнулся Байсаров и вскочил. – Я тоже был трус. Ужасный трус был. Почему? Сердце закалки не имело. Стрелять меня надо было? Да? Кому польза? Раньше я на небо смотрел из глубокого колодца. Поэтому мало видел. Зайцев тоже смотрит из колодца. Чего ему видно? Ничего не видно. Надо, чтобы увидел. Тогда хороший воин будет. Еще орден получит.
И он сел, смущенно улыбнувшись. Это была его первая речь, и он сам удивился, что довольно складно говорил по-русски.
Встал Трофим Логунов. Он посмотрел на Зайцева тяжелым взглядом своих темных глаз с желтоватыми белками и с презрением сморщил рябоватый нос.
– Тельняшку, паразит, носит, а сам того не знает, что раз надел полосатую морскую душу, то должен быть таким, как все моряки. Я предлагаю стянуть с него тельняшку, а дать обыкновенную нижнюю рубаху. Пусть знает, что она не для прилику дается. Добрецов и Третьяков предлагают расстрелять. Я с ними не согласен. Подумаешь, прокуроры какие! Можно подумать, что у них вместо сердца булыжник, обросший ракушками. Случается с человеком, что душа в пятки уходит. И со мной бывало. А теперь парень оклемался. Слышали, что он сказал Гучкову? Давайте проверим его еще разок. Ежели он опять струсит, то я сам его прямо на передовой ухайдакаю. Тогда будет не жалко. А тельняшку пока снимем. Возражений нет? Снимай, Зайцев.
Не поднимая головы, Зайцев снял тельняшку и надел гимнастерку на голое тело. Логунов взял тельняшку и передал старшине.
Слово попросил Гриднев. «Интересно, что он скажет? – насторожился Глушецкий. – Как батя предложит, так и решат. Его ребята любят».
Гриднев подправил левой рукой успевшие отрасти пышные усы, а правой снял шапку и прокашлялся.
– Уважаемые судьи, дорогие друзья, – начал он. – Мы решаем сегодня судьбу человека. Надо быть мудрыми. В нашей МТС, помню, произошел однажды такой случай. Тракторист Никита Симак спалил трактор. Директор МТС, конечно, разозлился и передал дело прокурору. Тот пришил парню вредительство и собирался укатать его в тюрьму лет на пяток. Узнал об этом секретарь райкома и заступился за человека. Этот Никита, надо сказать, рос сиротой, был молчаливый и тихий парень, но работящий. Еще до того как сгорел трактор, секретарь райкома познакомился с ним и понял, что он за человек. Посоветовал секретарь прокурору не отрывать Никиту от земли, а директору МТС приказал «проработать» Никиту на собрании трактористов. Сам приехал на собрание. Было Никите! Товарищи свои не хуже прокурора крыли. До слез проняли. Зато, скажу вам, после этого лучшего тракториста в МТС не было. Через год его выдвинули бригадиром тракторной бригады. К чему я это вспомнил? Сообразите сами. Есть такая русская пословица: в кремне огня не увидишь, пока по нему обухом не ударишь. Для Зайцева таким обухом является наш суд. Посмотрим, какую искру он даст. Может, кремешек окажется крепеньким, а может, рассыплется, как простой песчаник. Хорошо Байсаров сказал о глубоком колодце, из которого виден только кусочек неба. Ты, Зайцев, запомни его слова. Байсаров как-то сказал мне, что у узбеков есть такая пословица: называться человеком легко, быть человеком труднее. Глубокий смысл заключен в ней. Ты, Зайцев, вдумайся в нее. Мы не расстреляем тебя, мы даже не выгоним тебя из разведки в стрелковую роту, но мы от тебя потребуем стать настоящим человеком. Ты покрыт позором с головы до пят. Счищай его, да поскорее.
Он опять пригладил усы и сел, морщась от боли в ревматических ногах.
После Гриднева никто выступать не захотел.
– Все ясно, давайте решать, – послышались голоса.
Глушецкий переглянулся с Уральцевым.
– Поставим на голосование? – тихо спросил он.
Тот молча кивнул головой.
– Есть два предложения, – сказал, вставая, Глушецкий. – Первое – передать дело в трибунал и просить трибунал приговорить к расстрелу. Второе предложение – оставить Зайцева в разведке, ограничиться товарищеским судом. Кто за первое предложение?
Не поднялась ни одна рука. Даже Добрецов и Третьяков не голосовали. Зато все подняли руки за второе предложение.
Уральцев вышел из землянки, улыбаясь.
Вечером Уральцев пошел с Крошкой в Станичку. Другую группу разведчиков Глушецкий послал провести наблюдение на кладбище, чтобы в случае неудачи в Станичке можно было в следующую ночь пойти туда за «языком».
После их ухода в блиндаж заявился начальник разведотдела бригады капитан Новиков.
– Скажи, чтобы принесли поужинать, – распорядился он, устало опускаясь на табуретку.
Нечитайло принес ему полкотелка пшенной каши. Глянув на нее, капитан округлил глаза.
– Меня, начальника, угощать пшеном! – крикнул он на повара и повернулся к Глушецкому: – Для насмешки?
– Больше ничего не имеем, – сказал Глушецкий.
– Как! У вас не найдется полбанки мясных консервов и ста граммов спирта?! – обидчиво воскликнул Новиков.
– Представьте себе, – усмехнулся Глушецкий. – Старшина принес со склада только хлеб и пшено. Видимо, на складе больше ничего нет.
Новиков подозрительно покосился на него.
– Что-то тут не так, – хмуро заметил он. – Ну, ладно, поужинаю в батальоне. Докладывай, что намерен делать. Полковник злой, меня прогнал в батальон и запретил являться в штаб, пока не будет приведен пленный.
Глушецкий рассказал, что в двух пунктах ведется наблюдение, следующей ночью взвод Крошки пойдет за «языком». Выслушав командира роты, Новиков назидательно заявил:
– «Язык» должен быть добыт любой ценой. Таков приказ командующего. Людей не жалей. На то война.
Когда Новиков ушел, Глушецкий с озлоблением подумал:
«Эх ты, начальник! Не жалеть людей… И откуда ты взялся такой? Удивительно, как терпит его полковник?»
В блиндаж вошел Семененко. У него был растерянный вид.
– Не нашел Когана, – доложил он.
– Куда же он мог деться? – удивился Глушецкий.
– Шукали, шукали. Нема, – Семененко развел руками. – Мабуть, немцы его забрали. Буркова и Олещенко принесли. Похоронили в батальоне.
Глушецкий задумался.
– Мертвый немцам не нужен. Может, он не был убит?
– Не дышал. – Семененко глубоко вздохнул и растерянно проговорил: – А может, и верно!.. Бывает, сердце не стучит, а потом отходит… Неужто я оплошал? – И уже решительно заявил: – Не мог я ошибиться! В грудь и голову… Сам бачил.
– Да, нехорошо получается, – огорчился Глушецкий. – Надо бы похоронить его, как полагается.
Семененко вышел, сутуля широкие плечи и растерянно разводя руками.
Глушецкий также вышел из блиндажа на свежий воздух. Ночь выдалась лунной. На передовой шла оживленная перестрелка, взлетали вверх ракеты. В общем, все было так, как каждую ночь. При лунном освещении Глушецкий увидел солдат, идущих с грузами на передовую. Это шли повара с пищей, старшины с продуктами, полученными в береговом складе, солдаты с патронами и снарядами. Шли на передовую штабные и политотдельские работники, интенданты, разведчики. С передовой к берегу шли раненые. Из всех землянок вылезали люди, оживленно переговаривались, слышался смех. Быт на Малой земле сложился сам собой. Днем противник, владевший всеми высотами, просматривал Малую землю до самого берега и, обнаружив хотя бы одного человека, открывал огонь целой батареей. Поэтому всякое движение днем замирало, десантники спали. Но как только спускались сумерки, Малая земля оживала.
Море было пустынным, и на берегу царила тишина. Караван судов еще не показывался. При лунном освещении четко обрисовывался треугольник Суджукской косы. Глянув на нее, Глушецкий вдруг вспомнил, что до войны грязью из лагуны люди лечили ревматизм. «Как же это я раньше не вспомнил, – ругнул себя. – Надо сказать Гридневу, чтобы попробовал лечить этой грязью свои ноги».
3
У разведчиков наступила полоса неудач.
Взвод Крошки не привел пленного. Вначале как будто все шло хорошо. Разведчики незамеченными подобрались почти к самому дому, в котором находилось боевое охранение немцев. Перед домом не было ни мин, ни проволочного заграждения. И вдруг раздался сильный звон, под ногами стали рваться фугасы. Оказывается, немцы хитро придумали: перед домом вся земля была опутана мелкими проводочками, соединенными со звонками и фугасами. Из двух окон, превращенных в амбразуры, немцы открыли огонь из пулеметов. Пришлось залечь.
Медлить было нельзя. Уральцев вскочил и, крикнув, чтобы подбегали вплотную к дому, где безопаснее, побежал к дверям. Не добежав нескольких шагов до порога, он упал. И в этот момент немцы открыли заградительный огонь из орудий. Снаряды ложились густо, и разведчики начали пятиться. Из дверей выскочили два гитлеровца и подбежали к Уральцеву. Их намерение разгадал Зайцев, и раньше, чем они схватили замполита, он в несколько прыжков оказался около них. Выстрелы раздались одновременно. Свалились оба – и гитлеровец и Зайцев. Артиллерийский обстрел длился минут десять. Одного разведчика убило и трех ранило. Крошка решил, что продолжать блокировать дом бесполезно. Когда артиллерийский обстрел затих, он послал Лосева и Добрецова вынести Уральцева и Зайцева.
Глушецкий разозлился, узнав о происшедшем.
– Почему замполит должен быть впереди, черт вас возьми? – возмущенно кричал он на Крошку, стоявшего с понурым видом. – Хотя бы приволокли убитых гитлеровцев. Вам бы вовремя смыться. Хорошо заучили это правило… Ах, как бездарно вы руководили операцией! Идите с донесением к начальнику разведотдела.
Сам он пошел в санроту, находившуюся метрах в двухстах, проведать раненых.
Когда он пришел туда, Уральцев лежал на операционном столе. В операционную Глушецкого не пустили. Он дождался, когда оттуда вышел хирург, и спросил:
– Каково состояние старшего лейтенанта?
– Выживет, – уверенно ответил хирург. – Организм у него железный. Операция прошла удачно. Сегодня отправим на Большую землю.
Среди раненых, лежавших на носилках в полутемном коридоре, Глушецкий заметил Зайцева. Склонившись к нему, он услышал, как тот тихо стонет, закрыв глаза.
– Как самочувствие, товарищ Зайцев? – спросил он.
Тот открыл глаза.
– Товарищ командир… – слабым голосом произнес он, пытаясь улыбнуться, – я вот, как видите…
– В какое место ранены?
– В плечо и шею…
– Вылечат, – уверенно произнес Глушецкий.
– Товарищ командир, – в глазах Зайцева показались слезы, – Верните мне тельняшку…
Глушецкий тихо пожал ему руку и пообещал:
– Вернем.
С Уральцевым так и не удалось поговорить. После операции он долго не приходил в сознание. В полубессознательном состоянии санитары понесли его к берегу.
На рассвете Глушецкий пошел на кладбище, чтобы лично пронаблюдать за объектом, на который ночью должны напасть разведчики. На этот раз Глушецкий решил сам возглавить разведгруппу.
Вечером он вернулся в роту, поужинал и в полночь с десятью разведчиками, взятыми из обоих взводов, пошел на передовую.
Но и на этот раз поймать пленного не удалось. Немецкие ракетчики заметили разведчиков метров за тридцать и подняли тревогу. И сразу же со всех сторон застрекотали пулеметы и автоматы. А через минуту вся нейтральная полоса была засыпана вражескими снарядами. Высота, на которой находилось кладбище, была господствующей. Малая земля и город отлично просматривались с нее. Поэтому гитлеровцы особенно сильно укрепили высоту, поддерживали тяжелой артиллерией. Двух разведчиков убило, а Глушецкого слегка контузило. Пришлось вернуться ни с чем.
Капитан Новиков дожидался возвращения разведчиков в штабе батальона. Выслушав Глушецкого, он сердито сказал:
– Будет мне от полковника… Единственное, чем могу успокоить его, это сообщить, что ни одна бригада пленного не поймала. Пусть поймет, что при нынешней обороне противника невозможно действовать мелкой группой, а надо предпринимать разведку боем в составе одного-двух батальонов.
Вернувшись в роту, Глушецкий лег. Его тошнило. Сильно болела голова, зубы непроизвольно выбивали дробь.
На третьи сутки Глушецкого вызвали в штаб корпуса. К этому времени он чувствовал себя почти здоровым.
В штабе корпуса Глушецкий пробыл пять часов. Там состоялось нечто вроде семинара разведчиков. Командир корпуса, начальники разведотделов бригад и командиры разведывательных рот рассказали много интересного. Глушецкий записал в свой блокнот немало полезных советов. Возвращаясь, он размышлял: «Генерал сделал правильный вывод – разведчики храбры, но не умеют применять хитрость».
Было уже темно, когда Глушецкого вызвал командир бригады. К нему он пошел вместе с Новиковым.
Полковник встретил их не очень дружелюбно. Не поздоровавшись и не приглашая садиться, он довольно резко проговорил:
– Ну, так называемые разведчики, вижу, что привести пленного вам не по силам. Может, мой умишко окажется сообразительнее вашего. Когда-то во время гражданской войны и я был разведчиком. Слушайте, что скажу.
Он развернул карту и показал пальцем на красную пометку.
– Вот Безымянная высота. Между ней и кладбищем стык двух частей противника. Стык хорошо охраняется несколькими пулеметными гнездами. Перед этим пулеметным гнездом метрах в пятнадцати сидят в яме два ракетчика. А перед ними минное поле и проволочное заграждение. Я облюбовал этих ракетчиков. И вот почему. Здесь кругом растут кусты держидерева. Немцы допустили ошибку, что не вырубили их. Мы воспользуемся их ошибкой. Ваши соображения? – полковник вопросительно посмотрел на Новикова и Глушецкого.
Несколько секунд Глушецкий и Новиков молчали, затем Глушецкий сказал:
– Мне кажется, что здесь надо действовать трем-четырем разведчикам.
– Почему так мало? – сдвинул густые брови полковник.
В голове у Глушецкого уже созрел план действия.
– Разрешите, товарищ полковник, рассказать подробнее?
– Говори.
– После полуночи три-четыре разведчика и сапер поползут несколько левее или правее ракетчиков. Сапер сделает проход в минном поле и в проволочном заграждении. Затем они залягут в кустах и будут лежать несколько часов. За полчаса до рассвета, когда фашистов станет одолевать сон, разведчики набросятся на них, свяжут и поволокут.
– А пулеметы? Немцы услышат и посекут их из пулеметов, – заметил Новиков.
– Разведчиков должны поддержать артиллеристы. К пулеметным гнездам заранее пристреляться.
Полковник с довольным видом погладил бороду.
– Та-ак, – протянул он. – Вижу, совещание в штабе корпуса провентилировало вам мозги. Я мыслил таким же образом. Даже артиллеристам сказал, чтобы пристрелялись. Давайте обдумаем, кому поручить.
– Я сам пойду, – заявил Глушецкий.
Несколько мгновений полковник раздумывал, покусывая ус, потом сказал:
– Вы не пойдете. Не поручить ли это дело вашему главстаршине Семененко?
– Можно ему, – согласился Глушецкий. – С ним пойдут Кондратюк, Гучков, Логунов.
– Сейчас же посылайте их в наблюдение. Пусть наблюдают всю ночь и день. Завтра вечером вернутся, отдохнут – и в полночь пойдут за «языком». Через полчаса к вам придет сапер. Вы же завтра ночью будете со мной на наблюдательном пункте. Оттуда будем руководить артогнем. Семененко пусть возьмет с собой ракетницу для вызова огня. Сигнал – зеленая ракета. А сейчас можете идти.
В полночь разведчики ушли на передовую.
Вернулись на рассвете. Глушецкий был доволен результатами наблюдения. Объект для разведки, облюбованный полковником, понравился и ему, и теперь он был уверен, что на этот раз «язык» будет взят. Позавтракав, Глушецкий завалился спать и спал крепко до полудня. Проснувшись, он увидел Крошку. Лейтенант сидел расстроенный и вертел в руках письмо. Увидев, что командир проснулся, он сказал:
– Письмо получил довольно странное.
– От кого? – полюбопытствовал Глушецкий.
– От Розы. Переписываюсь с ней. Уже два письма получил от нее. И утром третье принесли, но непонятное в нем содержание. Пишет: «Здравствуй, Шурик». А я Анатолий. В письме все про любовь вспоминает, про страстные поцелуи. А я ни разу не поцеловал ее. Почему Шурик?..
И он недоуменно пожал плечами. Глушецкий рассмеялся:
– Адреса перепутала! Писала одному, послала другому. Бывает. Ох, лихая, видать, девка!
– Да разве же так можно? – Крошка переменился в лице. – Чувство к одному человеку должно быть.
– Попадаются и любвеобильные Розы… У роз всегда шипы бывают.
– Вы думаете?
Глушецкий перестал смеяться и уже серьезно, даже с некоторой досадой, сказал:
– Наивный ты человек, Анатолий. Только раз поговорил и по уши влюбился, не зная, что за человек. Разве так можно?
– Да ведь любовь с разумом не считается.
Он вытянул ноги и в задумчивости посмотрел на сапоги, подаренные Розой. За два месяца они пообтрепались основательно.
– Бывает любовь с первого взгляда, – сказал он упрямо.
– В романах.
После обеда Глушецкого вызвал начальник политотдела подполковник Яснов. Политотдел находился невдалеке, в небольшой балке, заросшей кустами держидерева. Три блиндажа, хорошо замаскированных, глубоко уходили в землю.
Подполковник Яснов за эти месяцы утратил румянец на щеках, лицо его осунулось и побурело, белесые брови и ресницы выцвели, на висках густо светились седые волосы. Лишь глаза остались прежними – радостно-удивленными.
Подполковник пригласил Глушецкого присесть, заговорил о деле.
– Вы, товарищ Глушецкий, ждете, когда политотдел пришлет вам заместителя по политчасти?
– Жду, – признался Глушецкий.
– Советую не ждать. В ближайшие дни, по крайней мере, не получите. А к тому времени, по-видимому, в ротах вообще не будет заместителей по политчасти. По штату не будет положено. Теперь командиры рот должны не только командовать, но и проводить среди личного состава политическую работу, руководить партийной и комсомольской организациями.
Глушецкий смотрел на подполковника не без растерянности: вот уж не ожидал, что ему придется еще и политработу вести в роте.
– Вижу, испугал вас. Не робейте, – сказал подполковник, с улыбкой глядя на Глушецкого.
– Тяжеловато будет с непривычки, товарищ подполковник, – вздохнул Глушецкий.
– Я и не говорю, что легко. Но ведь надо. Не так ли?
Вернувшись в роту, он вызвал Гриднева.
– Пока нет замполита, нам придется вместе проводить политическую работу в роте. Давайте составим план, – сказал он ему.
– Давайте, – охотно согласился Гриднев. – Разрешите только сходить за моими планами.
Он выбежал и быстро вернулся с тетрадью, свернутой в трубочку. Его маленькие светло-карие глаза светились такой веселостью и все смуглое лицо выражало такую радость, что Глушецкий с некоторым удивлением сказал:
– Вы выглядите именинником, Артем Архипович.
– А я и есть именинник, товарищ командир, – весело проговорил Гриднев, привычным жестом подправляя пышные усы. – От сына письмо получил.
– У вас есть сын? – спросил Глушецкий. – Почему вы раньше об этом не говорили?
– А зачем? У каждого человека в моем возрасте есть сыновья или дочери. Сын был как сын, ничем не выделялся. Учился в военном училище, потом пошел на фронт. Мне писал редко. Да и, откровенно говоря, вздорный был парень. Недолюбливал я его.
– Вы говорите – был. Как это понимать?
– О, теперь, думаю, он не такой! – с убеждением сказал Гриднев и самодовольно улыбнулся. – Теперь он командир танкового батальона, за бои под Сталинградом удостоен звания Героя Советского Союза. Сегодня порадовал меня в письме таким сообщением. Герой! Золотую Звезду, товарищ командир, выстрадать надо. Теперь я могу гордиться…
– Поздравляю, Артем Архипович. – Глушецкий от души пожал его руку. – Теперь понимаю причину вашего радостного настроения.
– Есть и вторая причина, – улыбнулся в усы Гриднев. – Стал я по вашему совету лечить ноги грязью из Суджукской лагуны. Отлично помогает. Боли прошли. Еще ванн десять сделаю – и опять буду в строю. Еще повоюю! Я словно помолодел, товарищ командир. На душе легче стало от сознания, что еще могу быть полезным Родине. А то было захандрил совсем. Очень плохо, когда мысли в небе, а ноги на печи. У нас в МТС, помню, работал механик Свиридов. Машины знал так, что мог с закрытыми глазами разобрать и собрать любую. Без него МТС как без рук. И вдруг, как на грех, заболел – и отнялась у него правая нога. Лежит он дома, скучает, а в МТС горячая пора, к весне готовимся. Мысли у человека в мастерской, а ноги к постели прикованы. Маета, а не жизнь! Не утерпел он, смастерил коляску и заявился в мастерскую. Так в коляске и разъезжал от трактора к трактору с утра до поздней ночи. Вот и я в таком положении чуть не оказался.
– Давайте, однако, Артем Архипович, займемся планом, – напомнил Глушецкий.
– Точно, – спохватился Гриднев и развернул свою тетрадь.
Глушецкий вынул из чемодана большую папку в коленкоровом переплете.
– Мы посмотрим, как планировал Уральцев. Это его дела, – заметил он.
Развернув папку, он увидел так и неоконченный очерк о Малой земле, личные планы замполита, вырезанные из газет сводки Совинформбюро, планы партийной политической работы. На обложке одной тетради стояла надпись «Ленин и моряки». Глушецкий вспомнил, что Уральцев писал на эту тему беседу к годовщине смерти Ленина, но провести ее не успел. Перелистав тетрадь, он увидел, что беседа написана полностью, и ему вдруг захотелось прочесть ее разведчикам. Пусть она напомнит им о близком человеке, с которым, может быть, они никогда в жизни встретятся, но память о котором сохранится в их сердцах.
Гриднев одобрительно отозвался о намерении командира.
Вечером, когда с передовой вернулся Семененко с товарищами, Глушецкий собрал всех разведчиков в наиболее просторном блиндаже.
– С нами нет нашего замполита, – начал он, – но у нас есть одна беседа, которую он не успел провести. То, о чем он хотел вам рассказать, прочитаю я.
4
Безымянная высота господствовала над Малой землей. Была она пологой, густо заросшей кустами колючего держидерева. По скату, обращенному к морю, проходила дорога из города в совхоз «Мысхако». В февральских и мартовских боях десантники дошли до нее, но дальше продвинуться не смогли. Дорога стала линией обороны. Гитлеровцы заминировали ее. Метрах в двадцати от дороги лежало второе минное поле и проволочное заграждение.
За высотой находились гитлеровские минометные и артиллерийские батареи, которые вели огонь по Малой земле.
Семененко, Кондратюк, Гучков и Логунов два дня и две ночи вели наблюдение за стыком противника на Безымянной высоте, где находились ракетчики. Во вторую ночь саперы проделали проходы в минных полях и в проволочном заграждении. Сделали они это довольно аккуратно, так что и днем нельзя было заметить проделанные проходы.
Весь третий день разведчики проспали в блиндаже стрелковой роты, державшей тут оборону. Первым проснулся Кондратюк. Выглянув из блиндажа и увидев, что близится вечер, он крикнул спящим:
– Довольно дрыхнуть!
Разведчики вышли из блиндажа и по ходу сообщения прошли к небольшой балочке, где протекал ручей. Умывшись, они сели на камни и закурили.
– В животе – тоска смертная, – протянул Кондратюк. – Догадается старшина прислать чего-нибудь заморить червяка или придется терпеть до завтрашнего утра?
– Сухой паек нам дали по сегодняшний вечер, – сказал Логунов. – Сверх нормы у старшины не допросишься. А я бы тоже не прочь… Эх, кабы знать да ведать, где нынче пообедать.
– Полкотелка горяченького неплохо было бы, – поддержал разговор Гучков.
– Прекратить балачки про харч, – сердито буркнул Семененко и облизнул губы. – У тебя, Кондратюк, дыра во рту насквозь просверлена, не можно ее наполнить.








