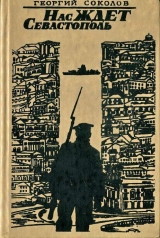
Текст книги "Нас ждет Севастополь"
Автор книги: Георгий Соколов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 50 страниц)
После памятных именин сердце комендора оттаяло. Он доволен службой, своим командиром, своими товарищами. А после того, как нашлась Надя, он почувствовал себя самым счастливым человеком. Но характер не переломишь, не переделаешь. И раньше не был он веселым парнем, щедрым на шутки и прибаутки, таким и теперь остался. Одно умел он – петь песни, но и пел он большей частью рыбацкие, заунывные и тягучие. Вот и сейчас, когда Дюжев ушел и он один остался на палубе, песня сама запросилась. Глядя на серое море, комендор вполголоса запел:
Белогруденькая чаечка,
Не ты ли мне сестра.
Горя не было, печалюшки.
Не ты ли принесла…
Спустившись в кубрик, Дюжев осмотрелся. Никто не спал. Румянцев и Розов писали письма. Максим Шабрин, держа в руке книгу, говорил акустику Левшину:
– Не скажи, Борис, хорошие поэты, которые за душу берут, и сейчас имеются. Прочтешь Твардовского или Исаковского, и каждая строчка словно тобой сложена – так отвечает твоему настроению.
– Двух назвал – и обчелся, – с насмешкой проговорил Левшин.
– И еще есть, – уже загорячился Шабрин. – Кто написал стихи «Жди меня»? Все солдаты и матросы переписали их и своим женам и девушкам послали. Скажешь, Симонов плохой поэт? А кто не поет «Бьется в тесной печурке огонь»? Написал эту песню Сурков.
Дюжев подошел к ним и поднял руку:
– Разрешите вас отвлечь, уважаемые знатоки русской поэзии, на повседневную прозу. Есть предложение окружить заботой одного человека.
И он рассказал, в чем дело. Моряки переглянулись. Ни у кого ничего не оказалось, за исключением пригоршни жареных каштанов. Дюжев горестно присвистнул.
– Не густо. – И вдруг его осенила мысль: – Слушай-ка, Максим, ты ничего не имеешь против, если я к Лене заверну на минутку?
Шабрин уставил на него свои немигающие глаза.
– Зачем понадобилось? – спросил он подозрительно.
– Думаю использовать ее в своих целях.
Матросы рассмеялись, а Шабрин побагровел.
– Попробуй только…
Дюжев с укором покачал головой:
– Какие низменные мысли у тебя, Максим. Моя цель достать для Нади подарок. Вот я хочу обратиться к Лене за содействием. А ты уж…
Шабрин остолбенело посмотрел на него, потом перевел взгляд на Румянцева.
– Вот шалава, на слове ловит! – не удержался он от восклицания, в котором, впрочем, сквозило восхищение.
Высыпав в карман каштаны, Дюжев выскочил из кубрика и побежал в кают-компанию доложить боцману о том, что сходит с корабля по разрешению командира.
Ковалев сидел за столом над книгой, обхватив руками голову, и бубнил:
– Девиацией называется угол между магнитным меридианом и осью стрелки компаса, отклонившегося от меридиана под влиянием судового железа.
Напротив склонились над столом Ивлев и Душко. Они готовили очередной выпуск боевого листка.
Выслушав матроса, боцман молча кивнул головой и опять углубился в книгу.
Через минуту Дюжев уже шагал по пирсу.
Вернулся Дюжев через полтора часа, запыхавшийся, но с сияющим лицом.
Подсев к Пушкареву, рулевой сказал вполголоса:
– Морской порядочек! От твоего имени передал Наде каштанов, семечек, пять яблок и, можешь себе представить, лимон.
– Проворный ты! – с восхищением сказал Пушкарев. – Спасибо тебе.
– А ты, Сергей, – укорил Дюжев, – напрасно думаешь, что Надя перепугалась. Не из такой породы она. Я зашел в палату и слышу – хохочет. Уже подружек завела…
– Так мне ведь жалко ее, – признался Пушкарев. – Все же не мужчина.
Моторист Бабаев, подмигнув матросам, с наивным видом спросил Дюжева:
– А ты от Сергея не передал ей поцелуя?
Дюжев растерянно моргнул глазами, но быстро нашелся:
– Некогда было. Там мне другая девушка позывные давала. Вот, скажу вам, краля так краля. Весом на центнер. Около такой стоит якорь бросить.
А растерялся он потому, что действительно поцеловал Надю. Произошло это неожиданно. Когда она вышла его проводить, он в порыве откровенности заявил ей: «Мне нельзя любить тебя. Свою любовь я затаю. Но мы будем друзьями. Поцелуй меня, как друга, в первый и последний раз». И она, неожиданно для него, обвила его шею руками и крепко поцеловала в губы. А потом еще погладила по щеке. И они условились, что об этом поцелуе не скажут Сергею.
Чертов моторист своим дурацким вопросом чуть не выдал его.
– Закрой поддувало, – цыкнул па моториста Пушкарев.
– Между прочим, – меняя разговор, обратился к товарищам Дюжев, – в доме Максимовой Лены у меня состоялась интересная встреча.
– Слышишь, Максим, – акустик Румянцев подтолкнул Шабрина локтем. – Хоть ты и «кошачий глаз», а свою Лену можешь проморгать.
Оторвавшись от котелка с кашей, Шабрин пренебрежительно сморщил свой ястребиный нос:
– Такого соперника не боюсь… Балаболка…
И он опять принялся орудовать ложкой.
Лицо Дюжева стало серьезным.
– Да, ребята, встреча была, – повторил он со вздохом. – Земляка встретил. В нашей Приморско-Ахтарской станице жил. Говорит, что партизан, а в Геленджике оказался по случаю болезни. Рассказал он мне такое, отчего кулаки сжимаются.
– О чем же он рассказал? – заинтересовался Токарев, садясь рядом с Дюжевым.
Но Дюжев только рукой махнул.
В кубрик спустился Наливайко. С усталым видом он сел на койку и молча стал снимать ботинки. В эти дни ему приходилось нелегко. Ночами он был в боевом расчете подносчиком снарядов, а днем готовил завтраки, обеды и ужины.
– Заморился, Кирюша? – участливо спросил Дюжев.
– Угорел малость в своем камбузе, – ответил он и лег на койку.
– Да, братцы, тяжеловатый путь к Севастополю, – проговорил Шабрин.
– Новороссийск возьмем, легче будет, – уверенно заявил Левшин.
– Не берется что-то он, – заметил Душко.
– А почему это? – задался вопросом Токарев. – Сейчас действуем только мы, катерники, рыбацкие сейнеры и мотоботы. А почему большие корабли не обеспечивают десант?
– Чтобы их раздолбали с воздуха, – сердито отозвался Шабрин. – О том, какие корабли пускать в бой, а какие приберечь, адмиралы думают. Наше дело матросское – выполняй свою службу.
– Сыграй-ка, Гриша, пока время есть, – предложил Левшин.
Душко взял баян на колени, но Дюжев, кивнув в сторону лежавшего кока, сказал:
– Человеку отдохнуть надо. Пошли на палубу.
Было уже темно, когда Новосельцев вернулся на корабль. Он застал на палубе «веселый час». Душко играл на баяне, а Дюжев, не жалея каблуков, выстукивал чечетку. Откуда-то из темноты также доносился голос гармошки, и кто-то задорно пел:
Эх, мотоботы мои,
Носы выстрочены,
Не хотел выходить,
Сами выскочили.
«Мотоботчики и песню для себя сочинили, – подумал лейтенант. – Вот лихое племя». Сегодня на парткомиссии в партию было принято шесть матросов с мотоботов. Новосельцев удивился, когда услышал от них заявления, что мотоботы отличные боевые суда. Десять суток тому назад так никто не говорил. Эти железные плоскодонные корабли с тихим ходом моряки пренебрежительно называли корытами. За неимением специальных десантных судов решили использовать их. С боевых кораблей были выделены лучшие матросы и старшины для управления мотоботами. С неохотой шли они служить на «корыта». Но вот прошло десять суток – и что случилось! Стали мотоботчики незаменимым боевым отрядом, о их храбрости и находчивости только и говорили в Геленджикском порту. Попробуй теперь любого из них отчислить с «корыта» – обидится. Не корабль, стало быть, красит матроса, а матрос корабль.
У Новосельцева было превосходное настроение, сегодня его приняли в члены партии. И не спрашивали, почему он вступает, а попросили поделиться боевым опытом. Он рассказал несколько эпизодов борьбы с вражескими катерами. Председатель партийной комиссии посоветовал ему записать их и послать во флотскую печать. Вероятно, перед этим у него с Бородихиным состоялся разговор о нем. Новосельцев был польщен тем, что его опытом интересуются, и обещал организовать из командиров что-то вроде редколлегии по составлению истории дивизиона. А после заседания партийной комиссии, когда он зашел в штаб, Корягин поздравил его с повышением в звании. Что еще нужно, чтобы чувствовать себя отлично?
Душко заиграл «Вечер на рейде», и все матросы запели. К Новосельцеву подошел Ивлев.
– Поздравить, товарищ лейтенант? – вопросительно посмотрел он на него.
– Поздравьте, Дмитрий Абрамович, – с довольной улыбкой сказал Новосельцев. – Теперь я вроде уже совсем взрослый.
Механик крепко пожал ему руку, вложив в это рукопожатие все, что можно выразить без слов: уверенность старого коммуниста в том, что молодой оправдает доверие партии, уважение к его боевым заслугам, покровительственную отцовскую нежность.
Новосельцев понял все, что вложил в рукопожатие Ивлев, и с благодарностью произнес:
– Спасибо, Дмитрий Абрамович.
Они подошли к поющим матросам. Душко перестал играть и вопросительно посмотрел на командира. Замолчали и матросы.
– Продолжайте, – сказал Новосельцев.
К нему подошел Дюжев и оживленно заговорил:
– Мы замечаем, товарищ лейтенант, что вы все реже и реже берете в руки гитару. Помните, как раньше было у нас: баян, гитара, мандолина, балалайка? Здорово получалось. Имеете вы время? Разрешите принести гитару.
– Вроде бы холодно, – заметил Новосельцев, однако гитару принести разрешил.
5
– Сегодня день Красной Армии. Помнишь эту дату?
Полковник Громов пытливо посмотрел на Глушецкого.
– Как же не помнить, – слегка улыбнулся Глушецкий. – Вчера замполит беседу с разведчиками провел.
– Так вот – возьмешь с собой двух разведчиков и пойдешь в поселок Мысхако. Там в большом винном подвале Военный совет армии устраивает прием в честь отличившихся в десанте.
– Прием? По какому случаю?
– По случаю дня Красной Армии. Кого возьмешь?
Глушецкий задумался.
– А как же в наблюдение на кладбище? – спросил он. – Нельзя же прерывать.
Теперь задумался командир бригады.
– Это верно. Раз уж задумал, надо доводить до конца. Ладно, иди в наблюдение, а чествовать тебя найдем другое время.
И он усмехнулся, но тут же согнал улыбку с лица.
– Кого же послать? – и он в раздумье пригладил свою бороду.
– Пошлите моего замполита, – предложил Глушецкий. – Боевой офицер.
– Знаю, знаю. Мужик стоящий. Что ж, пошлем его. А из разведчиков кого?
– Семененко и Гриднева.
– Согласен. Скажу своему замполиту о твоем выборе.
Уральцев удивился, когда Глушецкий рассказал о приеме.
– После высадки десанта прошло всего двадцать дней, непрерывно идут ожесточенные бои. Вроде бы не время для торжественных приемов.
Но, подумав, сказал:
– А что – правильно, пожалуй. Сам этот факт говорит об уверенности Военного совета в успехе десанта. А эта уверенность передастся десантникам.
Из Станички до поселка Мысхако не менее трех километров. И почти весь этот путь простреливался пулеметным огнем. Гитлеровцы знали, что передвижения у десантников происходят ночью, поэтому до утра не прекращали стрельбу из пулеметов. Стреляли неприцельно, а с расчетом на «счастливого», авось да кого зацепит пуля. И зацепляла. От Станички проходила болотистая балка. Ноги вязли в грязи по щиколотку.
Идти ночью, без дороги, по грязи, припадая к земле после очередной пулеметной очереди, – невелико удовольствие. С полдороги Семененко стал ворчать:
– Моя бабушка говорила: за кило кишки семь верст пишки. Была нам охота идти на заседание. Обошлись бы без нас.
Его поддержал Гриднев:
– Твоя бабка, видать, мудрая была. У нас тоже есть поговорка: за семь верст киселя хлебать. Помню, в нашей МТС был такой случай…
Гриднев не успел рассказать, что за случай, как споткнулся и упал. Поднявшись, он забыл, о чем хотел поведать, а только ругнулся.
Усталые, но все же дошли до поселка и разыскали тот подвал, где будет проходить прием.
Подвал, бывший винный склад, был просторный. Но вскоре тут собралось столько народу, что стало тесно.
Столами служили снарядные ящики, застланные белыми простынями. Сиденьями служили также снарядные ящики, на которые положили доски. На импровизированных столах – хлеб, ломти сала, банки с тушенкой, бутылки с вином и спиртом, алюминиевые кружки. Вилок и ножей на столах не было, но в этом и не было нужды. У каждого за голенищем ложка, в кармане нож – личное оружие, с которым фронтовик никогда не расстается.
Уральцев обратил внимание на то, что все приглашенные пришли с автоматами и даже с гранатами и подумал: «И правильно. Кто знает, может, торжественное заседание придется прервать и вступать в бой. Ведь противник всего в километре от подвала. С бала и в бой, как говорится».
В подвале с низким цементированным потолком шел гул, словно морской прибой. Переговаривались громко. Особенно те, кто встречал знакомого. Наискосок от Семененко сидел черноволосый матрос и пристально смотрел на него. Наконец он воскликнул:
– Павло! Неужто ты?
Семененко вскочил и обрадованно крикнул:
– Лешка! Гляньте на него – живой, щучий сын! Тебя же под Инкерманом бомбой засыпало.
– Было такое дело. Не взяла. Откопали.
– Добрый хлопец этот Лешка, – обернулся Семененко к Уральцеву. – До войны на одном корабле служили.
– А о тебе, Павло, говорили, что ты погиб в Севастополе.
– Брехня. Бачишь меня в натуре. Ты в какой части?
– В двести пятьдесят пятой. У Потапова.
– А я у Громова. Соседи, выходит.
– Похоже. Приходи в гости.
Но вот поднялся командующий 18-й десантной армией генерал-лейтенант Леселидзе – и шум в подвале стих.
Генерал поздравил присутствующих с днем Красной Армии и флота, рассказал о разгроме немецкой армии под Сталинградом, о дальнейших успехах советских войск в войне с гитлеровскими захватчиками и поднял тост за победу.
Потом выступали десантники.
К разведчикам подошел незнакомый полковник с густыми черными бровями, подсел рядом и спросил:
– Вы из какой бригады?
– Разведчики из бригады полковника Громова. Нас трое, – ответил Уральцев.
– Уважаю разведчиков, – улыбнулся полковник. – Будем знакомы. Я заместитель начальника политуправления фронта Брежнев.
Он наполнил алюминиевые кружки вином.
– За ваше здоровье и боевые успехи.
Когда разведчики выпили, полковник попросил Уральцева рассказать, как воюет бригада, большие ли потери, как настроение матросов, в чем нужда. Выслушав, полковник сказал:
– Неплохо. Вы командир роты?
– Замполит.
– Давно на политработе?
– Меньше года. Раньше работал в газете.
– Побываю в вашей бригаде обязательно. В соседней – двести пятьдесят пятой был, а до вас не успел дойти.
– Мы соседи.
– Знаю. Район кладбища господствующая высота. Очень важно, чтобы ваша бригада овладела ею.
– За угол кладбища мы зацепились, а дальше не можем продвинуться. Немцы там здорово укрепились – за каждым памятником, за каждой могилой у них огневая точка.
– Против десанта сосредоточено четыре дивизии противника. Та дивизия, которая была в Южной Озерейке, теперь воюет против нас. Сил у противника больше. Но нам отступать некуда – позади нас море.
– И позор, – вставил Гриднев.
– Да, скрывать не буду – и позор.
Брежнев посмотрел на Гриднева и с некоторым удивлением спросил:
– А вы тоже разведчик?
– Так точно, товарищ полковник.
– Возрастом вы вроде…
– Возраст, товарищ полковник, не помеха. Была бы силенка. А боевой опыт у меня еще с гражданской.
– Что верно, то верно, – согласно кивнул Брежнев. – А раз вас делегировали сюда, то, стало быть, отличились.
– А мне положено отличаться, я ведь парторг роты.
– О, – протянул Брежнев. – Рад, что познакомился с боевым парторгом.
Он крепко пожал ему руку и опять наполнил кружки.
– Выпейте еще, друзья, за победу. И за тех, кому положено отличиться, – за коммунистов.
Сам он пить не стал, а только пригубил, потом подсел к другой группе десантников.
– Душевный человек. Дюже он понравился мне, – сказал Семененко.
– Вот стариковская память, – покачал головой Гриднев. – Вроде где-то видел, а где – не припомню. Вы, товарищ замполит, не припомните?
– Нет, не припоминаю.
– Ага, вспомнил, – обрадовался Гриднев. – Под Туапсе. Вас тогда, товарищ замполит, не было в нашем разведотряде. Мы пришли на передовую. Перед тем как перейти линию обороны, как водится, присели, чтобы последний раз перекурить. Видим, по траншее ходит полковник и о чем-то разговаривает с солдатами. Так это был этот самый полковник Брежнев. Ах, жаль, что поздно вспомнил, сказать бы ему о нашем знакомстве.
Семененко рассмеялся.
– Ой, батя, уморил. Знакомства-то ведь не состоялось. Я тоже припоминаю…
– Как это не состоялось, – не согласился Гриднев. – В одной траншее находились, от одних и тех же мин головы прятали, да и разговоры его с некоторыми солдатами слышал… Чего еще?
– В общем, так: я тебя знаю, ты меня нет.
– Он, конечно, мог и не запомнить меня. Нашего брата столько, что всех не упомнишь.
– То так.
Объявили о выступлении армейского ансамбля песни и пляски. Все затихли. Давно не слушали десантники песен, особенно старинных русских. Но когда артисты запели фронтовые, то десантники стали им подпевать, да так громко, что артистов не стало слышно. А потом в разных концах обширного подвала каждая группа запела свою песню.
Захмелевший Семененко затянул украинскую песню. Его поддержали еще несколько человек. Полковник Брежнев подошел к Семененко, одобрительно улыбнулся и запел вместе с ними. Когда песня кончилась, Брежнев сказал:
– Гарно спивали.
Тут Семененко не утерпел от вопроса:
– Видкиля вы, товарищ полковник, знаете украинские песни?
– А я же с Украины, – ответил Брежнев.
Семененко хотел спросить его, не земляк ли, но в это время полковника окликнул командующий армией и он пошел к нему.
Семененко посмотрел ему вслед и убежденно произнес: – Мабуть, земляк. Добре спивае.
Было далеко за полночь, когда десантники стали расходиться по своим бригадам. Семененко и Гриднев были изрядно под хмельком, да и Уральцев, ранее не пивший спиртного, а на этот раз рискнувший выпить немного вина «Черные глаза», чувствовал себя навеселе. Поэтому обратный путь в Станичку не казался им таким утомительным. Они даже не обращали внимания на шальные пули, со свистом рассекавшие воздух. По дороге Семененко не раз вспоминал полковника с густыми бровями и доброжелательной улыбкой и каждый раз закруглял:
– Мабуть, земляк. Душевный мужик.
А Гриднев всю дорогу рассказывал о каком-то случае в его МТС, когда директор зазнался, перестал здороваться с трактористами и как приехал новый секретарь райкома и перевел директора в рядовые механики.
Уральцев молча слушал его, не перебивая. Он знал, что у Гриднева на всякий повод найдется пример из его работы в МТС.
6
После смерти Куникова командование отрядом перешло к начальнику штаба Котанову.
Но память о майоре в отряде не померкла. Отряд стал именоваться куниковским.
Через две недели после смерти майора отряд отозвали на Большую землю для формирования и подготовки к новой операции.
Тане представлялся случай покинуть Малую землю, уехать в Геленджик и быть вместе с Виктором. Но она этого не сделала. За эти дни она опять обрела душевную твердость. Чтобы окончательно заглушить в себе все личные чувства, она решила остаться на Малой земле.
Ей удалось доказать Котанову, что снайперу нечего делать в Геленджике, а лучше остаться здесь.
Для снайперских засад Таня облюбовала гору Колдун. Здесь оборону занимала 107-я стрелковая бригада.
Каждое утро Таня занимала облюбованную накануне позицию на нейтральной полосе и до вечера не возвращалась в штаб батальона, к которому была прикомандирована. Вечером батальонный повар угощал ее обедом, затем она шла в свою землянку и принималась чистить винтовку. Вместе с ней в землянке жила санинструктор Катя Добрушина. Это была смуглолицая девушка с добрыми карими глазами. На полных губах играла улыбка. Но в конце марта улыбка с ее губ исчезла, а карие глаза потускнели. Девушка призналась Тане, что человек, которого она полюбила, тяжело ранен и увезен в госпиталь.
Приведя в порядок оружие и немного поговорив с Катей, Таня ложилась спать. А на рассвете, наскоро позавтракав и взяв в карман кусок хлеба, она исчезала из блиндажа. С командиром батальона, его заместителем по политчасти и начальником штаба ей приходилось встречаться редко. В батальоне удивлялись ее нелюдимому характеру.
Бывают в жизни человека такие периоды, когда в нем все как будто окаменевает, застывают все чувства и только какое-то одно заставляет жить и действовать. Так было и с Таней. Она видела, какой большой кровью, каким великим напряжением сил дается путь вперед, и выключила из своего сознания все, что не относилось к войне.
Вскоре в батальоне ее стали называть «одержимой». Некоторые командиры пытались ухаживать за ней, но получили такой отпор, что теперь предпочитали не встречаться с черноглазым снайпером.
Тане везло. Много раз выбиралась она на нейтральную полосу в засаду, находясь между двух огней, но ни один осколок, ни одна пуля не задели ее. Однажды при бомбежке ее засыпало землей. Когда откопали, оказалась живой и невредимой. Не раз за ней охотились немецкие снайперы, но Тане удавалось перехитрить их.
Однажды к ней зашел командир батальона капитан Труфанов. Был он молод и красив. О храбрости капитана в бригаде ходили легенды. Таня относилась к нему с уважением. Один недостаток был у него – вспыльчивость. Закипал он быстро.
Его серые глаза вдруг начинали сверкать, губы дрожали, по лицу проходили судороги, он делался страшен. Успокоить его мог только парторг батальона старший лейтенант Бурматов, пожилой человек с удивительно спокойным характером. Когда-то, еще в начале войны, Бурматов спас капитана, вытащив его, раненного, с вражеской территории. Когда капитан закипал, как самовар, Бурматов ласково говорил ему: «Коля, вспомни Мишу и сосчитай до ста». И всем казалось удивительным, что капитан вдруг закрывал глаза и не открывал с минуту. А когда открывал, то они уже не сверкали. Никто в батальоне не знал, какого Мишу парторг советовал вспомнить капитану.
Поздоровавшись, капитан сел и молча, с заметным удивлением, стал смотреть на Таню. Он привык видеть ее в потерявшем свой цвет ватном бушлате, таких же штанах, с надвинутой до самых бровей шапкой. Из-под бровей сердито посматривали черные глаза, рот был плотно сжат, и поэтому губы казались неприятно тонкими. Сейчас же перед ним стоял другой человек. При свете лампы, сделанной из гильзы снаряда, он видел девушку в ладно сидящей гимнастерке, в темно-синей юбке. Коротко подстриженные темные волосы кучерявились, одна прядь лежала на лбу, придавая лицу задорное выражение. Широко открытые глаза влажно блестели, Таня недавно умылась, смазала обветренное лицо вазелином, и зарумянившиеся щеки казались атласными, свежими.
– Вот вы какая, оказывается? – произнес наконец Труфанов.
Таня довольно неприветливо спросила:
– Вы ко мне по делу зашли?
– Да, по делу, – поспешно сказал капитан.
Он опять замолчал, продолжая бесцеремонно рассматривать ее. Тогда Таня надела бушлат, а на голову шапку и, поджимая губы, встала напротив капитана.
Труфанов хотел спросить ее, зачем она сделала это, но, увидев ее сердитые глаза, предпочел деловито заявить:
– Приказано уделить больше внимания снайперам. В батальоне, кроме вас, снайперов нет. Командир бригады поругал меня за это. И правильно. Надо исправлять положение. Четыре бойца изъявили желание обучаться снайперскому делу. Давайте посоветуемся, чем вы можете помочь им.
Таня сняла шапку, положила на топчан и, сев на снарядный ящик, заменявший стул, сказала:
– Я с охотой поделюсь с ними своим опытом.
– Вот и превосходно, – удовлетворенно проговорил он, переводя свой взгляд на каменную стену, завешенную плащ-палаткой. – Завтра проведем первое занятие. В восемь вечера. Хорошо?
Таня кивнула в знак согласия.
– Хорошо было бы, – продолжал капитан, по-прежнему не глядя на Таню, – если бы вы взяли себе в напарники одного бойца и обучили его снайперскому искусству. Я подберу хорошего парня.
Тане вспомнился Беленко, который был у нее напарником всего полдня и которого она не забыла до сих пор. Теперь, когда прошло более месяца со дня его смерти, ей казалось, что лучше Беленко не было товарища. Если бы капитан дал ей такого напарника, как Беленко!
«Если не понравится, я откажусь от него», – подумала она в вслух сказала:
– Против напарника не возражаю.
Капитан встал и весело воскликнул:
– Спасибо, товарищ Левидова! Через полчаса пришлю. До свидания!
Вскоре в землянку вошел солдат.
– Товарищ старшина, – приложив руку к виску, звонким голосом отрапортовал он, – ефрейтор Василий Рубашкин прибыл в ваше распоряжение для обучения снайперскому делу.
Таня внимательно посмотрела на своего будущего напарника. Был он молодой, с открытым лицом. Особенно хороши были его большие темно-голубые глаза с веселым блеском. Эти глаза, четко обрисованные губы и овальная форма лица делали его похожим на девушку.
Ефрейтор в свою очередь внимательно смотрел на Таню. О снайпере Левидовой он слышал, и в его воображении это была высокая, статная женщина с мужественным лицом – олицетворение народной мстительницы. Увидев перед собой невысокую худенькую девушку, он почувствовал в душе разочарование. Этой девушке он, бывалый воин, должен подчиняться!
Таня заметила по лицу ефрейтора, что он не очень-то доволен своей судьбой.
– За час до рассвета вы должны быть у меня, – заявила она решительно, хмуря брови. – Придете позже – меня уже не будет. Это – во-первых. Во-вторых, выполнять все мои приказания. В боях вы участвовали?
– За это не беспокойтесь, – со снисходительной улыбкой сказал Рубашкин. – Уже знаю, что сметка колет, сметка бьет, сметка немца в плен берет. Могу заверить вас, что буду послушным учеником.
– У вас есть винтовка с оптическим прицелом?
– Оптического прицела нет, но винтовка отличная. Капитан обещал достать снайперскую, если из меня выйдет толк.
– Посмотрим, – многозначительно усмехнулась Таня.
– Я понятливый, – опять улыбнулся Рубашкин. – Главное – желание есть.
– Ну, хорошо, – глянув на часы, заметила Таня. – Идите отдыхать.
После его ухода Таня сняла сапоги и легла спать. Когда пришла Катя, она уже спала.
Спустя неделю четыре снайпера батальона, с которыми занималась Таня, открыли свой счет. По этому случаю командир батальона пришел поздравить Таню. Он держал ее руку дольше, чем следовало, и при этом у него был сердитый вид, словно он злился на кого-то. После его ухода Катя заметила:
– Он влюблен в тебя.
– Глупости, – фыркнула Таня. – Он не имеет права.
Катя только улыбнулась.
Ефрейтор Рубашкин оказался сообразительным и исполнительным учеником. Таня не могла его ни в чем упрекнуть. Он быстро установил контакт с начпродом, и теперь Таня выходила на охоту не с одним куском хлеба, а. с колбасой и шоколадом.
Но однажды Таня услышала, как по ее адресу шутили: «Левидова обзавелась собственным поэтом. Теперь слава ей обеспечена». Оказывается, Рубашкин писал стихи. Это он написал для батальонного боевого листка стихи под заголовком «Левидова бьет редко, да попадает метко».
И дружеские отношения, установившиеся в первые дни, дали трещину. Дело не в том, что Таня не любила стихи, а в том, что из-за Рубашкина над ней начали шутить. Она перестала называть его Васей, стала относиться к нему с показным равнодушием, награждая незадачливого поэта сердитыми взглядами. Бедный Вася, не стеснительный в беседах с товарищами, теперь робел в ее присутствии. Он бы отказался от такого учителя, если бы не чувствовал к ней уважения и не желал бы стать отличным снайпером.








