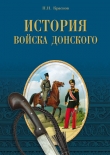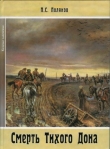Текст книги "«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа"
Автор книги: Феликс Кузнецов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 69 страниц)
Слов бесила, дурнопьян вообще нет у Крюкова. Но со словом бесила мы встречаемся уже в «Донских рассказах». Таких примеров – десятки. На всем протяжении «Тихого Дона» Пантелей Прокофьевич чикиляет, то есть прихрамывает. Этого слова также нет у Крюкова, но оно употребляется Шолоховым и в «Донских рассказах», и в «Поднятой целине». В «Донских рассказах» и в «Тихом Доне», в отличие от рассказов Крюкова, казаки ездят вназирку, то есть не спуская глаз с кого-либо, иногда охлюпкой, то есть без седла, носят одежду внапашку, то есть внакидку. И т. д. ...
Одна из любимых характеристик героев в «Донских рассказах» и в «Тихом Доне» – забурунный казак. Казаки в «Донских рассказах», «Тихом Доне» одинаково пьют дымку, то есть самогон, пользуются серниками, то есть спичками, чтобы зажечь гас, то есть керосин. У Шолохова букарь означает плуг, букарить – пахать, а лемеш – лемех; речная льдина – это крига; озерцо, болотце – музга, дно оврага – теклина, маленькое озерцо – ендова, подстилка из войлока – полсть, родник, ключ – криница, гвоздь для подковы – ухналь, водоподъемное колесо для полива огородов – чигирь, и т. д. ...
Ни одного из этих диалектных имен существительных нет в рассказах Крюкова, как нет и глаголов: плямкать – чмокать, вилюжить – оставлять кривой след, огарновать – окружить, кричать – плакать, полудневать – обедать и многих других.
В одном из писем М. Колосову в 1924 г. молодой Шолохов просит «прижаливать» его «творческое “я”» в правке рассказа «Продкомиссар». Глагол прижаливать, которого нет у Крюкова, мы встречаем и в «Донских рассказах», и в «Тихом Доне», и в «Поднятой целине».
Ермолаев приводил пример одной из типичных ошибок Шолохова – выражение «выгиная... спину» вместо выгибая. В воспоминаниях бывшего командующего вёшенской повстанческой армией Павла Кудинова (см. о нем главу IV) встречается глагол нагинаться. Это значит, что глагол нагинаться вместо нагибаться реально существовал в речи казаков, и, по мнению Ермолаева, был диалектным.
Но – откроем Даля:
«Нагибать или нагинать: нагнуть, нагибывать что, наклонять, сгибая, пригибать или приклонять; гнуть что дугою, одним концом вниз, или // клонить к чему-либо... В перв[ом] знач[ении] более употр[ебимо] нагибать, во втором нагинать»82. Даль фиксирует равноправное существование в русском языке слов: нагибание, нагинание, не указывая, что второе слово относится к диалектным. В рукописи «Тихого Дона» и в первых его изданиях во всех случаях это слово и прилагательные от него как в авторской, так и в прямой речи Шолохов, в отличие от Крюкова, писал: нагинать, нагинаться, огинать, загинать и т. д. ... Такое написание, видимо, соответствовало бытованию этого слова в казачьем говоре.
Позже редакторы, воюя с диалектизмами в «Тихом Доне» (с особой беспощадностью – в издании 1953 года), – во всех случаях заменили нагинаться «правильным» – нагибаться. Но в рукописи романа читаем: «Против станицы выгинается Дон коборжиной татарского сагайдака»; «Аксинья свернула в проулок, пригинаясь, почти побежала...»; «...Аксинья выгинаясь дугой, пронизывала Григория невыразимо страшным нарастающим криком»; «Крючкову вон три креста навесили за то, что при штабе огинается»; «нужда заставила там огинаться!» И – в «Поднятой целине», в прямой речи: «– Будешь еще загинать?» (6, 332). Подобное написание этих слов полностью отсутствует в рассказах Крюкова. Первая глава романа «Поднятая целина» открывается абзацем: «В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом проглянувшей из-под снега, из-под мертвой листвы земли» (6, 7).
«Запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега...» Что-то тут не так! Явная несогласованность, языковая небрежность, в общем-то, не свойственные Шолохову...
Однако в журнальной публикации и в ряде других изданий романа это место звучало иначе: «Запах вишневой коры понимается с пресной сыростью талого снега...» Понимается... Но это так же режет современный слух.
Откроем словарь Даля: «Понимать, понять что, постигать умом, познавать, разуметь, уразуметь // о воде, покрывать разливом, заливать, наводнять, потоплять. Луга поняты... Вода поймет, вода сольет – а все по-старому идет».
Именно в этом, втором значении, которое еще жило в народном языке, но уже было утрачено в языке литературном, Шолохов и употребил глагол понимать: «Запах вишневой коры понимается (то есть сливается) с пресной сыростью талого снега». А не знающие народного языка корректоры заменили «понимается» на «поднимается».
Такое вытеснение слов идет в языке постоянно. К примеру, слово полсть не обозначено у Даля как диалектное. Лишь постепенно его заменили войлок, кошма, фетр, а сохранилось оно только в диалекте.
Многие диалектизмы таят в себе такого рода языковую память, память народного языка.
Чтение Шолохова заставляет нас постоянно обращаться к «Толковому словарю живого великорусского языка» В. Даля – но вовсе не потому, что при создании своих произведений писатель руководствовался этим словарем. Шолохов привнес в литературу тот живой великорусский язык в его южнорусском воплощении, каким он реально существовал в пору Даля, сохранившись, как и многие местные говоры России, до начала XX века и много позже. В этом отношении язык «Тихого Дона» имеет прямое отношение к фольклору, поскольку, как уже говорилось выше, языковые диалекты – та же память истории, память культуры далеких поколений наших предков, неразрывно связанная с духовным, жизненным и трудовым опытом и языком, с преданиями и песнями народа.
Обладая уникальной языковой памятью, Шолохов знал слова, которых подчас нет даже в словаре Даля, в словарях казачьих говоров, не говоря уже о современных толковых словарях русского языка, но которые издревле существовали в народной речи. Исследователи принимали такие слова за неологизмы, поскольку их нет в словарях. Исследователь творчества Шолохова Вениамин Васильев, к примеру, считал слова дрожливый, изломистый, изморщиненный, изрытвленный, изузоренный, резучий, звонистый, насталенный неологизмами Шолохова83.
Не случайно Ермолаев, возражая Вениамину Васильеву, утверждает, что нельзя приписывать Шолохову создание большинства этих слов, хотя он и придает им новые ассоциативные значения при использовании их в переносном смысле. Примером может служить эпитет насталенный, который можно ошибочно принять за неологизм. Это слово образовано от глагола насталить, означающего «наварить сталь» на какой-нибудь предмет, в частности, на топор.
«В “Тихом Доне”, – продолжает Ермолаев, – эпитет насталенный служит цели описания пристального неломкого взгляда Бунчука (2: 161), злых глаз одного из командиров восставших казаков (3: 260) и чистого, твердого голоса отдающего команду есаула (1: 289). В другом месте автор употребляет глагол насталить, чтобы подчеркнуть суровое выражение глаз старого казака (1: 162), и Нагульнов говорит насталить сердце о человеке, который решительно обуздывает свои чувства (5: 33). Если реалист Шолохов позволяет Нагульнову употребить насталить, то это наглядное свидетельство того, что этот глагол встречается в речи простых казаков. То же самое относится, возможно, ко всем словам, которые Васильев считает введенными в лексикон Шолоховым»84.
Ермолаев приводит дополнительный список слов, употребляемых Шолоховым, многие из которых при невнимательном чтении можно принять за неологизмы – исследователь называет их «народными формами»: бель, белесь, желтень, прожелтень, желчь, рыжевень, рыжина, голубень, красина, сизь, синь, чернь, исчернь, чернина, чернеть85. Все эти имена существительные образованы народом из прилагательных, обозначающих цвет: белый, желтый, рыжий, голубой, красный, сизый, синий, черный и т. д.
Продолжим этот перечень встречающихся у Шолохова «народных форм», образованных из слов, которые обозначают состояние: марь, стынь, вызвездь, сколизь, усталь, звень, кипень, цветень, выцветень, запогодь, расторопь, мокрость, непролазь, непроглядь, прозелень, пахоть, прель, темь, сухомень, ростепель, наволочь, ровень, коловерть, теплынь, некось, стукотень, мешавень...
Таких слов, образованных от слов порой достаточно редких, также нет у Крюкова. В «Донских рассказах», «Тихом Доне» и «Поднятой целине» мы встречаем диалектный глагол стукотеть – от него образовано слово стукотень; от диалектного прилагательного склизкое – сколизь; от глагола наволакивать – наволочь (пасмурность, ненастье). Большею частью они представлены в «казачьих главах» «Тихого Дона»: «Камышовая непролазь»; «донец с белой на лбу вызвездью»; «чернь Аксиньиных глаз»; «серая застойная непроглядь»; «счастливая розовость востока»; «бель песчаной косы»; «желтая марь»; «чернь выложенной сединным серебром бороды»; «Звень падающей капели»; «сморенные усталью»; «шафранная цветень донника»; «серая непроглядь»; «дорога... текла, пересекая горизонт, в невидь»...
Те же слова – и в «Поднятой целине»: прозелень, чернь, изморозь, наволочь, коловерть, синь, сколизь, невидь, теплынь, некось, мокрость, мешавень, стукотень, жаль («Когда же ты меня покинешь, проклятая жаль?» – задает себе вопрос Кондрат Майданников, горюя о скотине, которую он отдал в колхоз). Встречаются эти слова и в «Донских рассказах»: мокрость, сколизь... Большею частью это – диалектизмы, хотя далеко не все они зафиксированы в «Словаре казачьих народных говоров».
За исключением общеупотребительных – таких, как зыбь, рябь, темь, – слова этого типа практически полностью отсутствуют в лексиконе Крюкова. «Антишолоховед» М. Мезенцев в подтверждение своей гипотезы об авторстве Крюкова заявлял, будто Шолохов заимствовал у Крюкова любимое последним слово зыбь. Но он «не заметил» отсутствия в рассказах Крюкова целого пласта словообразований того же типа, широко представленных в «Тихом Доне», равно как в «Донских рассказах» и «Поднятой целине».
Сопоставление диалектной лексики в произведениях Шолохова и в рассказах Крюкова свидетельствует об органическом языковом единстве «Тихого Дона», «Донских рассказов» и «Поднятой целины». В них практически один и тот же лексикон диалектных и местных речений, на 85% не совпадающий с лексиконом диалектных слов Крюкова. Анализ диалектизмов и местных речений также подтверждает несоразмерность богатства словарного запаса в «Тихом Доне», «Донских рассказах» и «Поднятой целине» с уровнем словарного запаса рассказов Крюкова.
Если допустить, что автор «казачьих глав» «Тихого Дона» – Крюков, то возникает естественный вопрос: как же он мог написать эти главы, располагая в рассказах всего 15% диалектного лексикона «Тихого Дона»? А ведь диалектные слова в «Тихом Доне» в своей превосходящей части падают именно на «казачьи главы».
Крюков или любой «белый офицер», чтобы написать «Тихий Дон», должен быть так же глубоко погружен в стихию народного языка и столь же исчерпывающе знать его, как знал Шолохов.
Количество диалектизмов в «Тихом Доне» – прежде всего, в авторской речи – несколько сокращается лишь в четвертой книге романа, который Шолохов завершил в конце тридцатых годов.
Все время работы над «Тихим Доном» – особенно в 30-е годы – писатель испытывал тяжкое давление – не только идеологическое, но и языковое и не в последнюю очередь в отношении диалектизмов.
Вместо того чтобы сопроводить текст романа, являющийся, помимо всего прочего, еще и уникальной заповедной кладовой народных форм казачьего языка, грамотным комментарием и словарем, редакторы варварски истребляли диалектные формы в «Тихом Доне». Гонения на диалектизмы начались в начале 30-х годов. По подсчетам Ермолаева, до 1953 года было сделано более двухсот «исправлений», касающихся диалектных форм86. Особенно беспощадно они были произведены в 1953 году редактором К. В. Потаповым, который изъял из романа сотни диалектизмов. Приведем пример потаповской редактуры – на него ссылается и Ермолаев. Фразу: «Не только бабу квелую и пустомясую, а и ядреных каршеватых атаманцев умел Степан валить с ног ловким ударом в голову» – К. Потапов «поправил» следующим образом: «Не только сильную женщину, а и ядреных атаманцев умел Степан валить с ног ловким ударом в голову». Как видим, «пурист» Потапов изъял из шолоховского текста просторечные и диалектные слова: «бабу квелую и пустомясую», каршеватых (от слова карша, что значит коряга), – а в итоге, по справедливому замечанию Ермолаева, «здесь уже нет Шолохова»87.
При подготовке Собрания сочинений в издательстве «Художественная литература» в 1956—1957 годах по требованию Шолохова многие диалектизмы были восстановлены, но далеко не все.
Следует отметить, что в течение 30-х годов менялось и отношение самого Шолохова к диалектизмам, – оно становилось более строгим и взыскательным. Сыграла свою роль и дискуссия о языке в середине 30-х годов, которая была начата по инициативе Горького. Известно, что Горький выступил с резкой критикой Панферова и некоторых других писателей, бездумно засорявших литературу вульгаризмами, просторечными и местными диалектными выражениями. Шолохов самокритично – думается, не в последнюю очередь из-за своего резко отрицательного отношения к Панферову – поддержал в этом споре Горького.
В 1955 году в беседе с К. Приймой писатель рассказал о некоторых других обстоятельствах «борьбы за чистоту русского языка» в 30-х годах: «Товарищ Сталин в беседе со мной также обратил внимание на необходимость очищения языка моих произведений от неполноценных, сорных слов. Иосиф Виссарионович, например, обратил внимание на начало 34 главы “Поднятой целины”: “Сбочь дороги – могильный курган” ... «Что за слово “сбочь”? – говорил товарищ Сталин. – Нет его у нас в русском языке. Есть слово “сбоку”, есть “обочина”. Слова полновесные, звучные, ясные». Замечания И. В. Сталина, А. М. Горького и многочисленных читателей, касающиеся чистоты языка “Тихого Дона” и “Поднятой целины”, мною учтены при исправлении текстов»88.
Как заметил в связи с этим Ермолаев, во всех шести случаях употребления слова сбочь в «Поднятой целине» и в тридцати случаях в «Тихом Доне» это слово было заменено другим словом или, в ряде случаев, удалено89. Правда, после 1956 года сбочь в некоторых местах текста было восстановлено, и теперь XXXIV глава первой книги «Поднятой целины» вновь начинается словами: «Сбочь дороги – могильный курган».
В результате внешних давлений, но, пожалуй, в большей степени по причине возросшей творческой зрелости автора в четвертой книге «Тихого Дона» – если иметь в виду авторскую речь – диалектизмов стало меньше, а главное – они не несли нарушений грамматических норм литературного русского языка. Стилистика романа стала более сдержанной, ушли «имажинистские» красивости, цветистоть троп «орнаментализма». Язык романа, сохранив все свое богатство и разнообразие, приблизился к классической ясности, недостижимой для Крюкова.

За рабочим столом. 1960 г.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Не занимаясь ранее профессионально ни Ф. Д. Крюковым, ни поздним народничеством, ни «Русским богатством», я решил проверить себя, свой взгляд на проблему, обратившись к лучшему специалисту по «Русскому богатству» и позднему народничеству, а, следовательно, и по Ф. Д. Крюкову, – ведущему научному сотруднику Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН М. Г. Петровой. Такая возможность возникла после завершения и опубликования журнального варианта книги, – с тем, чтобы возможные уточнения внести в окончательный, книжный ее вариант. Мнение М. Г. Петровой по проблематике книги мне было важно услышать еще и потому, что, она была одной из самых близких «невидимых» сотрудников А. И. Солженицына в пору его начинавшегося конфликта с властями, а ее принципиальность и объективность широко известны в ИМЛИ.
О Петровой А. И. Солженицын рассказал в книге «Бодался теленок с дубом»90, в «Пятом дополнении (1974—1975)» к нему, названном им «невидимка», – о людях, «невидимо» сотрудничавших с ним и поддерживавших его в самые трудные для него годы, перед эмиграцией. Очерк «Мира Геннадьевна Петрова» предшествует в этих дополнениях очерку «Стремя “Тихого Дона”», посвященному книге И. Н. Медведевой-Томашевской. Солженицын характеризует Миру Геннадьевну Петрову как «отважную, крайне самостоятельную и даже резкую». «... Она была так талантлива на восприятие литературы, что заменяла мне сразу 10—20 других читателей... <...> Текстолог, она провела анализ и сравнительную обработку многих моих пройденных редакций... из всех моих близких единственный серьезный знаток предреволюционной России (по роду службы занималась этим), она быстро наводила мне справки, особенно по известным интеллигентам, кадетам, по всеобщей истории, и других родов справки. Ибо изрядная часть жизни ее просиживалась в Ленинке».
Неудивительно, что первым человеком, к которому А. И. Солженицын обратился в связи с гипотезой о принадлежности «Тихого Дона» Ф. Д. Крюкову была М. Г. Петрова, как неудивителен и ее отказ как высокого и неподкупного профессионала литературной науки.
В ответ на мою просьбу прочитать книгу, посвященную проблеме авторства «Тихого Дона», она сказала: «Прочитаю со всем вниманием. Но Вы никогда не убедите меня, что “Тихий Дон” написал Шолохов». И было чрезвычайно важно услышать в ответ, после того, как книга была ею прочитана: «Я была не права. Вы меня убедили».
Приведу, с разрешения М. Г. Петровой, выдержки из ее письма ко мне, которое помогло в работе над книгой, в особенности над главами, посвященными Ф. Д. Крюкову.
«Мои впечатления». Вернее бы назвать – «Заметки профана», ибо «Тихий Дон» я читала полвека назад, без всякого внимания к исторической части повествования, с шолоховедением – вовсе не знакома, из «антишолоховедения» читала только Солженицына да историков Макаровых в «Новом мире». Даже «литературоведа Д*» не удосужилась прочесть, хотя Александр Исаевич в начале 70-х годов сватал и меня на эту роль. Я отказалась, сказав о Крюкове – «не тянет», а о самой затее – «недоказуемо» (есть записи в моем дневнике тех лет).
Ф. Д. Крюкова я знаю по своим занятиям «Русским богатством» и видела в книжках журнала, как некие «следопыты» яростно подчеркивали в крюковских текстах «улики» вроде: вахмистр Мелехов с красивыми, наглыми глазами.
Именно потому, что я не читала неосновательные штудии И. Н. Медведевой-Томашевской, я до последнего времени склонялась к солженицынской версии, изложенной со свойственным ему убеждающим напором и стилистическим блеском. Даже в «найденные рукописи» не очень верила. Не скрою и своего «отрицательного пристрастия» к нравственному и общественному облику Шолохова, пристрастия, общего с тем кругом людей, «о коих не сужу, затем, что к ним принадлежу».
Мое единственное непосредственное впечатление от Шолохова крайне негативно. В 1959 году в Колонном зале Дома Союзов проходил 3-й съезд писателей, и ЦГАЛИ (где я тогда работала) развернул в фойе большую выставку архивных материалов. Сотрудникам было предложено, выбрав себе писательский объект «по симпатии», подойти и завязать связь с архивом. Я выбрала Веру Панову. К Шолохову направилась сотрудница, которая занималась комплектованием художников и слыхом не слыхивала о «плагиате» и пр. Но как только она произнесла слово «архив», «классик советской литературы» пальнул в нее матерную очередь, не смущаясь присутствием людей. Он, видимо, в качестве вознесенного литературного вельможи, не обременял себя общепринятыми приличиями.
И все-таки: справедливость я люблю больше, чем не люблю Шолохова.
Ваша книга, круто замешанная на фактическом материале, охватывает последовательными кругами широкие пласты тем и проблем, не теряя из вида главный центр труда – авторство «Тихого Дона». Решающие доказательства заключены в трех главах: во второй – о рукописях Шолохова, в пятой – где речь идет о Филиппе Миронове, и в одиннадцатой – сравнение поэтики Шолохова и Крюкова.
Все другие аспекты (исторические, географические, временные, бытовые, прототипические и др.) тщательно проанализированы и вплетены в систему доказательств, но я, в качестве круглого профана, не могу о них судить.
Кроме того, полагаю, что всякого рода «временные сбои», «географические неувязки», путаница имен и названий встречаются во всяком большом произведении («Иногда дремлет великий Гомер», говорили в старину). Прямого отношения к проблеме авторства этот пласт претензий «антишолоховедов» не имеет, хотя он избыточно использован ими. И что еще они ответят на Ваши детальные и находчивые разъяснения, – неизвестно.
Развертывая контраргументы (другой автор, другой роман, другой герой, другая поэтика), Вы не можете отрицать, что действительность в этой мистерии была одна, близкая по месту и времени. И если бы какие-то записи Крюкова попали бы к Шолохову, он мог их использовать по-своему. Короленко (не какой-нибудь декадент!) полагал, что художник создает свою собственную «иллюзию мира», далекую от зеркальной объективности. Поэтому «мир Толстого» и «мир Чехова» различаются, при одной действительности.
Эту версию (об использовании чужих материалов) нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Выносить ее на публичный суд можно было только «по
– 740 -
злобе́», объяснимой разными причинами, но научное исследование такая утрированная подозрительность и даже уверенность в недоказуемом (украл, не у этого, так у другого) – не красит. Правда, и Шолохову не следовало утверждать, что он Крюкова не читал и не знает, во что трудно поверить.
По поводу использования чужих материалов мне близка точка зрения М. Чудаковой, приведенная Вами.
Ведь и Г. Хьетсо, который в 80-е годы делал доклад в ИМЛИ (председательствовал, помнится, П. В. Палиевский), завершил свое выступление несколько неожиданно: «Писал Шолохов, а что у него на столе лежало, – я не знаю».
То, что рядом с умирающим Крюковым мог (не мог) находиться Петр Громославский, документально не подтверждено: свидетельства заинтересованных в ту или другую сторону лиц – все позднейшие, да и в той горячечной круговерти даже «документ» не всегда соответствовал реальности.
Стержневая по материалу и убедительности глава о рукописях написана на высоком текстологическом уровне с продуктивным вниманием к общему и частному. Это, безусловно, главный козырь исследования.
С точки зрения текстологии лучше назвать главу «О чем говорят черновые рукописи», так как преобладают не первичные черновики, а «переработка» (по слову Шолохова), т. е. новая редакция, превращающая перебеленный текст в черновой (хорошо бы факсимильно воспроизвести эти страницы). И вообще-то рукопись разнохарактерная, и анализу подвергнуты не одни «черновики».
Написанные с большим чувством страницы о Филиппе Миронове только по виду являются историческим фоном. В них ключ к пониманию «двойственности» и позиции Шолохова, и образа Григория Мелехова, ибо и русская революция, и русская Вандея были крестьянскими: «солдат – процентов на восемьдесят – переодетый в шинель крестьянин (казак), сначала поверивший обманкам большевиков о земле и воле, а потом яростно восставший. И те «старатели», которые выстраивают свое деление текста «Тихого Дона» на примитиве: «красные» страницы – шолоховские, «белые» – крюковские просто не понимают того, что происходило в те годы в России. И не обладают словесно-интонационным слухом. Ведь тональность писем «красного» Ф. Миронова совпадает с тональностью «белого» Ф. Крюкова: убеждающая, незлобливая рассудительность, сердечная, если угодно, народническая, боль и тревога за судьбу народа.
Самая яркая и убедительная глава о поэтике Шолохова и Крюкова одновременно принесла мне, как человеку четверть века занимающемуся «Русским богатством» и Короленко, немалые огорчения. У всякого исследователя вырабатывается рефлекс защиты своего материала, особенно если этот материал всеми пинаемое и распинаемое народничество. Я допускаю, что во мне развилась особая болезненная чувствительность ко всякой критике моего «подзащитного», но стараюсь критику, соответствующую фактам, принимать и сама высказывать.
В Вашей работе меня огорчило следующее.
Вы утверждаете, что для «народнической традиции», которой придерживался Крюков, «народ является объектом жалости», а для Шолохова – «объектом любви и гордости». «До любви к народу... была не в силах подняться “обличительная” народническая литература с ее комплексом “вины и долга перед народом”, унижающим народ чувством жалости к нему». «Крюков так и не вышел за пределы традиций русской литературы XIX века, причем узко народнического...».
Мотив «презрения к жалости» и требование «уважения» к человеку возник на рубеже веков под влиянием Ницше, восставшего против «старой морали» христианства. И был поддержан и Горьким, и модернистами, и марксистами, которые на разные лады проповедовали «любовь к дальнему» так или иначе «преобразованному» человечеству. И презрение к современному «миллионному» обывателю. Этому хору противостояло «Русское богатство». Михайловский напоминал, что в народном языке слова «жалеть» и «любить» значат одно и то же. А Короленко едва ли не в каждом своем рассказе утверждал сострадание, причем не избирательное (по классовому, религиозному, национальному или эстетическому признаку), а безусловное, как незыблемая основа жизни.
М. Пришвин в своем дневнике 1930 года рассуждал: «Откуда явилось это чувство ответственности за мелкоту, за слезу ребенка <...> Это ведь христианство, привитое нам отчасти Достоевским, отчасти церковью, но в большей степени и социалистами. Разрыв традиции делает большевизм...» («Октябрь», 1989, № 7, с. 175). Сам Пришвин до революции был связан с социалистами народнического типа (журнал «Заветы», Иванов-Разумник).
Революционное презрение к жалости можно встретить у Шолохова (вспоминается Нагульнов) с его библейским размахом характера и страстей. У Крюкова совсем другой настрой души, евангельский по своей окраске (недаром он хотел стать священником и всегда любовно изображал священнослужителей). Не претендуя на первенство, крюковская «тихая печаль» тоже имеет свою цену. И я даже полагаю, что есть один жанр – эпистолярный, в котором Крюков превосходит Шолохова. Письма Крюкова очаровывают своим юмором, самоиронией, в них сквозит душа «Доброго человека с Тихого Дона», чего о Шолохове не скажешь.
Постоянное уничижительное педалирование по отношению к Крюкову меня ранит: «второстепенный донской писатель»; «автор уровня Федора Крюкова»; «однообразный», «унылый», «скучный», «тоскливый» описатель; презрительное «претендент», хотя скромный Крюков, по верному замечанию Солженицына, всю жизнь избегал всякой «надутой претензии».
Прежде всего, было бы «ах, как хорошо!» (помните у Писарева?) поубавить уничижительную лексику, не отказываясь, разумеется, от содержательных характеристик.
Вспоминается остроумная фраза о Крюкове, сказанная мне на рубеже 80-х годов в нашей институтской библиотеке: «С тех пор, как его обвинили в том, что Шолохов украл у него “Тихий Дон”, его книги рекомендовали не выдавать».
Не надо делать Крюкова «обвиняемым» в этом обоюдозапальчивом процессе! Его следует признать скромным, но настоящим писателем, с отдельными высокими удачами («Отец Нелид», «Мать», «Четверо» и др.).
Когда Антон Крайний (З. Н. Гиппиус) в 1913 г. обозвала Крюкова «беллетристической бездарностью», а Крюков, со свойственной ему самокритичностью, принял эту характеристику, Короленко решительно возразил: «Мнение Антона Крайнего нам окончательно не указ <...> Крюков писатель настоящий, без вывертов, без громкого поведения, но со своей собственной нотой, и первый дал нам настоящий колорит Дона» (Избранные письма. Т. 3. М., 1936, с. 228). «Классик Дона», определил Солженицын, много читавший Крюкова и показавший «уровень его мастерства» в главе 15 («Из записных книжек Федора Ковынева»), составленной из подлинных выписок из Крюкова, о чем Солженицын уведомил в конце «Октября шестнадцатого».
Эти выписки (в частности, пейзажные и портретные) отличаются яркой образностью и не похожи на те действительно анемичные примеры, которые приведены у Вас. Конечно, Солженицын отбирал самое удачное, но зачем Вам демонстрировать только слабое, явно проигрывающее на фоне шолоховского стиля?..
Этот отзыв – серьезный урок для меня как исследователя: в полемическом задоре, если ты стремишься оставаться в контексте серьезной науки, конечно же, не следует возвышать одного писателя за счет другого – так, как это делают «антишолоховеды». Да и есть ли необходимость возвышать Шолохова за счет Солженицына или Крюкова? Шолохов – писатель самодостаточный и к его масштабу это уже ничего не добавит.
Как самодостаточен и другой лауреат Нобелевской премии – А. И. Солженицын, который занял свое место в истории русской и мировой литературы. Самодостаточен и Ф. Д. Крюков, с его оценкой М. Г. Петровой как «скромного, но настоящего писателя» трудно не согласиться.
Народническая позиция Ф. Д. Крюкова не может не вызывать самой глубокой симпатии и уважения, – тем более у меня, значительную часть жизни посвятившего изучению народничества, правда – не позднего, но раннего. Вот почему при подготовке книжного издания моей работы я, как убедился читатель, внес коррективы в свою оценку народнического наследия в творчестве Крюкова и отказался от уничижительных, несправедливых слов в его адрес. Но оценка Крюкова М. Г. Петровой ни в малой степени не отменяет принципиального различия в масштабе и качестве художественных дарований Шолохова и Крюкова.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Динамов С. «Тихий Дон» Мих. Шолохова // Михаил Шолохов. М.: Кооп. изд-во писат. «Никитинские субботники», 1931. С. 26.
2 На подъеме. 1930. № 12. С. 130, 165.
3 Беседа Мих. Шолохова с читателями // На подъеме. 1930. № 6. С. 172.
4 Чехословацкий журнал «Лева Фронта» упрекал Шолохова в индифферентности его позиций при «изображении белых и красных», в том, что он затушевывает «классовое понимание борьбы» – Liva fronta. 1932. № 9. С. 38.
5 Прийма К. «Тихий Дон» сражается. Ростов-на-Дону, 1983. С. 369, 314, 152.
6 Там же. С. 477.
7 Там же. С. 485, 497.
8 Васильев В. Михаил Шолохов // Молодая гвардия. 1998. № 10. С. 259—260.
9 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 7—9.
10 Там же. С. 112—113.
11 Лежнев И. Михаил Шолохов. М., 1948. С. 47.
12 Там же. С. 48.
– 743 -
13 Крюков Ф. Д. Рассказы. Публицистика. М., 1990. С. 380. Далее ссылки на это издание даны в тексте (в скобках – номер страницы).