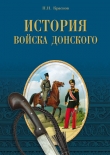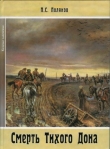Текст книги "«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа"
Автор книги: Феликс Кузнецов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 69 страниц)
Таковы отзвуки восстания весны 1918 года, которые слышны во второй книге «Тихого Дона». Но это – только слабые отзвуки того, что происходило в действительности.
Восстание охватывало станицу за станицей, начиная с Нижнего Дона и перебрасываясь на Верхний Дон: в начале – станица Суворовская, потом – Нижне-Чирская, Есауловская, Потемкинская, Верхне– и Нижне-Курмоярская, Нагавская, Заплавская под Новочеркасском... Это было началом общего восстания донских казаков и совпало с продвижением по Украине и Дону частей германской армии после заключения Брест-Литовского мира. На Дон вернулся из Сальских степей так называемый «степной» отряд, возглавляемый атаманом Поповым.
В апреле сотни восставших заняли Новочеркасск, и почти одновременно, в начале мая, немцы оккупировали Ростов-на-Дону. В Новочеркасске из представителей восставших станиц был созван Круг Спасения Дона, который объявил о создании Казачьей республики «Всевеликого Войска Донского» – его атаманом был избран генерал Краснов.
В соответствии с Основным законом, принятым Кругом Спасения Дона, Дон становился самостоятельным государством и фактически объявлял войну революционной России, поставив перед собой «историческую задачу спасения Москвы от воров и насильников».
Наиболее драматично восстание разворачивалось в Усть-Медведицком округе, где командиром был войсковой старшина 32-го Донского казачьего полка Филипп Миронов. Борьба между восставшими казаками, в числе которых был писатель Ф. Д. Крюков, и красными частями, которые возглавлял Ф. Миронов, продолжалась и после прихода к власти атамана Краснова и захвата восставшими практически всего Дона. Как свидетельствует белоэмигрантский историк А. А. Гордеев, к концу апреля 1918 года «главные очаги, занимавшиеся красными на территории Дона, были от большевиков очищены. Оставались не занятыми восставшими казаками станицы Усть-Медведицкого округа, расположенные к северу от линии железной дороги Царицын – Себряково – Поворино, в которых велась агитация изгнанным из Усть-Медведицы Мироновым...»15.
Рассказывая об участии казаков хутора Татарского в восстании 1918 года, Шолохов показывает, что именно Миронов возглавлял противостояние восставшим: «На севере станица Усть-Медведицкая гуляла из рук в руки: занимал Миронов с отрядом казаков-красногвардейцев, стекшихся к нему с хуторов Глазуновской, Ново-Александровской, Кумылженской, Скуришенской и других станиц, а через час выбивал его отряд белых партизан офицера Алексеева, и по улицам мелькали шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда.
На север из станицы в станицу перекатами валили верхнедонские казаки. Миронов уходил к границам Саратовской губернии. Почти весь Хоперский округ был освобожден от большевиков. К концу лета Донская армия, сбитая из казаков всех возрастов, способных носить оружие, стала на границах. Реорганизованная по пути, пополненная прибывшими из Новочеркасска офицерами, армия обретала подобие подлинной армии <...>
К концу лета боевые единицы, скомпонованные из сотен мигулинских, мешковских, казанских и шумилинских казаков, по приказу генерал-майора Алферова перешли донскую границу и, заняв Донецкое – первую на рубеже слободу Воронежской губернии, повели осаду уездного города Богучара».
И далее: «Уже четверо суток сотня татарских казаков под командой Петра Мелехова шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их спешно, не принимая боя, отступал к линии железной дороги Миронов»16.
Шолохов описывает историческую реальность, полностью подтверждаемую источниками.
А она такова: завершив воссоздание Всевеликого Войска Донского, сформировав практически заново Донскую армию и не ограничившись освобождением от большевиков донской земли, атаман Краснов и его сподвижники тут же дали команду казачьим войскам перейти границу Донской области, чтобы в союзе с «добровольцами» Деникина начать борьбу с революционной Россией. В этой борьбе атаман Краснов рассчитывал на помощь Германии. И – ошибся. После капитуляции в Первой мировой войне Германия была вынуждена вывести свои войска из России, что дало возможность Красной армии усилить нажим на донское казачество.
С другой стороны, казаки, уставшие от долгих лет войны, подняли восстание: они были готовы воевать с большевиками ради спасения родной земли, но не хотели сражаться за пределами Донской области.
В ответ на воззвания большевиков – листовку Донбюро РКП(б) (декабрь 1918) и Воззвание Реввоенсовета Республики (31 декабря 1918 года), в которых всем, кто сложит оружие, гарантировались жизнь и мирный труд, – казачьи полки верхнедонских станиц – Вёшенской, Казанской, Мигулинской и других в январе 1919 года открыли фронт Красной армии и вернулись домой. 8-я Красная армия, в авангарде которой была 23-я дивизия Ф. Миронова, прошла без боя через северные округа Области Войска Донского, а Донская армия отступила за Донец. После поражения Донской армии и ухода германских войск Краснов сдал свои атаманские полномочия генералу Богаевскому. В январе в Вёшенскую вернулся мятежный полк под командой будущего сподвижника Миронова – Якова Фомина; следом за ним вошли части Красной армии. Они восстановили в округе советскую власть и сразу же начали террор.
В январе—феврале 1919 года началось Верхнедонское восстание казачества, положившее начало новому этапу Гражданской войны на Дону. Восстание, спровоцированное самой властью, поставило под вопрос самую судьбу революции.
Дело не только в обмане верхнедонских казаков, когда Троцкий через открытые верхнедонцами ворота послал красные войска на Дон. Вместе с войсками сюда пришли военные трибуналы, начавшие чинить беспощадные, без суда и следствия, расправы над казачеством. Эти расправы осуществлялись на основе документов, подписанных Свердловым и Троцким.
Обращают на себя внимание сроки принятия этих документов. В начале января 1919 года верхнедонцы, добровольно открыв фронт Красной армии, вернулись домой. И уже в середине января член Донбюро РКП(б) А. Френкель направляет докладную записку Центральному Комитету РКП, в которой сообщает о «большой и сложной работе по уничтожению путем целого ряда мероприятий <...> кулацкого казачества как сословия, составляющего ядро контрреволюции»17.
За требованием «уничтожения кулацкого казачества как сословия» таился страх перед «Русской Вандеей», притянувшей к себе после октября 1917 года все главные контрреволюционные силы России – Корнилова, Деникина, большое число добровольцев из офицеров, студентов. На территории Дона сформировались две армии, которые боролись с большевиками – Донская и Добровольческая. И второе чувство, которое руководило Френкелем и его сподвижниками в требовании уничтожить казачество как сословие, – месть за «нагайки», за расправы над революционным движением в 1905—1906 и в 1917 годах.
В те же самые дни, когда Френкель писал свои докладные в ЦК с требованием «уничтожения казачества как сословия»18, прославленный красный комдив Филипп Миронов отправляет председателю Реввоенсовета Республики Троцкому следующую телеграмму:
«Население Дон[ской] области имеет свой бытовой уклад, свои верования, обычаи, духовные запросы и т. п. Желательно было бы при проведении в жизнь в Донской области декретов центральной власти обратить особенное внимание на бытовые и экономические особенности донского населения и для организации власти на Дону посылать людей, хорошо знакомых с этими особенностями, <...> а не таких, которые никогда на Дону не были, жизненного уклада Дона не знают, и такие люди кроме вреда революции ничего не принесут»19.
Так с самого начала прихода Красной армии на Дон четко обозначились две линии отношения к казачеству – условно говоря, линия Френкеля и линия Миронова. С мнением Миронова трудно было не считаться – популярность его на Дону к началу 1919 года была огромной.
За время боев с белоказаками во второй половине 1918 года из командующего Усть-Медведицким фронтом он вырос в фигуру общедонского масштаба и возглавил прославленную красную 23-ю дивизию.

Подъесаул Филипп Миронов с женой и детьми

Ф. К. Миронов у гроба сына Никодима, погибшего в империалистическую войну
12 января 1919 года – за несколько дней до получения приведенной выше телеграммы Миронова – Троцкий направил ему телеграмму с приветствием бойцам 23-й дивизии:
«Приветствую мужественных бойцов Вашей заслуженной дивизии! <...> Солдаты, командиры 23-й дивизии! Вся Россия смотрит с ожиданием на Вас»20.
В январе 1919 года Ф. Миронов возглавил Ударную группу войск Южного фронта и в начале февраля получил высокую для того времени награду – шашку в серебряной оправе и золотые часы за «блестящее выполнение 23-й дивизией боевых приказов, следствием чего наша армия далеко отбросила противника вглубь Дона»21.
К февралю 1919 года боевая слава и военные успехи Миронова, казалось бы, достигли своего пика. Но 18 февраля 1919 года Предреввоенсовета Троцкий своим распоряжением отзывает начдива Миронова с Дона в Серпухов, где находилась Ставка Главного командования, и направляет его на Западный фронт. Это новое назначение Миронова и перемещение его с Дона на Запад было связано с тем, что 24 января 1919 года была принята директива ЦК РКП(б) о государственной политике «расказачивания», которая, как мы видели, находилась в разительном противоречии с позицией Ф. Миронова.
Приведем текст этой директивы:
«Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б)
об отношении к казакам
24 января 1919 г.
Циркулярно. Секретно.
Последние события на различных фронтах в казачьих районах – наши продвижения вглубь казачьих поселений и разложение среди казачьих войск – заставляют нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо принять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселения, где это возможно.
4. Уравнять пришлых “иногородних” к казакам в земельном и во всех других отношениях.
5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания.
ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство Наркомзему разработать в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.
Центральный Комитет РКП»22.
На основании этого документа местные власти разработали целую систему практических мер по уничтожению казачества, закрепив их в форме специальной «Инструкции Реввоенсовета Южфронта к проведению директивы ЦК РКП(б) о борьбе с контрреволюцией на Дону» от 7 февраля 1919 года23.
Эти два документа обрушили на людей море бед и крови, а с другой стороны, вскоре оказавшись в руках восставших верхнедонцов, вызвали такой гнев и глубочайшую обиду казачества на советскую власть, что уже через месяц – в марте 1919 года – Верхний Дон заполыхал пожаром казачьего восстания. Первыми поднялись казаки именно тех станиц Вёшенского округа, которые, как уже говорилось, в январе по доброй воле открыли Красной армии дорогу на Дон. Так проявлял себя «военный коммунизм» Троцкого.
Не надо думать, что политика геноцида в отношении казачества не встречала противодействия. Не случайно уже через два месяца – сразу после смерти Свердлова – директива о расказачивании решением Пленума ЦК была отменена. Но, как показала практика жизни, только формально.
21 января 1919 года – накануне принятия в ЦК РКП(б) директивы о расказачивании – красный комдив Миронов обращается с воззванием к красноармейцам – бойцам возглавляемой им ударной группы, состоявшей из 23-й и 16-й дивизий: «Именем революции воспрещаю вам чинить самовольные реквизиции скота, лошадей и прочего имущества у населения. Воспрещаю насилие над личностью человека, ибо вы боретесь за права этого человека, а чтобы быть достойным борцом – необходимо научиться уважать человека вообще»24.
23 января 1919 года в Реввоенсовет Южного фронта обращается с докладом комиссар 23-й дивизии В. С. Ковалев, выполнявший при Филиппе Миронове ту же роль, что Фурманов при Чапаеве. Донской казак, атаманец, Виктор Семенович Ковалев – член РСДРП(б) с 1905 года, провел восемь лет на каторге в Енисейской губернии, был избран от большевиков депутатом Большого Войскового Круга, стал одним из организаторов Казачьего отдела ВЦИК. В 1918 году он был председателем президиума ЦИК Донской Советской республики, главкомом вооруженных сил. После поражения советской власти в мае 1918 года вместе с Мироновым организовывал сопротивление белым в Усть-Медведицком округе, а потом стал комиссаром 23-й дивизии, которой командовал Миронов. Старый, заслуженный большевик, тяжело больной человек (он умер от туберкулеза в 1919 году), глубоко знавший Дон и любивший его, В. С. Ковалев в своем докладе Реввоенсовету попытался предложить другую политику: не «расказачивание», но союз с казачеством. Ковалев писал: «...История нас учит, что силой оружия подчинить себе тот или другой народ нельзя. А нужно, чтобы народные массы сами признали Ваш авторитет. Это правило применено и к Донской области, а поэтому победить казаков нужно не только пулей, но и силой убеждения и своей правотой по отношению к ним. Этим мы их заставим перейти на нашу сторону. Если не перейдут на нашу сторону, то это будет не победа, а военный успех, и произойдет оккупация. И тогда мы должны сделать то, что сделал Петр Великий, когда усмирил Булавина. Петр сделал это для укрепления самодержавия, а нам придется сделать для укрепления социализма»25.
«Слова <...> о пулях, силе оружия и военном успехе и сравнение наших военных действий с укреплением самодержавия Петром Великим – прямо-таки чудовищны: от них веет меньшевистско-эсеровской “иезуитчиной” о большевистском материализме, – ответил Ковалеву А. Френкель от имени Донского бюро РКП(б). – Боязнь Ковалева пули и эта жажда увещеваний – это старая слабость казаков-большевиков (как-нибудь “миром уладить” со “своими”) <...>
“Прожект” В. Ковалева не имеет никакого практического значения...»26.
Сторонники политики «расказачивания» устроили настоящую травлю Миронова. Председатель Усть-Медведицкого окружного бюро РКП(б) Гроднер доносил председателю Донбюро РКП(б) Сырцову:
«Невероятно губительны политика, поведение и агитация гр. Миронова: устраивает по округу митинги, проливает демагогические крокодиловы слезы по поводу якобы нападок на него со стороны коммунистов, выдает себя за борца и сторонника бедноты <...> По его мнению, идейный коммунист – это только Ковалев, да и тот умер, и теперь наша грешная земля осталась без таковых. Определенный антисемит – это ярко видно из его речи по поводу теперешней власти, во главе которой в большинстве стоят юноши 18—20 лет, не умеющие даже правильно говорить по-русски. Результаты его политики уже налицо – казаки и кулачество уже поднимают голову»27.
Несмотря на противодействие и клевету, казачий красный комдив Миронов продолжает борьбу за спасение казачества. Выдворенный с Дона, в марте 1919 года он перед самым началом Вёшенского восстания пишет записку в Реввоенсовет Республики о путях привлечения казачества на сторону советской власти:
«Чтобы казачье население Дона удержать сочувствующим Советской власти, необходимо:
1) Считаться с его историческим, бытовым и религиозным укладом жизни <...>
2) <...> Обстановка повелительно требует, чтобы идея коммунизма проводилась в умы казачьего и коренного крестьянского населения путем лекций, бесед, брошюр и т. п., но ни в коем случае не насаждалась и не прививалась насильственно, как это “обещается” теперь всеми поступками и приемами “случайных коммунистов”.
3) В данный момент <...> лучше объявить твердые цены, по которым и требовать поставки продуктов от населения <...>
4) Предоставить населению под руководством опытных политических работников строить жизнь самим...»28.
На этом документе – две выразительные резолюции: «В принципе согласен. Главком Вацетис. 16/III—1919 г.». «Всецело присоединяюсь к политическим соображениям и требованиям и считаю их справедливыми. Член РВС Республики Аралов».
Резолюции Вацетиса и Аралова были написаны в день Пленума ЦК РКП(б) 16 марта 1919 г. – его вел Ленин; на Пленуме было принято решение о «приостановке применения мер против казачества». Вопрос о постановлении ЦК о казачестве поставил на Пленуме Г. Я. Сокольников, член Реввоенсовета Южного фронта и 9-й армии, заявивший, что «постановление это не выполнимо для донского казачества»29.
Как видим, далеко не все партийные и военные руководители принимали политику «расказачивания». Особую позицию в этом вопросе занимали главком Вацетис, член Реввоенсовета Республики С. И. Аралов, член Реввоенсовета Южного фронта Г. Я. Сокольников.
Но особенно решительно против политики «расказачивания» выступали казаки-большевики братья Трифоновы.
Валентин Андреевич Трифонов (1888—1938) и Евгений Андреевич Трифонов (1885—1937) – казаки станицы Новочеркасской – были профессиональными революционерами, вступившими в РСДРП в 1904 году. Пройдя школу революционной борьбы и революционного подполья, они были организаторами Красной гвардии в Петрограде в 1917 году, а в 1918 году направлены партией на Дон. Валентин Трифонов был избран первым председателем Донревкома, а Евгений был первым Комиссаром по военным делам Донской советской республики. Братья великолепно знали Дон и любили его всем сердцем. Сын Валентина Трифонова – писатель Юрий Трифонов – посвятил памяти отца книгу «Отблеск костра», где впервые был опубликован чрезвычайно важный документ – письмо В. Трифонова от 3 июля 1919 года своему другу и старейшему партийному работнику, члену Центральной Контрольной Комиссии ЦК А. А. Сольцу, а также, в качестве приложения к нему, заявление В. Трифонова в ЦК.
В этих документах содержится нелицеприятная характеристика Троцкого как руководителя Красной армии, беспощадная оценка его отношения к казачеству и трезвый анализ причин Вёшенского восстания.
«Прочитай мое заявление в ЦК партии и скажи свое мнение: стоит ли его передать Ленину? – спрашивает В. Трифонов А. Сольца. – Если стоит, то устрой так, чтобы оно попало к нему. На Юге творились и творятся величайшие безобразия и преступления, о которых нужно во все горло кричать на площадях, но, к сожалению, пока я это делать не могу. При нравах, которые здесь усвоены, мы никогда войны не кончим, а сами очень быстро скончаемся – от истощения. Южный фронт – это детище Троцкого и является плотью от плоти этого <...> бездарнейшего организатора»30.
В заявлении В. Трифонова в ЦК подробно раскрыты эти величайшие безобразия и преступления, творимые, с его точки зрения, Троцким и его сподвижниками, прежде всего, – Сырцовым и Френкелем:
«Казаков, явных контрреволюционеров, необходимо уничтожить, тем более что Красная Армия в состоянии это проделать, – такова была главная мысль Донбюро.
Огульное обвинение казаков в контрреволюционности является, конечно, плодом незрелого размышления, – писал В. Трифонов. – <...> Донбюро до сих пор считает, что целесообразно заменять советское строительство репрессиями <...> Ошибки, граничившие с преступлением, совершенные нами на Дону, сильно спутали карты и осложнили положение. Нужно много усилий и много такта, чтобы выправить положение <...> В основу нового строительства нужно положить следующий основной принцип: нужно твердо и определенно отказаться от политики репрессий по отношению к казакам вообще»31.
Неизвестно, прочитал ли Ленин заявление В. Трифонова. Зато известно, что другое заявление, на ту же самую тему и такого же рода – одно из писем Филиппа Миронова – Ленин читал, причем с карандашом в руках. Письма Миронова Ленину от 8 июля и 31 июля 1919 года – крик души и исповедь о трагических событиях, которые разворачивались на Дону. Миронов добился встречи с Лениным 8 июля 1919 года и вручил ему свое первое письмо, где привел полностью свою записку Реввоенсовету республики от 15 марта 1919 года. В этом документе он утверждал: «Чтобы казачье население Дона удержать сочувствующим Советской власти, необходимо: 1) Считаться с его историческим, бытовым и религиозным укладом жизни». И заявлял: если бы все согласились с этим, «теперь мы Донского фронта не имели бы»32.
В письме от 31 июля 1919 года Миронов ссылается на свою телеграмму от 24 июня 1919 г., адресованную Ленину, Троцкому и Калинину: «Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни, не по узкопартийной программе, а за строительство гласное, в котором народ принимал бы живое участие». Миронов требовал «созыва народного представительства» на Дону33.
А пока сопротивление казачества «грозит полным крахом делу социальной революции». «Не только на Дону деятельность некоторых ревкомов, особотделов, трибуналов и некоторых комиссаров вызвало поголовное восстание, но это восстание грозит разлиться широкою волной в крестьянских массах по лицу всей Республики»34.
Напомнив об этой телеграмме, Миронов раскрыл в своем письме содержание предыдущей беседы с Лениным:
«При личном свидании с Вами, Владимир Ильич, 8 июля я заявил Вам о сквозящем ко мне недоверии, ибо агенты Советской власти, совершающие каиново дело именем власти, знают, что я человек решительный и злых проклятых их действий не одобряю, как не должна одобрить их и власть, если она стоит на страже народного блага и если эта власть не смотрит на народ как на материал для опыта при проведении своих утопий, по крайней мере в ближайшем будущем, хотя бы и отдающих раем.
Я полагаю, что коммунистический строй – процесс долгого и терпеливого строительства, любовного, но не насильственного»35.
Однако, по мнению Миронова, этот разговор с Лениным результатов не дал. «Поводом к этому письму послужила та жестокость коммунистов, о какой мне поведали собравшиеся беглецы с Дона...»36; жестокость, вызвавшая Вёшенское восстание.
В своем письме Миронов рассказывает Ленину об «одном документе (секретном)», о котором ему сообщил знакомый по Дону член партии: «...В Донской области произвести террор, арестовать и расстрелять всех богатых казаков во благо социальной революции и таким путем обезвредить казачье население и сравнять его с бедняками неимущими, а также выселить на казачьи земли Хоперского и Усть-Медведицкого округов из центра 100 тыс. бедняков, дабы подавить собственное самолюбие казаков»37.
Миронов говорит здесь о приведенной выше директиве ЦК по «расказачиванию», которая попала в руки восставших казаков в самом начале Вёшенского мятежа, и о декрете СНК СССР от 27 апреля 1919 года о переселении в Донскую область 100 тысяч человек из средней России, – декрете, свидетельствующем, что отмена в середине марта Пленумом ЦК директивы о расказачивании была по сути актом формальным. Миронов продолжает цитировать Ленину письмо, которое получил с Дона:
«<...> Теперь становится очевидным, почему вёшенские казаки так ожесточенно сражались: им просто было известно все, и они решили лучше умереть с оружием, чем быть расстрелянными. Дальше скажу Вам, что весною волею судеб я был посвящен в некоторые тайны особого отдела N-ской армии. И мне бросилось в глаза то обстоятельство, что большинство казаков и казачек без видимой вины присуждались к выселению из области с конфискацией имущества, и теперь я понимаю, что это делалось неспроста. После этого становится ясным, почему Миронов стал лишним на Дону весной 1919 г.: да просто потому, [что] его нужно было убрать, чтобы он не видел, что делалось с его родиной. Миронов должен был совсем исчезнуть, но вера в него всей армии не допускала этого, и таким образом, мы еще можем с Вами переписываться»38.
Встав, как Григорий Мелехов «на грани в борьбе двух начал», Филипп Миронов писал Ленину – руководителю партии коммунистов – о «политике коммунистов по отношению к казачеству» как о политике «негодяев»: «Вся деятельность коммунистической партии, Вами возглавляемой, направлена на истребление казачества, на истребление человечества вообще», – заявлял он вождю. «<...> Агенты Советской власти, – писал он, – <...> вместо слова любви принесли на Дон <...> месть, пожары и разорение.
Чем оправдать такое поведение негодяев, проделанное в ст. Вёшенской, той станице, которая первая поняла роковую ошибку и оставила в январе 1919 г. Калачево-Богучарский фронт. Это поведение и вызвало поголовное восстание на Дону, если не роковое, то, во всяком случае, грозное, чреватое неисчерпаемыми последствиями для хода всей революции»39.
Миронов приводит в письме к Ленину целый перечень конкретных преступлений комиссаров с указанием их фамилий, хуторов, станиц, где совершалось надругательство над казаками, и подводит итог:
«Вот кто контрреволюционеры!
Невозможно, не хватит времени и бумаги, Владимир Ильич, чтобы описать ужасы “коммунистического строительства” на Дону. Да, пожалуй, и в крестьянских губерниях это строительство не лучше.
Коммуна – зло: такое понятие осталось там, где прошли коммунисты. Потому-то [так] много “внутренних банд”, много дезертиров. Но дезертиры ли это?
Большая часть крестьян судит о Советской власти по ее исполнителям. Можно ли удивляться тому, что крестьяне идут против этой власти, и ошибаются ли они со своей точки зрения?
Нужно ли удивляться восстанию на Дону; нужно [ли] удивляться долготерпению русского народа?»40.
Миронов объясняет Ленину, как и почему все это произошло:
«Наши части проходили вперед в полном порядке, ничем не вызывали ропота и возмущения у казаков, которым так много рассказывали и писали <...> о “зверствах” большевиков. Впечатление, следовательно, было самое благоприятное. Казачество успело сродниться с Красной Армией. Когда же наши части прошли, казачество осталось в одиночестве. За организацию взялись политотделы армии, дивизий и бригад <...> В результате развернулась картина ужасающей путаницы и произвола отдельных личностей. Тыл был предоставлен в распоряжение, может быть, очень надежных коммунистов, но совершенно не знающих ни психологии казачества, ни его особенностей. Они его рассматривали как контрреволюционный элемент, опасный сверху донизу. И малейшее недовольство, вызванное теми или другими фактами, подавляли силой оружия, а не силой слова. При таких условиях не могло быть и речи о закреплении тыла.
Наскоро сколоченные волостные и окружные ревкомы функций своих не знали, на казачество смотрели глазами усмирителей. И вот начались реквизиции, конфискации, аресты и т. п. <...> Растерявшееся казачество разводило руками, ахало, удивлялось, возмущалось и, в конце концов, пришло к такому выводу, что “коммуния” – дело неподходящее, ибо коммунисты “дюже” свирепы. А вот Советы, в которых сидят бедняки и правят по-справедливому – вещь хорошая. А потому: “Да здравствуют Советы и долой коммунистов!” Отсюда все и загорелось <...>
Кому это нужно – не секрет: стоит быть только внимательным к тому, что проделывают над казачьим населением, а вместе с ним заодно и над русским народом.
Сшибают лбами казака и крестьянина, казака и рабочего. Боятся, чтобы эти люди не столковались и не примирились, что не в интересах тех, кто наметил адский план уничтожения казачества, план, который теперь так грубо обнаружил свой скелет: им нужно туда-сюда пройти по казачьим областям и под видом усмирения искусственно вызываемых восстаний обезлюдить казачьи области, опролетарить, разорить остатки населения и, поселив потом безземельных, начать строительство “коммунистического рая”.
А я считаю это диким безумием, нелепостью <...>
Если бы рабочие знали эту искусственно создаваемую контрреволюционность, я уверен, они прокляли бы и коммунизм, и коммунистов, и вождей. <...>
Теперь, Владимир Ильич, судите, кто я.
Я не могу дальше мириться с тем насилием, с тем анархо-коммунистическим течением, которое господствует теперь в нашей Республике, с течением, что осудило целый многомиллионный разряд людей – казачество – на истребление. Я не могу согласиться с тенденцией “всё разрушай, да зиждется новое”, с разрушением всего того, что имеет трудовое крестьянство и что нажило оно путем кровавого труда, чтобы на этом разрушении начинать новую жизнь, полную новых опасностей, и которая хороша пока только в теории. Я сторонник того, чтобы, не трогая трудового крестьянства с его бытовым и религиозным укладом жизни, не нарушая его привычек, увлечь его к лучшей и светлой жизни личным примером, показом, а не громкими, трескучими фразами доморощенных коммунистов, на губах которых у большинства еще не обсохло молоко, большинство которых в прошлом представляли общественные подонки, не в силу условий, а в силу преступной своей природы, и большинство которых не может отличить пшеницы от ячменя, хотя с большим апломбом во время митингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства. <...>
Я не хочу сказать, что все трудовое крестьянство отшатнулось от Советской власти. Нет, в ее блага оно еще верит и не хочет возврата власти помещиков и капиталистов, но измученное в напрасных поисках правды и справедливости, блуждая в коммунистических сумерках, оно только обращается к вам, идейным советским работникам: “Не сулите нам журавля в небе, дайте синицу в руки”. <...>
Отражая этим письмом не личный взгляд на создавшееся положение, а взгляд многомиллионного трудового крестьянства и казачества, – счел необходимым одновременно копии этого письма сообщить моим многочисленным верным друзьям.
31 июля 1919 г., г. Саранск.
Искренне уважающий Вас и преданный Вашим идеям комдонкор гражданин казак Усть-Медведицкой станицы [Миронов]»41.