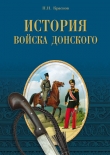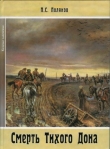Текст книги "«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа"
Автор книги: Феликс Кузнецов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 69 страниц)
«В [последнюю] предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в [станицу] хутор [тогда еще молодой] казак Мелехов Прокофий...»
На одном только примере, фактически на одном абзаце мы проследили, как работал Шолохов, чтобы точнее, лаконичнее и выразительнее зазвучало самое начало его романа.
Мы видим, как зарождается под пером мастера этот становой для «Тихого Дона» образ «стремени Дона». Тот самый образ, который И. Н. Медведева-Томашевская выбрала для названия своей работы, призванной опровергнуть принадлежность «Тихого Дона» его создателю. Этот же образ она взяла и в эпиграф своей книжки: «Стремнину реки, ее течение, донцы именуют стременем: стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком» – имея в виду, что «боком повернуто» будто бы право авторства Шолохова на «Тихий Дон».
Но рукопись романа зримо увлекает нас в самую глубь, стремнину шолоховской прозы, не оставляя возможности для сомнений в авторстве.
ЕЩЕ ОДНО НАЧАЛО?
В ходе работы над рукописями писателя текстологам придется столкнуться со многими неожиданностями.
Вот первая: еще одно начало «Тихого Дона». После двенадцати страниц текста вдруг открывается новый титул (перечеркнутый красным и синим карандашом), помеченный другим, более ранним числом: «Вёшенская. 6-го ноября 1926». И далее посередине страницы крупно:
«ТИХИЙ ДОН
Роман
Часть первая
1».
«1» (переправленное на 3) – это значит первая глава первой части романа «Тихий Дон».
Судя по всему, этот титул, помеченный 6-м ноября 1926 года, и эта первая глава, помеченная 8 ноября 1926 года, и были действительным началом работы Шолохова над своим романом осенью 1926 года. Подтверждение тому – не только титул, но и нумерация страниц. Начальная страница от 8 ноября пронумерована цифрой 1, а уже потом она обозначена как 13-я и 9-я. Судя по всему, перед началом работы Шолохов сразу пронумеровал целую стопку листов бумаги – 50 страниц. И это очень поможет текстологам, потому что в итоге, в процессе работы над романом и перестановок отдельных глав, разделов и кусков текста на полях рукописи образовались три нумерации страниц. На многих из них нумерация тройная, на иных – двойная, а на некоторых – одинарная.
Обратимся к странице 13/9, которая первоначально была обозначена как стр. 1. На ее левой стороне написан черными чернилами и позже перечеркнут синим карандашом текст:
«Вёшенская
6-го ноября 1926»
И далее, по середине страницы крупно:
«ТИХИЙ ДОН
Роман
Часть первая
1».
Работая над первой частью романа, Шолохов обязательно ставил число, когда начинал писать очередной фрагмент текста. Итак – не 15-е, как было отмечено ранее, а 6-е ноября – такова, оказывается, первоначальная дата начала работы над романом. Но 6-го ноября 1926 года, кроме заглавия романа, Шолохов не написал ни строчки. В простое оказался и день 7 ноября – праздник Октябрьской революции.
В следующей записи – новая дата: «8.XI». И текст главы первой, как раз и являющийся началом романа. Не скажу – началом того «Тихого Дона», каким мы знаем его сегодня, но началом работы над романом осенью 1926 года. Рукопись выявляет настойчивые авторские поиски «запева» «Тихого Дона».
Приведем этот текст по рукописи романа, помечая вычеркнутые автором квадратными скобками и выделяя вновь написанные слова. Прикоснемся к «мукам слова» Шолохова, тем более, что в данном случае (это относится далеко не ко всей рукописи) мы имеем три редакции рукописного текста, не считая окончательного, печатного. Пойдем фраза за фразой, сопоставляя черновой и беловой варианты текста этой первой главы «Тихого Дона», которая в печатном варианте оказалась третьей:
Черновой текст
«Григорий пришел с игрищ [в полночь] после первых петухов. [Из сенцев пахнуло] Тихонько отворил дверь в сенцы. Пахнуло запахом перекисших хмелин и острым мертвячим душком вянущего чеборца. Чуть слышно поскрипывая сапогами, закусив губ[ы]у, и [ступая] на носках прошел в горницу. [Из кухни] разделся [быстро], бережно вывернул на изнанку [суконные] праздничные синие шаровары с лампасами, повесил их на спинку кровати, перекрестился и лег. На полу желтый квадрат лунного света, в [окно видно] углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец посеребреных икон, над кроватью на подвеске глухой мушиный стон. Задремал было, но в кухне заплакал ребенок. Певуче заскрипела люлька. Сон²ны[й]м [сердитый] голосом Дар¹ь[и]я – [жены] братнин[ой]а жен[ы]а бормотнула
– Цыц! Нет на тебя угомону, все будет ворочаться, да реветь... Спи!»
Беловой текст
«Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из сенцев пахнуло на него запахом хмелин и сушеной богородицыной травки.
На носках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные с лампасами шаровары, перекрестился и лег.
На полу, перерезанная оконным переплетом, золотая дрема лунного света. В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец посеребренных икон, над кроватью на подвеске тяжкий гуд потревоженных мух.
Задремал было, но в кухне заплакал братнин ребенок. Немазанной арбой заскрипела люлька, Дарья сонным голосом бормотнула:
– Цыц, ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою...».
Очевидна та серьезная правка текста, когда Шолохов писал новый – второй «беловой» вариант – дополнительно к той правке, которая вносилась им в «черновик». Снята фраза «тихонько отворил дверь в сенцы», взамен «пахнуло запахом перекисших хмелин и острым мертвячим душком вянущего чеборца» Шолохов пишет: «Из сенцев пахнуло на него запахом хмелин и сушеной богородицыной травки».
Вместо «чуть слышно поскрипывая сапогами, закусив губу, на носках прошел в горницу» – кратко: «на носках прошел в горницу», взамен «бережно вывернул на изнанку праздничные синие шаровары с лампасами» – просто: «бережно повесил праздничные с лампасами шаровары», вместо «На полу желтый квадрат лунного света» – «На полу, перерезанная оконным переплетом, золотая дрема лунного света», вместо «над кроватью на подвеске глухой мушиный стон» – «над кроватью на подвеске тяжкий гуд потревоженных мух». И, наконец,
– 59 -
вместо «Певуче заскрипела люлька. Сонным голосом Дарья – братнина жена бормотнула
– Цыц! Нет на тебя угомону, все будет ворочаться, да реветь... Спи!» – «Немазанной арбой заскрипела люлька, Дарья сонным голосом бормотнула:
– Цыц, ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою...».
Сравнение двух вариантов текста свидетельствует о том, что каждое изменение его взвешено и художественно мотивировано, оно либо сокращает и упрощает текст, сообщая ему большую лаконичность и упругость, либо усиливает его изобразительное начало.
Одна из поправок важна для нас еще и потому, что подтверждает: именно этими страницами начинал Шолохов 8 ноября 1926 года «Тихий Дон». Поскольку это было начало романа, Шолохов, вводя в действие Дарью, делает важное пояснение: «Дарья – братнина жена». Во втором беловом варианте это пояснение убирается, потому что после переработки первой части романа, когда было написано новое начало и первая глава стала третьей, Дарья уже была представлена читателю: «... Дуняшка – отцова слабость – длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитем – вот и вся мелеховская семья» (2, 13).
Продолжение сцены, которой первоначально начинался роман, – на обороте листа (стр. 2/14/10). Продемонстрируем черновой и беловой варианты этого текста:
Черновой текст
«По Дону наискось [изломанная волнистая лунная стежка] волнистый, никем неезженный лунный шлях. Над Доном туман, а вверху [рассыпанныо золотое] про2со звез1дное.
Григорий ведет коня по проулку, лицо щекочет налетевшая паутина. Сон пропал. Конь идет [осторожно] сторожко переставляя ноги, к воде спуск крутой.
На той стороне крякают дикие утки, возле берега в тине взвертывает [хвостом] омахом охотящийся на мелочь сом.
Возвращаясь домой Григорий смотрит [через проулок] на вос[ток]ход. [За станицей] хутором, за увалом бугр[и]астой хребтиной обдонских меловых гор чуть приметно сизеет небо, меркнут дотлевают под пепельным пологом рассвета звезды и тянет легонький предрассветный ветерок]. Скоро свет».
Беловой текст
По Дону наискось волнистый, никем не наезженный лунный шлях. Над Доном туман, а вверху звездное просо.
Григорий повел коня по проулку, щекотнула лицо налетевшая паутина и неожиданно пропал сон. Конь сзади сторожко переставлял ноги, к воде спуск [крутой] дурной.
На той стороне утиный кряк, возле берега в тине взвернул и бухнул по воде омахом охотившийся на мелочь сом.
[Возвращая] Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег, с конских губ ронялась дробная капель.
[Возвращаясь поглядел на восход]. На сердце у Григория легкая [и] сладостная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь глянул на восход. – [скоро день]. Там уже рассосалась синяя полутьма. На пепельном пологе сизеющего неба доклевывал краснохвостый рассвет остатки звездного проса».
Взамен развернутого образа «обдонских меловых гор», за «увалом» которых «под пепельным пологом рассвета» «дотлевают <...> звезды», Шолохов записывает на полях другой, не менее красивый, поначалу полюбившийся ему образ: «на пепельном пологе сизеющего неба доклевывал краснохвостый [рассвет] день остатки звездного проса».
И опять – во многом переписанный, «ужатый» текст, вместе с тем – новые образы, видоизмененные, уточненные тропы, в значительной степени – новые языковые формы.
Интересно соотнести этот предварительный беловой текст с окончательным рукописным и с печатным, как он был опубликован вначале в журнале «Октябрь», а потом в книге.
Их сравнение показывает, что они совпадают в главном – при продолжающихся авторских уточнениях, шлифовке текста: скажем, «пахнуло запахом» не просто «сушеной богородичной травки», но – «пряной сухменью богородичной травки»; Григорий «прошел в горницу» не «на носках», но «на ципочках» (именно так, через «и»); вместо «на полу, перерезанная оконным переплетом, золотая дрема лунного света» – «перерезанная крестом оконного переплета...», вместо «[тяжкий] гуд потревоженных мух» – «тяжелый гуд потревоженных мух...».
Во втором абзаце окончательного «белового» текста мы видим ту же продолжительную кропотливую работу Шолохова над словом: фразу «щекотнула лицо налетевшая паутина» он переносит в начало абзаца и расширяет ее: «Разбитый сном добрался Григорий до конюшни и вывел коня на проулок. Щекотнула лицо налетевшая паутина и неожиданно пропал сон»; вместо «на пепельном пологе сизеющего неба» в столь дорогой ему фразе о «краснохвостом рассветном дне», который «доклевывал остатки звездного проса» – более емкие и точные слова: «На сизом пологе неба доклевывал краснохвостый рассвет звездное просо».
Соотнесем этот текст из начала «Тихого Дона», каким оно виделось Шолохову 8—13 ноября 1926 года, с журнальным и книжным текстом, где эта глава значится под номером III. Текст остался в основе без изменений. Только «на цыпочках» пишется уже через «ы», да взамен «посеребренных» стоит «серебрённых икон». Есть и одна принципиальная утрата: полюбившуюся ему вначале, навеянную изысками орнаментальной прозы фразу о «краснохвостом рассветном дне», которую Шолохов старательно перебеливал и уточнял от варианта к варианту, писатель в итоге выбросил из окончательного текста романа – она не выдержала конечной проверки строгим вкусом автора.
8 ноября 1926 г., когда Шолохов начал работу над «Тихим Доном», он успел написать всего страницу первой главы.
9 ноября писатель продолжил работу над этой главой романа.
На следующий день, 10 ноября, им была написана страница, переходная к следующей главе, – начало ее обведено синим карандашом и отмечено записью на полях: «Перенести этот отрывок к гл. 6/10». Отрывок начинается словами: «За два дня до Троицы станичные растрясали луг». В книге этот отрывок открывает VIII главу: «За два дня до Троицы хуторские делили луг...» (2, 47).
11/XI – было написано 4 страницы текста с незначительными помарками, посвященных хорошо знакомому Шолохову занятию – рыбалке.
12/XI – еще одна страница, завершающая главу о рыбалке. В рукописи она значилась вначале под номером 3, потом – 5, в книге – под номером IV. Ее начало: «[На другой день] К вечеру собралась гроза...».
Работа продолжалась 13 и 14 ноября, когда Шолохов пишет главу о конном состязании молодых казаков Григория Мелехова и Митьки Коршунова с хорунжим Мануйловым (в окончательном тексте романа – Листницким).
Исследование рукописи свидетельствует: начальные страницы романа, помеченные ноябрем 1926 года, и первые главы все больше не устраивали автора. Написав четыре главы первой части и завершив пятую, посвященную скачкам (Шолохов писал ее с 13 по 14 ноября), автор вдруг ставит на полях решительную «резолюцию»: «Похерить сию главу: никчемушная». Но в конечном счете он не выполняет собственное указание: после переработки первой части романа сцена скачек все-таки оказалась в VIII главе.
Раздраженная «резолюция» от 14 ноября 1926 г. симптоматична. За ней – видимая неудовлетворенность начальным ходом работы над романом: написанные за неделю почти пять глав романа рассыпа́лись, не составляли чего-то общего и единого, уводили в частности.
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!
Промучавшись над текстом романа с 6-го по 14 ноября, Шолохов принимает смелое решение: отказаться от самого первого «начала», датированного 8 ноября. Он берет лист и в левом верхнем углу выводит:
«Вёшенская
15-го ноября
1926».
Далее – крупно, в середине страницы:
«ТИХИЙ ДОН
роман
Часть первая
1 А».
В правом верхнем углу писатель начинает новую нумерацию страниц: 1.
Тогда-то на бумагу и ложится известная всему миру первая строка романа «Тихий Дон»: «Мелеховский двор на самом краю станицы...». Заметим, правда, что речь здесь идет не о хуторе Татарском, а о безымянной пока станице.
Так и появилось то самое эпическое начало «Тихого Дона», которое (после авторской правки в черновой и беловой рукописях) мы читаем во всех изданиях. Оно вошло в учебники литературы, сам Шолохов мог цитировать его наизусть и мы столь детально проанализировали.
Это было не просто изменение начала романа, но переделка всего уже написанного текста. Более того – изменение самого замысла книги.
Появился не просто новый первый абзац, по-новому открывающий роман, но – новая первая глава 1А, как ее обозначил для себя писатель. В беловике, в журнальном и книжном издании буква А, конечно, уйдет. И эта новая глава даст направляющий свет всему следующему действию уже не любовного, но эпического романа. Шолохов ухватил, наконец, ту «мелодию», которая и сделала его роман «Тихим Доном». Он нашел для своей вновь написанной первой главы тот внутренний эпический масштаб, который, говоря шолоховским языком, «кристаллизовал» как характер центрального героя, так и всю последующую «фабульную коллизию» романа.
Выше мы привели первый абзац канонического начала «Тихого Дона», помеченного как глава «1А».
Завершается эта глава в рукописи так:
«Женил его Прокофий на казачке – дочери соседа. С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей, отсюда и повелись в станице горбоносые глазастые Мелеховы, а по-улишному – турки».
Следующий день, 16 ноября, Шолохов посвящает второй главе, обозначив ее как «2А». Позже две эти главы писатель сократит и объединит.
Главы «1А» и «2А» – принципиально важное для романа художественное открытие автора: они посвящены казачьему роду Мелеховых, его судьбе, его истории, что выводило «Тихий Дон» на уровень народного эпоса.
Муки творчества Шолохова заключались не только и, может быть, не столько в правке стиля, а прежде всего, – в напряженной работе авторской мысли, поиске художественных решений, в частности, подлинного начала «Тихого Дона» – его экспозиции, завязки и развития всего сюжета.
В процессе этого поиска Шолохов перепланировал, перекомпоновал, переделал написанное и дал новую нумерацию страниц. После этого вновь – уже по третьему разу – он продолжал работать над текстом, сокращал и дописывал его, – так возникла необходимость уже третьей нумерации страниц. И все это авторское «колдовство» отразилось в тексте рукописи. И разбирать его текстологам придется многие годы.
Лишь в процессе детального кропотливого, шаг за шагом исследования текста великого художника можно в полном объеме восстановить ход его работы над романом.
Но уже сегодня обнаруживается немало тайн, которые предстоит раскрыть. К примеру – имена героев романа. Далеко не все они были даны автором сразу и окончательно. Даже Аксинью Шолохов нередко
называет Анисьей. Отец Григория Мелехова на протяжении всей первой части романа зовется поначалу то Иваном Андреевичем, то Иваном Семеновичем. И хотя в главе 1А после авторской правки он уже Пантелей Прокофьевич, в ходе работы над черновой рукописью он обретет это имя значительно позже, в самом конце первой части.
Коршунов-старший в начале первой части романа зовется в рукописи Игнатом Федоровичем, и лишь к концу ее он становится Мироном Григорьевичем.
На протяжении всей первой части рукописи Мелеховы живут в станице, которой Шолохов так и не дал названия. Лишь на 73-й странице, где описывается свадьба в доме Мелеховых, станица превращается в хутор.
Но и у него долгое время нет названия, хотя уже не раз был упомянут соседний с хутором Татарский курган. Лишь после переработки первой части романа хутор обрел название – Татарский.
К вопросу об именах собственных и географических мы еще вернемся. А пока подчеркнем: перевод станицы в хутор как центр действия в «Тихом Доне» неслучаен: как только Шолохов обрел окончательную завязку своего романа, поставив во главу угла род, родовое, а точнее – эпическое начало, – возникла необходимость приблизить его действие к земле.
Историк С. Н. Семанов в книге «“Тихий Дон” – литература и история» пишет: «Станица – это не только крупное село, но и административный участок, нечто вроде волости в неказачьих районах России. В станице находилась резиденция атамана и станичного правления, здесь было низшее военное и гражданское подразделение области. В систему станичного правления входили многочисленные хутора, то есть казачьи села, объединенные вокруг своего административного центра. (Совсем иное понятие вкладывалось в слово “хутор” в коренных районах России: односемейная усадьба, отделенная от деревенской общины социально и территориально. К примеру, станица Вёшенская – один из центров Верхне-Донского округа, а изображенный М. Шолоховым хутор Татарский – один из хуторов этой станицы)».7
Хутор Татарский – «вымышленный» географический пункт в романе, остальные названия городов, станиц, хуторов, рек и т. д., – подлинные, находящиеся в точном и полном соответствии с топонимикой и топографией Верхнего Дона.
К сожалению, после главы 13, помеченной 28 ноября, Шолохов перестал ставить даты написания на страницах первой части романа. За короткое время – двадцать дней – с 8 по 28 ноября было написано тринадцать глав первой части романа общим числом около 60 крупноформатных страниц. И кроме того – переделан, перепланирован, а местами и заново написан весь текст этих глав.
Воистину, ноябрь 1926 года был «болдинской осенью» Шолохова, когда писалось и днем и ночью.
На 75—76-й страницах писатель завершает последнюю – 24-ю главу первой части романа – о первой брачной ночи Григория и Натальи и о насилии над поденной работницей Нюрой. На полях здесь стоит пометка «Перенести?» – не «перенес» – «похерил».
После чего, на той же 76 странице рукописи крупно значится:Часть вторая
1».
Но начала первой главы второй части на этой странице так и не последовало.
Вместо него написан столбик цифр —
50
× 35
1750
х 80
140000
Это хорошо знакомый каждому пишущему подсчет: число строк на странице – 50 множится на число печатных знаков в строке – 35, что дает 1750, далее число знаков на странице – 1750 умножается на количество страниц первой части рукописи – 80, что дает 140 тысяч печатных знаков.
Учитывая, что один авторский лист составляет 40 тысяч знаков, делим 140 тысяч на 40 тысяч и получаем: 3 с половиной авторских листа первой части «Тихого Дона», которые Шолохов написал за месяц. А поскольку в первых двух книгах «Тихого Дона» 38 авторских листов, то, поделив их на три с половиной авторских листа, которые Шолохов писал за месяц, получим около 11 месяцев. Вторая книга романа «Тихий Дон» была сдана им в «Октябрь» одновременно с первой – в конце 1927 года. Обе книги печатались в этом журнале без перерыва и закончились публикацией в сдвоенном, девятом-десятом номере «Октября» за 1928 г.
Но когда же Шолохов успел написать вторую книгу романа? Ответ на этот сакраментальный вопрос, который так любят задавать «антишолоховеды», содержится в тексте рукописи.
«ДОНЩИНА»?
Удивительно, но в рукописи «Тихого Дона» таится еще один – уже третий титульный лист, а за ним около десяти самостоятельных страниц текста со своей нумерацией, выпадающих из общего потока повествования. Этот лист выглядит так:
«1925 год. Осень.
Тихий Дон
роман
Часть первая».
Строки эти крупно написаны от руки и позже зачеркнуты синим карандашом.
Что это? – еще один – третий вариант?
Этот вопрос возвращает нас к приведенным в начале главы свидетельствам Шолохова о времени начала работы над романом.
Обращает на себя внимание противоречивость этих свидетельств. В беседе с И. Экслером («Известия». 1937. 31 декабря) Шолохов говорит, что начал работу над романом в конце 1926 года, что, как мы убедились, получило подтверждение в тексте его рукописи.
В той же беседе он сказал: «Начал я писать роман в 1925 году»8.
Но как быть тогда со столь же определенным утверждением Шолохова в той же беседе с И. Экслером, что он начал писать «Тихий Дон» в 1926 г.? Тем более, что рукопись первой и второй книг «Тихого Дона» подтверждает это свидетельство: начальные главы романа датированы в ней ноябрем 1926 года. Как выйти из этого противоречия?
Противоречия здесь нет: в этой же беседе Шолохов так продолжил свою мысль: «“Тихий Дон” <...> каким он есть, я начал примерно с конца 1926 года»9. Иначе говоря, в окончательном, последнем его варианте («Мелеховский двор на самом краю хутора...») «Тихий Дон» был начат Шолоховым осенью 1926 года, а в предварительном варианте – осенью 1925 г. Эту мысль о том, что он дважды принимался за «Тихий Дон», Шолохов подчеркивал неоднократно.
14 декабря 1932 года в автобиографии, написанной, когда первые две книги романа только что увидели свет, он со всей определенностью заявлял:
«В 1925 году осенью стал было писать “Тихий Дон”... Начал первоначально с 1917 года, с похода на Петроград генерала Корнилова. Через год взялся снова и, отступив, решил показать довоенное казачество»10.
Почти дословно писатель повторяет это свидетельство и в беседе с И. Лежневым – автором монографии о Шолохове:
«– Я начал, <...> с описания корниловщины, с нынешнего второго тома “Тихого Дона”, и написал изрядные куски. Потом увидел, что начинать надо не с этого, и отложил рукопись. Приступил заново и начал с казачьей старины, написал три части романа, которые и составляют первый том “Тихого Дона”. А когда первый том был закончен и надо было писать дальше – Петроград, корниловщину – я вернулся к прежней рукописи и использовал ее для второго тома. Жалко было бросать уже сделанную работу»11.
То же он повторил и в беседе с шолоховедом В. Г. Васильевым в июле 1947 г.:
Вопрос: «Когда точно начат и закончен “Тихий Дон”»?
Ответ: «Роман начат осенью (октябрь) 1925 года и закончен в январе 1940 года».
Вопрос: «Каковы варианты “Тихого Дона”, если они были?»
Ответ: «Я начал роман с изображения корниловского путча в 1917 году. Потом стало ясно, что путч этот, а, главное, роль в нем казаков будут мало понятны, если не показать предысторию казачества, и я начал роман с изображения жизни донских казаков накануне первой империалистической войны. Вариантов отдельных глав было множество. Весь роман в целом я правил много раз, но, перечитывая его, иногда думаю, что теперь я многое написал бы иначе»12.
Наконец, в декабре 1965 года, на встрече со студентами факультета славистики в шведском городе Упсала Шолохов снова подтвердил этот факт:
«За “Тихий Дон” я взялся, когда мне было двадцать лет, в 1925 году. Поначалу, заинтересованный трагической историей русской революции, я обратил внимание на генерала Корнилова. Он возглавлял известный мятеж 1917 года. И по его поручению генерал Крымов шел на Петроград, чтобы свергнуть Временное правительство Керенского.
За два или полтора года я написал шесть-восемь печатных листов... потом почувствовал: что-то у меня не получается. Читатель, даже русский читатель, по сути дела не знал, кто такие донские казаки. Была повесть Толстого “Казаки”, но она имела сюжетным основанием жизнь терских казаков. О донских казаках по сути не было создано ни одного произведения. Быт донских казаков резко отличается от быта кубанских казаков, не говоря уже о терских, и мне показалось, что надо было начать с описания вот этого семейного уклада жизни донских казаков. Таким образом, я оставил начатую работу в 1925 году, начал <...> с описания семьи Мелеховых, а затем так оно и потянулось»13.
Однако труд 1925 г. не пропал даром. Как сказал Шолохов своим читателям на вечере в Доме печати г. Ростова в 1928 г.: «– Все кстати пришлось <...> Так получилось: второй том написан раньше первого...»14.
Обнаруженный в рукописи отрывок прозы 1925 г. – очевидное доказательство правоты этих многократно повторенных шолоховских слов. Отрывок имеет собственную нумерацию страниц – с 11 по 20-ю – и состоит из двух глав: I и II15. Судя по нумерации глав, а также открывающему текст заголовку: «“Тихий Дон”. Роман. Часть первая», это – начальные главы романа, хотя нумерация страниц говорит, что этим главам, возможно, предшествовал еще какой-то текст.
Содержание рукописи этих глав подтверждает слова Шолохова, что он начал «Тихий Дон» с описания корниловского мятежа и похода генерала Корнилова на Петроград.
В первой главке отрывка 1925 года, написанной в шолоховской манере густой, зримой образности, изображено убийство главным героем «Тихого Дона» немецкого солдата, лакомившегося ежевикой. Главное здесь – переживания писателя, связанные с немотивированным, необязательным убийством человека. Подспудная тема, которая глухо звучит в I главе отрывка, чтобы в полный голос зазвучать в главе II, умонастроения казаков-фронтовиков во время корниловского мятежа:
«– Четвертый год пошел, как нас в окопы загнали. Гибнет народ, а все без толку. За што и чево? Никто не разумеет... К тому и говорю, что вскорости какой-нибудь Ермаков бзыкнёт с фронта, а за ним весь полк, а за полком армия! Будя...» – говорит своим однополчанам Федот Бодовсков.
Здесь действует не только знакомый нам Федот Бодовсков, но и другие персонажи будущего романа: казак Меркулов, есаул Сенин, безымянный офицер-ингуш, а также знакомые нам по биографии Шолохова, а не по «Тихому Дону» казаки Сердинов и Чукарин. Главный герой здесь не Григорий Мелехов, а Абрам Ермаков, являющийся, как будет показано далее, прообразом Григория Мелехова.
Он, как сказали бы сегодня, – неформальный лидер той части казаков-фронтовиков, которые не хотят идти с Корниловым на Петроград и ведут ожесточенные споры с начальством, пытающимся снять полк с фронта и направить его на подавление революции. По приказу начальника дивизии полк должен поступить в распоряжение генерала Корнилова.
«Абрам послал Федота созвать [казаков] вторую сотню, а сам подошел к группе казаков, разместившихся с кисетом над краями вырытой снарядом воронки. Сосредоточенно слюнявя цигарку, говорил председатель полкового комитета – казак Вёшенской станицы – Чукарин.
– Нет и нет! Нам это не подходит. В Петрограде стоят казачьи части, и они отказываются [от] выступать против рабочих и Советов. Мы не можем согласиться на предложение генерала Корнилова...
...Затушив цигарки, казаки толпой пошли к месту, где собирался полк. Под вязом, с сломленной снарядом засохшей вершиной, за трехногим столиком на табурете сидел командир полка, рядом командиры сотен и члены полкового ревкома. [Разместились сзади. Ермаков с Чукариным подошли с] Позади, скрестив руки на суконной нарядной черкеске, поблескивая из-под рыжей кубанки косо прорезанными маслинными глазами, стоял офицер-ингуш, представитель дикой дивизии...».
Столкновению Абрама Ермакова с представляющим дикую дивизию офицером-ингушом и посвящена глава вторая. В поддержку офицера-ингуша выступает есаул Сенин, Абрама Ермакова поддерживают все остальные казаки: Федот Бодовсков, Меркулов, Сердинов, председатель полкового ревкома Чукарин.
А. Венков в своей «антишолоховской» книге «“Тихий Дон”: источниковая база и проблема авторства», к подробному разбору которой мы еще вернемся, находит в этом раннем шолоховском отрывке много несообразностей. Он судит об этом отрывке с позиции исторического буквализма: Харлампий Ермаков, если он прототип Абрама Ермакова, не мог быть в данных частях, поскольку находился в это время уже на Дону; он никогда не служил с Чукариным и Сениным в одном полку; генерал Шумилин, который провожал казаков на фронт в 1914 г., генеральский чин получил только в 1918 г. и т. д. ...Скажем, поминается в отрывке местечко Райброды, – но под «Райбродами дрался 12-й Донской полк, а полк, описываемый в отрывке, явно не 12-й – там не было Сенина, Чукарина». Таким образом, заключает А. Венков, «с точки зрения источниковедения исторический фон рассматриваемого отрывка является неумелой компиляцией с достоверного исторического фона канонического текста»16.
Как видим, обоснование мифа о существовании некоего, якобы не принадлежащего Шолохову «канонического текста» выглядит в высшей степени неубедительно. Автор не задумывается над тем, что «Тихий Дон» невозможно понять и объяснить лишь «с точки зрения историка», что Шолохов не писал историю 12-го Донского полка, а создавал роман об участии казачества в революции, и имел полное право на домысел и фантазию, включая свободное перемещение своих героев во времени и пространстве, тем более, что в цитируемом отрывке вообще не указывалось на то, что это 12-й Донской полк, поскольку и в самом деле 12-й Донской полк в это время находился совершенно в другом месте.
Факт существования этого отрывка в рукописи «Тихого Дона» со всей очевидностью доказывает: Шолохов действительно начал писать «Тихий Дон», точнее – его первый вариант, осенью 1925 г., о чем он неоднократно заявлял; и начинал Шолохов свой роман, как он много раз подчеркивал, с описания корниловского мятежа.
А это значит, что реально существовало два пласта шолоховской прозы, отразивших два варианта начала работы над «Тихим Доном»: предварительный и окончательный. Причем ранний вариант, посвященный корниловскому мятежу, в своем преобладающем составе, но в переработанном виде вошел во вторую книгу романа. Можно согласиться с тем, что не все здесь было успешным, – не случайно широко распространено мнение, что вторая книга «Тихого Дона» – не самая большая удача Шолохова. Думается, именно в сочетании и переплавке в единый цельный художественный текст двух пластов шолоховской прозы и таится реальный, а не мифический ответ на вопрос о некоторых неувязках, которые как шолоховеды, так и «антишолоховеды» находят во второй книге романа.