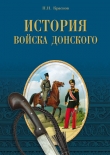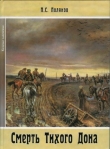Текст книги "«Тихий Дон»: судьба и правда великого романа"
Автор книги: Феликс Кузнецов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 69 страниц)
Я счел возможным достаточно полно привести этот потрясающий документ времени, чтобы показать, во-первых, всю силу и размах тех воистину шекспировских социальных страстей, которые сотрясали Россию в эпоху революции и Гражданской войны, а во-вторых, уяснить суть того мировосприятия, к которому пришел Миронов и которое в ту пору было народным. Смею думать, что оно-то было и мировосприятием Шолохова.

Награды красного казака Филиппа Миронова в Гражданскую войну: Орден Красного Знамени № 3 и именное оружие
В основе его лежало природное глубинное чувство социальной справедливости, сформированное веками общинного землепользования крестьян, с доверием воспринявших лозунги большевиков о мире, земле и воле, но неприемлющих насилия над личностью как со стороны барина, так и со стороны комиссара. Это мироощущение формировалось не только социальными условиями общинной жизни и труда на земле, но и традициями национальной русской культуры. Оно-то и определило первоначальное принятие революции 1917 года широкими народными массами русской деревни, казачества, значительной частью интеллигенции.
В годы Гражданской войны сформировался совершенно особый тип народных военачальников, или, как говорил о себе Миронов, народных социалистов, поверивших в идеалы народовластия, по миропониманию и, в той или иной степени, анархистов по поведению, выдвинутых из своей среды казачеством и крестьянством. Одни из них, – Буденный, Ока Городовиков, Ковтюх, Щаденко, Федько и др. – прошли с большевиками путь до конца, другие, как например, Подтелков, Кривошлыков, погибли в самом начале Гражданской войны, третьи, как тот же Ф. Миронов, Б. Думенко были отторгнуты ультрареволюционерами и расстреляны.
Харлампий Ермаков – прототип Григория Мелехова, – бесспорно, принадлежал к типу народных лидеров, выдвинутых казачеством на переломе истории. Он был близок по правдоискательству Филиппу Миронову и своей, хотя и несколько иной, но столь же трагической судьбой. Вне контекста этих характеров нам не понять Григория Мелехова.
Все эти народные вожаки времен Гражданской войны, как правило, храбро сражались на полях Первой мировой войны, получив там Георгиевские кресты и офицерские чины. Они были стихийными социалистами и «большевизм» их был весьма условен.
«...Когда 25 октября большевики захватили власть, что откровенно скажу, я встретил несочувственно», – писал Миронов, подчеркивая: «К идее большевизма я подошел осторожными шагами и на протяжении долгих лет...»42. Подошел, движимый чувством социальной справедливости, стремлением к борьбе за счастье народа. Это было народническое чувство, которое, повторяю, росло из глубинных традиций всей русской культуры и освободительной борьбы XIX века. Оно было разлито в обществе, было определяющим для самосознания многих людей. Эти общедемократические чувствования разделял и отец М. А. Шолохова, не пустивший сына смотреть, как Мария Дроздова получала из рук генерала наградные за убийство своего кума-большевика: «Нечего глазеть на палачей!»
Можно предположить, что в этой атмосфере «передовых», как говорили в ту пору, демократических, народнических по истокам умонастроений и чувств воспитывался и молодой Шолохов.
Симпатии и поддержка революции в 1917 году были свойственны довольно широкому кругу казачества; выражением этих настроений и проникнуты документы мироновского архива. Тем горше были обиды, тем глубже оказалась боль, когда вместо заботы о счастье народном новая коммунистическая власть на Дону – в лице комиссаров и трибуналов – обрушила на казаков поголовные кары, обрекла казачество на геноцид.
Подобную политику в отношении казачества не могли принять не только его вожди типа Миронова, не только зажиточные казаки, но и казаки-большевики, те же братья Трифоновы, или Ковалев, отличавшийся, как и Харлампий Ермаков, удивительной честностью. Каннибалистскую в отношении деревни политику «военного коммунизма» не приняло крестьянство в целом, ответив на эту политику феноменом Махно, антоновским восстанием, Кронштадтским мятежом и крестьянскими бунтами по всей стране. Да и метания таких людей, как Фомин, Вакулин и др. выражали тот же протест крестьянства и казачества против «военного коммунизма» и продразверстки.
В конечном счете, как известно, по инициативе Ленина, РКП(б) была вынуждена отказаться от политики «военного коммунизма» и продразверстки, утвердить политику НЭП’а, смягчить свое отношение к крестьянству и казачеству.
Документы свидетельствуют, что Ленин принимал Миронова 8 июля 1919 года – незадолго до его ареста – по его просьбе. Ф. Миронов, несомненно, читал в газете «Донские известия» от 20 (7) марта 1918 года телеграмму за подписью Ленина и Сталина, адресованную «революционному казачеству», когда на Дону устанавливалась советская власть. В телеграмме речь шла о самоуправлении Дона и его автономии: «...Пусть полномочный съезд городских и сельских Советов всей Донской области выработает сам свой аграрный законопроект и представит на утверждение Совнаркома. Будет лучше. Против автономии Донской области ничего не имею»43. В своих письмах и заявлениях, где он защищал донское казачество от произвола, Миронов неоднократно ссылался на эту позицию Ленина, согласившегося в феврале 1918 года с самоуправлением в виде Советов и автономией Дона. Но это был всего лишь лозунг.

Ф. К. Миронов (справа) с защитником в зале суда. 1919 г.
«Изъятый» с Дона, Филипп Миронов весь 1919 год проводит в своеобразной ссылке – сначала в должности помощника командующего Белорусско-Литовской армией, а потом командира несуществующего Донского казачьего корпуса в Саранске, который он должен был сформировать из плененных Красной армией и перешедших на сторону советской власти казаков. Солдат и материального обеспечения корпусу не давали, и за полгода Миронов с большим трудом смог сформировать два полка, одним из которых командовал вёшенец Фомин. Но главное – корпус упорно не пускали на фронт, – пока комкор Миронов не объявил, что он самовольно, без разрешения властей, выступает со своим корпусом из Саранска на Дон, чтобы сражаться с белыми. Это его решение было объявлено мятежом, сам он обвинен в измене, а после того, как его части без боя сдались окружившим их буденовцам, арестован и вместе с другими командирами корпуса приговорен к расстрелу.
Кстати, здесь мы встречаемся с нашим давним знакомцем Яковом Фоминым, установившим в 1919 году в Вёшенской советскую власть, а кончившим жизнь главарем банды.
До того, как Фомин поднял на восстание свой караульный эскадрон в Вёшенской в марте 1921 года, он был помощником военкома Верхне-Донского округа, а потом – командиром 1-го Донского полка в корпусе Миронова, одним из ближайших его сподвижников. После так называемого «мироновского мятежа», он был вместе с Мироновым приговорен к расстрелу, потом, как и Миронов, помилован и в 1920 году направлен в Верхне-Донский округ, где возглавлял охрану окружного исполкома. Об участии Фомина в мятеже Миронова в романе сказано так: «...В Михайловке, соседнего Усть-Медведицкого округа, восстал караульный батальон во главе с командиром батальона Вакулиным.
Вакулин был сослуживцем и другом Фомина. Вместе с ним они были некогда в корпусе Миронова, вместе шли из Саранска на Дон и вместе, в одну кучу, костром сложили оружие, когда мятежный мироновский корпус окружила конница Буденного» (5, 397). Эту информацию Шолохов, скорее всего, получил из «устного предания». Только в 1958 году в книге воспоминаний «Пройденный путь» (М., 1958) С. М. Буденный расскажет, как его конница окружила в 1919 году остатки корпуса Миронова и как «мироновцы» в одну кучу складывали оружие. Но на Верхнем Дону помнили о недавнем восстании Вакулина, которое привело к аресту и расстрелу командира 2-й Конной армии Филиппа Миронова.
Именно накануне суда Миронов и написал свое второе письмо Ленину. Сыграло ли свою роль это письмо или другие обстоятельства, в частности, угроза волнений среди казачества, однако, вскоре после суда Миронов и его сподвижники решением ВЦИК’а были помилованы, сам Миронов направлен на советскую работу на Дон, а несколько месяцев спустя, когда дела на Южном фронте для Красной армии были особенно плохи, возвращен в армию. В предельно короткий срок он создал из казаков 2-ю Конную армию, показавшую чудеса героизма в борьбе с Врангелем. Слава и популярность Командарма—2, Филиппа Миронова в ту пору превышали славу и популярность Командарма—1, Семена Буденного.
Но как только Врангель был выброшен из Крыма, а Гражданская война подошла к своему окончанию, – Миронов снова был «изъят» Троцким из казачьей среды и отозван в Москву якобы на должность инспектора кавалерии РККА.
По дороге в Москву Миронов заехал на родину, в Усть-Медведицкую, чтобы навестить семью, где через неделю, 13 февраля 1921 года, был арестован местными органами ЧК.
Полтора месяца спустя Миронов без суда и следствия был убит: «2 апреля 1921 года во время прогулки по тюремному двору застрелен часовым»44.
Это не было случайное убийство: командующий 2-й Конной был расстрелян по специальному решению ВЧК. Несколько позже та же участь – расстрел по приказу Ягоды – постигла и Харлампия Ермакова, прототипа Григория Мелехова. Как схожи их судьбы!
Были репрессированы гражданская жена Миронова – двадцатитрехлетняя медсестра – и еще восемь человек, подверстанных под фальсифицированное обвинение Миронова в организации заговора с целью свержения коммунистической партии.
Главным подтверждением реальности такого «заговора» чекисты считали слова Миронова о злоупотреблениях местных коммунистов, которыми он объяснял и восстание Вакулина, а также его требование (в выступлении на районной партконференции) заменить продразверстку продналогом. Именно выступление Миронова на партконференции в Усть-Медведицкой, куда Командарм—2 был приглашен в качестве высокого и почетного гостя, и послужило причиной столь быстрой расправы ЧК. Миронов был арестован прежде всего за критику продразверстки и требование заменить ее продналогом. На конференции он заявлял: «Бюрократизм, неравенство верха и низа, несправедливость, с одной стороны, и безнадежное положение страны в материальном отношении, а отсюда поборы, реквизиции и, главным образом, продотряды, отбирающие у крестьян хлеб – с другой, заставили таких честных, старых коммунистов, как Вакулин, <...> поднимать восстание, протестовать силой оружия...»45.
Арест был подготовлен заранее, и Миронов это предчувствовал.
Секретный информатор доносит в ЧК о разговорах Миронова: «Указывал, что только последние пушки выстрелили при разгроме Врангеля “и меня отзывают”, подчеркивал, что “меня будут и ласкать и утешать, но боюсь, как бы из-за угла не убили”»46.
На митинге в Усть-Медведицкой он получает записку:
«Филипп Козьмич!
Не доверяйте Барову и тому молодому человеку, который с Вами (в пенсне), это не товарищи, а жандармы»47.
Давид Григорьевич Баров (Бар) и в самом деле в тот момент был «комиссаром» – членом Усть-Медведицкого оргкомитета РКП(б); в 1933 году он был исключен из партии как троцкист.
Для троцкистов было совершенно неприемлемым стремление Миронова защитить казачество от злоупотреблений местных властей, равно как и его требование замены продразверстки продналогом. Своих позиций Миронов не только не скрывал, но, увидев весь размах злоупотреблений и тяжесть жизни казачества в родной станице, публично протестовал против этого с трибуны.
Его жена показывала на допросе 1 марта 1921 года:
«Организация какого-то контрреволюционного заговора меня поражает и ново для меня. Муж всегда возмущался следующим: реквизициями по принуждению во главе [с] лиц[ами], незнающими местные условия и нравы и что нужно крестьянству, т. е. казачеству, дать самодеятельность, дать самому отдавать хлеб, так как казаки ему говорили, что они это сами проведут и дадут столько – сколько центр потребует»48.
На вопрос следователя ЧК Банги: «что Вы подразумеваете под словом самодеятельность?» Миронов отвечал 27 февраля:
«Прежде всего, меньше опеки над трудом землепашца, особенно лиц, не компетентных в этом, а во-вторых, чтобы трудящиеся были бы уверены, что то, что добыто их трудом, принадлежит им, а если должно быть взято как государственная повинность, за это должна быть взята компенсация. Система разверсток критики не выдержала...»49.
Система продразверстки, вся политика «военного коммунизма», суть и смысл которой состояли в вооруженном насилии над народом, в первую очередь – крестьянством, действительно «критики не выдержала», и это признал X съезд РКП(б), начавшийся через неделю после допроса Миронова – 8 марта 1921 года. Съезд проходил в драматической обстановке массового, в том числе и вооруженного протеста крестьянских масс страны против «военного коммунизма» и продразверстки.
Бушевало антоновское восстание на Тамбовщине – в него к началу 1921 года было вовлечено до 50 тысяч человек. Восстание возглавлял прошедший тюрьмы и ссылки эсер Антонов, и оно шло под эсеровскими лозунгами, по всем уездам и волостям создавались «Союзы трудового крестьянства».
«Трудовиками» называли себя и руководители восстания в Усть-Медведицкой: «Поставлено все на карту – или смерть коммунистам, или трудовикам»50, – говорилось в воззвании Вакулина.
Само слово «коммунист» было скомпрометировано политикой «военного коммунизма» настолько, что всеобщим лозунгом не только казачьих, но и всех крестьянских восстаний времен Гражданской войны было: «За Советскую власть – против коммунистов!».
Крестьяне не хотели возврата к прошлому, к «белопогонникам», помещикам и капиталистам. Но они не хотели дальше жить и под диктатом ЧК и комиссаров. Именно под лозунгом «Советы без коммунистов» начался 28 февраля 1921 года мятеж в Кронштадте. В нем приняло участие около двадцати семи тысяч матросов, и он также был выражением протеста крестьянства против «военного коммунизма». Триста делегатов X партийного съезда в составе 7-й армии под командованием Тухачевского долго и безуспешно штурмовали восставший Кронштадт, и лишь 18 марта, два дня спустя после окончания X съезда, мятеж был подавлен.
X съезд РКП(б) принял решение о замене продразверстки продналогом, об отказе от политики «военного коммунизма» и о переходе к «новой экономической политике».
Казалось бы, Миронов мог быть спокоен: он добивался этого решения все годы.
30 марта 1921 года он пишет «партийное письмо» из Бутырской тюрьмы Председателю ВЦИК Калинину, копии – Председателю Совнаркома Ульянову, Председателю РВС республики Троцкому, Председателю ЦК РКП(б) Каменеву, Центральной Контрольной Комиссии РКП(б), в котором яростно протестует против клеветы в свой адрес, против «чудовищного обвинения» «в организации восстания на Дону против Советской власти» и требует освобождения, ибо «то, что заставляло страдать и неотвязчиво стучало в голову, признано и X партийным съездом, признано и Вами! <...> Центральная власть 23.III—21 г. своим декретом о свободном обмене, продаже и покупке стала на ту же точку зрения. И вот за эту прозорливость меня собираются судить»51.
Но, как мы видели, до суда дело не дошло.
1 апреля следователь Банга докладывает Начальнику 16-го спец. отдела ВЧК об этом письме и о том, что «Миронов просит <...> доложить [о письме] т. Дзержинскому для получения разрешения отослать по принадлежности»52.
2 апреля Миронова убивают во дворе тюрьмы.
Документы 1959—1960 гг. о реабилитации Ф. К. Миронова подтверждают: его приговорил к расстрелу Президиум ВЧК. Однако Протокол Президиума ВЧК № 79 от 2 апреля 1921 года о расстреле Миронова не обнаружен.
Зато имеется «Заключение 16-го специального отделения Особого отдела ВЧК по делу Ф. К. Миронова и его сподвижников» за подписью сотрудника поручений 16-го спец. отделения Копылова от 13 августа 1921 г., направленное руководителю «особистов» Пузицкому. Почти пять месяцев спустя после расстрела Миронова в нем было сформулировано обвинение в его адрес. При этом Копылов даже не знает, что Миронова уже нет в живых, и предлагает: «полагал бы о применении высшей меры наказания – обвиняемому Миронову»53. В ответ на это следует резолюция Пузицкого: «Т. Копылов. 1) Миронов расстрелян; 2) надо составить заключение в отношении остальных обвиняемых»54.
Всех остальных обвиняемых вскоре выпустили.
Самое страшное доказательство беспощадной жестокости ВЧК – судьба жены Миронова. После его расстрела 2 апреля Н. В. Миронова долгое время оставалась в заключении с родившимся в тюрьме ребенком.
В томе «Филипп Миронов. Документы» (М., 1997) опубликована поразительная по силе и чистоте человеческих чувств любовная переписка Филиппа Миронова и его жены, Надежды Васильевны Суетенковой, которая была арестована вместе с мужем, хотя вся ее вина была только в том, что в возрасте 22 лет она стала его гражданской женой.
18 мая 1921 года она обращается с заявлением к следователю специального отдела ВЧК Банге:
«Я беременна 7-й месяц. Сижу арестована 4-й месяц. Тюремные условия жизни тяжело отражаются на моем и без того слабом здоровье. Тяжелые душевные переживания за мужа Филиппа Кузьмича Миронова (быв. командующего 2-й Конной Красной Армией), о судьбе которого я ничего не знаю, ежедневное недоедание (передач не имею) и, главное, [понимание] моей полной невиновности перед Советской властью вынуждают меня предъявить к Вам требование о моем освобождении или вызова для личных переговоров или для выяснения своего положения, сроком 25 мая с. г.
Если в течение этого времени ничего не будет выяснено, то я 25 мая объявляю голодовку, несмотря на свою беременность, так как предпочитаю лучше смерть, нежели еще переживать то, что переживаю ежедневно в продолжении 3 ½ месяцев заключения»55.

Командир Донского казачьего корпуса Ф. К. Миронов перед расстрелом в Балашовской тюрьме. 1921 г.
На письме – приписка следователя Банги: «Дело ведет следователь Пузицкий. Миронова виновата постольку, поскольку отрицает виновность своего мужа, считая его действия справедливыми со своей точки зрения. Думаю, что к ней, как беременной, надо предоставить условия, требующиеся беременной. Банга 7/VI»56.
19 июля 1921 года Миронова обращается с новым заявлением – теперь к коменданту Бутырской тюрьмы:
«Я нахожусь под арестом 6-й месяц. Допроса с февраля месяца не имею и не знаю в чьих руках находится мое дело и дело моего мужа Ф. К. Миронова (быв. командующего 2-й Конной Красной Армией), за которого я и арестована. О судьбе его я тоже ничего не знаю. Скажите, неужели в Советской России допустимо держать под следствием почти 6 месяцев женщину в положении на 9-м месяце. Убедительно прошу Вас позвонить в ВЧК заведующему следственной частью т. Фельдману, чтобы выяснить мое положение. Я измучена физически и морально. <...> Ради моего будущего ребенка прошу помочь мне»57.
11 января 1922 года – десять месяцев спустя после расстрела Ф. К. Миронова – сотрудник ВЧК Борисов пишет начальнику 16-го спецотделения Особого отдела ВЧК Пузицкому рапорт, в котором сообщает, что Миронов Ф. К. приговорен к высшей мере наказания, семь обвиняемых освобождены, один заключен в лагерь на год. «...Остается по делу одна обвиняемая Миронова Н. В., в отношении которой в деле никакого постановления нет... <...> Миронова содержится с 28 августа 1921 г. в Доме беременности...»58. Как видим, в ВЧК имелся даже такой Дом!
Далее из рапорта следует, что после декабря 1921 года Н. В. Миронова была выпущена, причем неизвестно кем: «...кем она освобождена, <...> неизвестно, никакого постановления о ее освобождении <...> нет»59. Но было предложение сотрудника 16-го спецотделения Особого отдела ВЧК Копылова: «...за отсутствием улик обвинения, предлагал бы по необходимости изолировать в пределы Архангельской губернии, ввиду возможности со стороны ее зловредной агитации, могущей пагубно отразиться на казачестве Донской области, среди коего имя Миронова популярно»60.
Даже после расстрела, осуществленного с таким коварством, имя Миронова представляло угрозу для троцкистов и ВЧК.
«НЕРАЗГАДАННОСТЬ СОКРОВЕННОГО»
Мы остановились так подробно на судьбе Филиппа Кузьмича Миронова по той причине, что эта трагическая судьба отнюдь не сторонняя «Тихому Дону». Драма Филиппа Миронова с полной убедительностью свидетельствует: «Тихий Дон» выразил объективную, реально существовавшую трагедию времени, суть которой – в противоречии между высокими лозунгами и идеалами революции и преступными путями их осуществления. Для того, чтобы написать «Тихий Дон» с его беспощадной правдой о трагедии «расказачивания» Дона, вовсе не обязательно было быть белым офицером. «Красный командир», а потом командарм Филипп Миронов бросал в лицо Ленину такие обличения «комиссаров» и «коммунистов», которые, возможно, не пришли бы в голову иному белому офицеру, вроде Крюкова или Родионова.
Соединение имени и судьбы Филиппа Миронова с подзаголовком «Тихий Дон в 1917—1921 гг.», вынесенным на титул книги «Филипп Миронов. Документы», закономерно и многозначительно. Более того, дело Миронова позволяет нам соотнести роман «Тихий Дон» с общей судьбой крестьянства в революции, которая была изначально трагичной.
Как уже говорилось, в беседе с литературоведом В. Г. Васильевым в июне 1947 года Шолохов подчеркивал: «В облике Мелехова воплощены черты, характерные не только для известного слоя казачества, но и для русского крестьянства вообще. Ведь то, что происходило в среде донского казачества в годы революции и Гражданской войны, происходило в сходных формах и в среде Уральского, Кубанского, Сибирского, Семиреченского, Забайкальского, Терского казачества, а также и среди русского крестьянства»61.
Подчеркнем еще раз: хотя Филипп Миронов, конечно же, не был в прямом смысле прототипом Григория Мелехова, судьба прославленного Командарма—2 была известна Шолохову и нашла отзвук в «Тихом Доне».
Драматизм конкретных человеческих судеб, как и трагедия казачества вообще, в полной мере открывшиеся Шолохову, когда он окунулся в материал, составивший основу его будущего романа, не могли не отразиться на мировидении и миропонимании молодого писателя. За кратчайший срок работы над романом «Тихий Дон» молодой писатель прошел стремительную школу не только художественного, но и духовного, идейного «взросления».
Если подходить к «Тихому Дону» с меркой Роя Медведева и искать ответ на вопрос, кто мог написать «Тихий Дон» анонимно, то совершенно очевидно: этот роман не мог написать белый офицер типа Листницкого; его не мог написать и комиссар из эпохи «военного коммунизма» вроде Малкина. «Тихий Дон» как он есть, в единстве его глубинных противоречий, мог написать только человек типа Филиппа Миронова, если бы, конечно, у него был соответствующий литературный талант.
Удивительно, как этого не почувствовал сам Рой Медведев, написавший вместе с С. Стариковым книгу «Жизнь и гибель Ф. К. Миронова» (М., 1989). Доверившись литературоведу Д*, Р. Медведев принял на веру фантасмагорическую гипотезу, будто «Тихий Дон» создавался в «четыре руки» – белым офицером (Крюков) и красным комиссаром (Шолохов), пытаясь таким, чисто механическим путем объяснить глубинные противоречия этого великого романа. Ни литературовед Д*, ни Р. Медведев не могли допустить, что противоречия «Тихого Дона» носят не внешний, механический, но глубоко диалектический, внутренний характер, что они могут жить в душе одного человека – гениального автора романа, выразившего трагические противоречия времени, – М. А. Шолохова.
Могут спросить: принадлежал ли Шолохов к подобному типу человеческой личности, был ли он близок к подобному мировидению и миропониманию?
Вопрос не простой, – как уже говорилось, в силу чрезвычайной закрытости, замкнутости Шолохова, его исключительной осторожности в высказываниях, где в откровенной или скрытой форме открывалась бы его мировоззренческая позиция. Тем не менее возможность прикоснуться к сокровенной позиции писателя есть. Она таится в одном из самых привлекательных и важных для Шолохова характеров, правда – в характере эпизодическом, как нам представляется, зашифрованном Шолоховым и до конца не прочитанном критикой. Речь идет о подъесауле Атарщикове. Вряд ли случайно именно с этим персонажем связана в романе тема «неразгаданности сокровенного» в человеке, перекликающаяся с приведенными выше наблюдениями Левицкой о «неразгаданности» самого Шолохова:
«Атарщиков был замкнут, вынашивал невысказанные размышления, на повторные попытки Листницкого вызвать его на откровенность наглухо запахивал ту непроницаемую завесу, которую привычно носит большинство людей, отгораживая ею от чужих глаз подлинный свой облик» (1—2, 394). По мнению Шолохова, высказанному через Листницкого, «общаясь с другими людьми, человек хранит под внешним обликом еще какой-то иной, который порою так и остается неуясненным», но «если с любого человека соскоблить верхний покров, то из-под него вышелушится подлинная, нагая, не прикрашенная никакой ложью, сердцевина» (3, 120).
Какова же «подлинная сердцевина» у Атарщикова? Какие «невысказанные размышления» вынашивал он, «наглухо запахивая непроницаемую завесу» от всех любопытствующих?
Образ подъесаула Атарщикова дан лишь эскизно. Но каждая из его черт, обозначенных в романе, важна и многозначительна, в его уста Шолохов вложил некоторые дорогие ему мысли. Поначалу сторонник Корнилова, Атарщиков так, к примеру, характеризует генерала: «Это кристальной честности человек...».
Но вспомним ответ Шолохова Сталину на вопрос о генерале Корнилове: «Субъективно, как человек своей касты, он был честен... Ведь он бежал из плена, значит, любил Родину, руководствовался кодексом офицерской чести...».
В портретной характеристике Атарщикова главное – «впечатление, будто глаза его тронуты постоянной снисходительно-выжидающей усмешкой» (3, 107).
Вспомним характеристику самого Шолохова, которую дает ему Левицкая, «с его усмешкой (он усмехается часто даже тогда, когда “на душе кошки скребут”)»62.
Главное в характеристике Атарщикова в романе – «старинная казачья» песня о Доне-батюшке, которую на два голоса он поет в компании офицеров, и ночной разговор: «...Я до чертиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек – всё люблю! От запаха степного полынка мне хочется плакать... И вот еще, когда цветет подсолнух и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками, – так глубоко и больно люблю... А вот теперь думаю: не околпачиваем ли мы вот этих самых казаков? На эту ли стежку хотим мы их завернуть?..» (3, 112).
Понимая, что казаки «стихийно отходят от нас», что «революция словно разделила нас на овец и козлищ, наши интересы как будто расходятся», – Атарщиков и думает, как преодолеть этот разлад; он «мучительно ищет выхода из создавшихся противоречий, увязывает казачье с большевистским» (3, 120).
В рукописи и журнальной публикации романа эта мысль была выражена с большой определенностью: Атарщиков «увязывает казачье-национальное с большевистским»63. За свой выбор Атарщиков поплатится жизнью, получив пулю от белого офицера у стен Зимнего...
За этой формулой о соединении большевистского с казачье-национальным, – к чему, как мы убедились выше, стремился и Филипп Миронов, – стояла мысль о соединении идеи революции с национальными интересами России, – мысль абсолютно непопулярная и даже крамольная в ту пору, потому что троцкизм с его теорией перманентной революции рассматривал революцию в России лишь как средство разжигания мировой революции.
М. Горький писал в «Несвоевременных мыслях», что революционные авантюристы относились к России, как к «материалу для опыта», им «нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грёзе о всемирной или европейской революции», относясь к России, «как к хворосту: “Не загорится ли от русского костра общеевропейская революция?”»64.
В «Тихом Доне» – в традициях русской общественной мысли – народ вообще и казачество в частности поставлены в центр мироздания, и революция – благо только в том случае, если она служит интересам народа, который в революции не средство, а цель. Народ в лице казачества предстает в романе как самоцельный и самодостаточный феномен, не как объект, но как субъект исторической жизнедеятельности.
Как справедливо пишет В. Васильев в книге «Михаил Шолохов», в «Тихом Доне» народ впервые обрел свободу самовыражения и право голоса, а народное слово – авторитет последнего, решающего аргумента в споре о жизни.
Вместе с тем, по справедливому наблюдению В. Васильева, Шолохов выступает в романе не только против троцкизма, рассматривавшего народ не более чем «человеческий материал» в реализации его утопий, он преодолевает и народническую традицию, для которой народ оставался всего лишь объектом жалости. Для Шолохова народ – не объект жалости (мироощущение, которым, кстати сказать, было пронизано творчество Ф. Крюкова), но объект любви и гордости. Главная задача Шолохова – по его собственной формуле – раскрыть в своих героях «очарование человека», и это ему удалось, как никому другому.
ШОЛОХОВ И ГОРЬКИЙ
Свой ответ Троцкому и троцкистам – и не только – Шолохов дал в третьей книге романа «Тихий Дон», где рассказал всю правду о Вёшенском восстании. Эта правда была так беспощадна и взрывоопасна, что публикация третьей книги романа в журнале «Октябрь» – как уже говорилось – едва успев начаться, была приостановлена почти на три года.
На этот раз Шолохов вел свою борьбу в полном одиночестве. Даже Серафимович, благодаря поддержке которого были опубликованы первые две книги романа, не смог на этот раз ему помочь. И не только потому, что оказался отодвинутым от руководства журналом «Октябрь». Оценки Серафимовичем молодого «орелика», становятся более осторожными65. Даже Серафимович ощущает Шолохова как не до конца «своего».

М. Шолохов, В. Кудашев и Артем Веселый в Берлине в 1930 году
В борьбе за «Тихий Дон» Шолохов решает теперь обратиться за помощью к Горькому, только что вернувшемуся в Советский Союз.
Отношение Горького к Шолохову было непростым. До Капри, естественно, доходили слухи о том, что Шолохова обвиняют в плагиате. Однако, по свидетельству И. Шкапы, многолетнего помощника М. Горького, сомнения Горького развеялись, когда уже после выхода первых двух книг «Тихого Дона» он прочитал «Донские рассказы» Шолохова и назвал их «блестящими заготовками к роману»66.
Зимой 1930 года Горький, живший тогда в Италии, пригласил Шолохова к себе, и Шолохов, отправившийся в гости к Горькому с Василием Кудашевым и Артемом Веселым, доехали до Берлина, но так и не получили визу в фашистскую Италию.