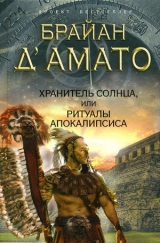
Текст книги "Хранитель солнца, или Ритуалы Апокалипсиса"
Автор книги: Брайан Д'Амато
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 53 страниц)
Она нарушила тишину первой.
– Значит, когда 2 Дикая Свинья выходит из процессии и поворачивает назад к пещере по белой дороге, происходит то же самое? – Она имела в виду Марс.
– Она вовсе не поворачивается, – ответил я. – Это так кажется, потому что Земля под нами движется. Все происходит так же, как с Трубачом Солнца. Только занимает больше времени, потому что 2 Дикая Свинья дальше от светила, чем мы.
– А Трубач Солнца ближе.
– Трубач Солнца ближе.
– И ты говоришь, что Солнце больше, чем нулевой уровень, – решила уточнить Кох.
– Да, в четыре сотни по четыре сотни раз, – кивнул я. – И если бы ты отправилась в путь к Солнцу сегодня и летела бы так же быстро, как идешь, то не добралась бы туда и за девятьсот по четыреста б’ак’тунов.
Кох разглядывала диаграмму. Она сейчас делает открытия, думал я. Как Коперник в Вармии. Или Тихо Браге, который отморозил нос, засовывая его в космос. Иоганн Кеплер и чертов Галилео. Подожди, я тебя еще просвещу по теории относительности. Ты у меня получишь оргазм, сидя на счетах: e =зайки 2.
– Значит, твои одновременники знают все, – произнесла Кох наконец.
Я чуть не подпрыгнул на месте – так долго она хранила молчание.
– Нет, осталось много тайн, – показал я жестом. – Но мы… они будут работать над тем, чтобы узнать все.
– И все они из мощных великодомов? – «Все они богаты и у власти?»
– Нет, среди них немало круглодомников. И все же большинство гораздо богаче нынешних бедняков. Еды так много, что даже бездомные жиреют. Мы летаем в небесах на гигантских медных каноэ. У нас есть холодные факелы, которые горят сто по двадцать ночей, и оружие, убивающее сто по двадцать человек на расстоянии сто по двадцать дней пути. Мы говорим с друг другом и видим лица друг друга на расстоянии с помощью нитей невидимого света. Еще до моего рождения двенадцать человек доплыли до лунного шара. Нас теперь четыре сотни по двадцать четыре сотни по двадцать четыре сотни по двадцать четыре сотни по двадцать четыре сотни по двадцать четыре сотни по двадцать. Мы можем заглядывать себе во внутренности, не разрезая себя. Делаем штуки, которые умнее нас. Ныряем на дно соленых морей и остаемся там надолго, а потом возвращаемся живыми…
– Но самое важное вы забыли, – перебила Кох. – И поэтому ты пришел сюда. Верно?
Я помедлил. А, была не была.
– Верно, – цокнул я.
– Потому что вы не сохранили память о прародителях.
Я сделал знак «не совсем».
– Но вы же знаете, как долго солнц Город Бритв будет предлагать свои подношения? – спросила она. (То есть: сколько еще продержится Теотиуакан?)
Черт.
– Мы этого не знаем, – нахмурился я.
Она удивилась, почему я, который пришел из тринадцатого б’ак’туна, не могу точно назвать день, когда рухнет великий город.
Пришлось рассказать, что к тому времени, когда я родился, почти все книги ее мира были уничтожены и запись об этой дате найти не удалось. Я попытался объяснить, кто такие археологи и как они определяют время прошедших событий. Согласно данным, полученным при раскопках, Теотиуакан покинут жителями в одиннадцатом, двенадцатом или тринадцатом к’атуне этого б’ак’туна, приблизительно между 650 и 710 годами.
– Чтобы выяснить все точно, нужно было нанести слишком большой ущерб древним памятникам, – вздохнул я.
Она пристально рассматривала рисунок. Я глядел на нее. По крайней мере, теперь молчать было легче, чем раньше. Эффект умственного слабительного иссяк. Кох взяла одну из мухобоек с подставки и прижала себе к бедру. Это означало, что аудиенция закончилась.
– Пожалуй, ты, который равен мне, и я сверимся с черепами в корзине солнц, когда Жеватель будет прогнан, – сказала она.
«Черт побери!» – чуть не завопил я. Нет, лучше скажем так: «Я внутренне закричал благим матом». Сучка. Может, лучше сделать отсюда ноги и нарисовать эту фигню на улице, чем попусту трепать тут языком…
Нет. Надо быть настойчивее. Кто знает, вдруг она хочет выторговать побольше.
– Дом Кругопрядов долго не продержится, – брякнул я, отчаянно нарушая протокол. – Мы не знаем, сколько ему еще осталось, но недолго.
– Я, равная тебе, давно это знаю.
– 2 Драгоценный Череп предлагает тебе и твоему ордену убежище в Ише.
Кох шевельнулась. Мне показалось, она чуть наклонила голову, словно услышала посторонний звук. Она не ответила.
Силы небесные. Больше у меня в запасе ничего нет. 2ДЧ предупреждал, чтобы я не делал этого предложения, пока она сама не попросит, – чтобы это выглядело как уступка, в противном случае Кох сочтет мои старания полным надувательством.
Она слегка повернулась. Я испугался, что госпожа сейчас встанет и уйдет – и тогда конец. Но она сказала:
– Ты, который равен мне, думаешь, что 2 Драгоценный Череп выиграет хипбольный матч против Оцелотов?
Очевидно, по ее мнению, Гарпии должны проиграть (справедливо или несправедливо) и им придется бежать из Иша.
– Ма’ло’йанил, – усмехнулся я. «Нет проблем».
Так или иначе, Гарпии останутся. А скрываться придется Оцелотам. Идея заключалась в том, чтобы внушить Кох мысль, будто мои необыкновенные знания обеспечили 2ДЧ достаточную огневую мощь и теперь он вполне готов противостоять Оцелотам.
Как вы можете догадаться, за этим последовала еще одна бесконечная пауза. Что ж, по крайней мере, Кох не болтает без умолку, как средняя chica perica. [668]668
Болтушка ( исп.). ( Прим. ред.)
[Закрыть]
– Ты пришел сюда ради Рулевого, а не ради встречи со мной, – проговорила она.
Я не знал, что ей ответить. Что ж, видимо, она меня раскусила. Придется идти восвояси. Назад на площадь.
Но Кох сказала:
– Твои одновременники забыли, как устанавливать циклы.
Я цокнул «да».
– Но ахау, которых вы кормите, хотят принять рождение нового ряда солнц. После того, как умрут все солнца тринадцатого б’ак’туна.
– Я бы хотел помочь им запустить новый цикл, – заявил я.
– А зачем? Ты собираешься вернуться туда?
– Пока только мечтаю, – буркнул я, избегая прямого ответа.
Я думал, сейчас она поинтересуется, как же я собираюсь это сделать, но она всерьез восприняла мои слова и спросила:
– Баш тен теш каабет? «Зачем тебе надо [проходить через все] это?»
– Каждый хочет защитить свою семью.
– А у тебя, который равен мне, есть там семья?
– У меня есть… люди, которые приняли меня в семью.
Ну, несколько дружков в Сети у меня найдется. Должно быть, от Кох не укрылось, что я блефую. Но она оставила эту тему.
Если твои одновременники выживут,
Мы по-прежнему останемся в забвении?
Будут ли они почитать все дни наших именований,
Дни наших смертей?
Будут ли они знать, как мы сеяли и воевали,
Как строили и рожали детей?
Будут ли они иногда петь песни, называя наши имена?
Будут ли они помнить?
– Я сделаю так, что они будут чтить ваш род и кормить ваши уаи в дни ваших смертей.
– Но как ты сказал, они предлагают лишь нищенские подношения.
– Не всегда. – Я сделал жест отрицания.
– Ты говорил, твои одновременники лишены чести. – Она отвернулась.
В ишианском языке отсутствовало слово «зло», но если бы оно и существовало, то выражение «лишены чести» было бы сильнее.
«Когда это я такое отчебучил?» – недоумевал я.
– Во многих отношениях они хуже, чем нынешние люди, но в ряде случаев ты, которая выше меня, могла бы сказать, что они лучше, – неуклюже вступился я «за своих».
– Значит, ты хочешь, чтобы я сыграла девятикаменную игру. И ты полагаешь, что, глядя, как я это делаю, за два огня научишься играть? – «За два огня» означало «в два счета».
– Я, который ниже тебя, так не считаю.
– Тогда объясни: что ты и я делаем здесь?
– Я прошу тебя, высокородную, о предсказании.
– Но я, которая равна тебе, уже говорила с тобой об этом.
– Может, ты желаешь узнать больше? – И я пообещал рассказать ей все, что было исследовано, открыто или создано за четыре грядущих б’ак’туна.
– И без того груз знаний непомерно тяжел для меня.
Любопытно, моя ли в том вина или Кох и прежде страдала от переизбытка информации, а может, она имела в виду и то и другое?
– Тогда позволь мне помочь тебе. Я мог бы дать тебе кое-что.
– Ты мне уже дал форму солнца.
– Нет, то, что я предлагаю, наполнит медом ч’анаки твоих приверженцев. – Иными словами, поможет простым людям. – Я, который равен тебе… мы умеем делать вещи, о которых здесь никто не слышал.
– Какие же? – сделала знак она, положив мухобойку.
– Самоходные катки, например.
– Что это такое? – Жест удивления.
Я пустился во все тяжкие. Объяснил, что колеса – почти как катки, но только с палкой в центре, рассказал, какая польза может быть от тачки, и начал рисовать это приспособление. Но Кох заявила, что у них уже есть подобные штуки, и послала Пингвиниху за одной из них. Я растерялся. Карлица принесла маленького желтого ягуара, сделанного из дерева, и я увидел на каждой лапе по вполне приемлемому колесику. Оказалось, такие игрушки очень популярны у элиты, но их не разрешается выносить из дома. Насколько я понял, запрет этот вводился не из опасений, что народ сообразит, насколько облегчат трудовую жизнь эти приспособления, а потому, что кто-то сможет воссоздать их и использовать, дабы завоевать почитателей. Вдруг этот проныра отправится в другой город, поразит всех «своим» изобретением, зарекомендует себя великим колдуном и в конечном счете создаст немало проблем для аристократии? Если колесо станет объектом культового почитания, вокруг него возникнет новый орден, как, скажем, вокруг ножа, огня или тщательно охраняемого секрета вогнутого зеркала… и, конечно, снадобья для игры. Кроме того, сказала Кох (и тут я передаю ее слова в свободном изложении), сегодня вокруг столько круглодомников, что в тачках нет нужды. Если требуется перетащить что-то тяжелое – собери побольше плебса, и проблема решена.
Как ни велико было разочарование, но я оставил эту тему. Вспомнился случай: однажды я подвозил в Нью-Хейвен одну девицу – этакую расфуфыренную городскую штучку – и пошутил, что ей нужно научиться водить машину.
– Что, если бы я не подвернулся тебе сегодня? – спросил я.
– Позвонила бы другому парню, – не растерялась она. – Он бы меня подкинул, а я за это дала бы ему.
Ладно, забудем о колесах для перевозок. Как насчет гончарного круга?
И я опять бросился с места в карьер. Дело в том, что, если уж откровенно, посуда в Мезоамерике при всей красоте рисунков была довольно корявой формы. Тот, кто сделал бы идеально круглую чашу, произвел бы сенсацию. Но у Кох имелось аналогичное возражение. Синоды, по ее мнению, объявят умельца колдуном, наделенным сверхъестественной силой. И немедленно пошлют людей, чтобы избавиться от него. Ну а если все утрясется и посуда с гончарного круга войдет в обиход, это обречет тысячи семей горшечников на голод, поскольку они не сумеют сразу освоить новый способ. Я думаю, та же причина мешала нам (я имею в виду майя, теотиуакан или любую другую мезоамериканскую цивилизацию) стрелять из луков, хотя Длинноростки и использовали их. Похожая логика лежала в основе самурайского культа меча – Токугава [669]669
Токугава Иэясу (1542–1616) – основатель династии сегунов.
[Закрыть]предвещал, что с появлением в Японии стрелкового оружия будет потрясена вся властная структура, даже если сегунат первым завладеет им. Поэтому он и его наследники конфисковали ружья, изгнали португальских торговцев из большей части страны и почти сто пятьдесят лет держали страну в максимальной отсталости.
– Делать такую посуду в Теотиуакане нельзя. Конец.
Идеи иссякали. Мы в Стейке и не предусматривали такого развития событий.
– Тогда просто кинь пробный шар, – осенило меня.
Мой императив переводился легко: «прощупай игроков» – сделай ставку в покере, чтобы посмотреть, как соперники поведут себя. Рискни – ради игры, для понта, хрен знает зачем.
– Ты думаешь, меня не интересует твой уровень? – Я не ответил, и Кох продолжила: – Интересует. Но другая сторона любопытства – несбыточные надежды, мучительство. – Госпожа явно боялась своей неосторожностью повредить близким людям.
Ну что ж, по крайней мере, она не лишена сострадания. Обычно я не люблю делать обобщения о человечестве в целом не оттого, что ошибаюсь, а потому, что эти истины давно открыты, но сейчас хочу привести одну из них: человек или наделен способностью к сопереживанию от природы, или (гораздо чаще) нет. И либо Кох принадлежала к первой категории людей, либо мы оказывались в жопе, вот и весь разговор.
Так, соображай.
Сострадание – слишком абстрактное понятие, а потому в ишианском для него не было определения. Приходилось выражаться на семейном языке.
Отлично.
– Я знаю… – начал я. – Если бы ты на дороге увидела, как кто-то душит трехлетнего ребенка, то вмешалась бы. Пусть это был бы урод от рождения, покрытый неизлечимыми струпьями, от которого решил избавиться его отец, ты все равно возмутилась бы и, если бы могла, остановила его.
– Твоих одновременников нет на нашей дороге, – возразила она.
– Есть. К тому времени двадцать по двадцать по двадцать по двадцать моих одновременников будут твоими потомками или потомками твоих сестер, твоих братьев, потому что…
Я замолчал и заглянул ей в глаза. Она смотрела мимо меня – куда-то над моей головой.
– Они, – не сдавался я, – будут умирать, но перед смертью станут спрашивать себя, почему никто не захотел им помочь. Если бы они знали, что я, который ниже тебя, и ты могли их спасти, но не сделали этого, они бы захотели узнать почему, и наш ответ был бы плохим оправданием…
Я замолчал. Слезы, которые никогда не прольются, душили меня, изнутри жгли сухие глаза. Мне не хватало дыхания, я разевал рот, как рыба на берегу, почти начал заикаться, как это случалось со мной в детстве, если я говорил по-английски и вдруг впадал в панику. Черт тебя побери, Джед, соберись, собери…
– Я, равная тебе, приняла решение, – произнесла Кох.
Слишком много солнц уже родилось,
Слишком много еще грядет.
Люди зерновой плоти исчезнут с солнцем
4 Властителя, 3 Желтизны.
Может быть, когда-нибудь потом появится
Новый наследник Ицтамны,
Он создаст новый род из иного материала,
Может быть, из нефрита.
Она замолчала, а потом хотела сказать «ка’ек» – «конец», но я прервал ее.
– Постой, – проговорил я (точнее, закричал), – постой, ты не… – («Тоном ниже, Джед», – приказал себе я), – ты, которая высоко надо мной, не должна решать за них. Даже если твои выводы верны.
– Нет, – отвечала она, – я не имею права продлевать их время на нулевом уровне, даже если бы и могла.
– Имеешь… то есть… ты хочешь их спасти, но считаешь или тебе внушили, что не должна… Однако если сложить вместе мой опыт и твой… Ведь я был здесь и там и видел вещи, которые…
Я сбился и начал снова:
– Уверен – не потому, что это правильно, просто это истина, – ты можешь делать все, что сочтешь нужным.
Поскольку все правила этикета уже неоднократно нарушались, я осмелился заглянуть ей в глаза, широко раскрытые и будто навыкате… Стойте! Нет! Веки Кох с нарисованными на них зрачками были сомкнуты, и казалось, она смотрит на тебя, будто сиротка Анни, созданная Гарольдом Греем. [670]670
Гарольд Линкольн Грей (1894–1968) – американский художник, создатель образа сиротки Анни, персонажа комиксов.
[Закрыть]
Тьфу. Какое потрясение. Потрясеньице. Черт, неужели она за все это время ни разу не моргнула? Или я не заметил? Чудненько.
Я не знал, что делать. Должно быть, госпожа Кох не желала пялиться на меня или отворачиваться, а потому просто опустила веки.
Ну же, Джед. Придумай что-нибудь.
– Я, который ниже тебя, требую, чтобы ты посмотрела на меня, – сказал я.
Представьте, что я брякнул: «Ну попробуй, ударь меня». Тем не менее я понимал, что сейчас необходим хоть самый малюсенький визуальный контакт. Чтобы убедиться: мы играем на равных. Или во мне просто взыграло ретивое (я уже говорил, что из чувства противоречия можно сделать что угодно). И она открыла глаза. Наши взгляды встретились.
(51)

В школе Нефия… (Конечно, прерывать повествование не годится, и даже если бы существовали исключения из этого правила, они бы не распространялись на данный случай; тем не менее, мой дорогой и долготерпеливый читатель, как говорилось в стародавние времена, давай немного переведем дыхание.) Итак, в школе Нефия постоянной учительницей на подмену в младших классах работала крупная старуха, которая помнила, когда внуки первопроходцев приходили в школу босиком, и была настоящим кладезем всевозможных развлечений из дотелевизионной эпохи. Она знала все о тряпичных куклах, вышивании, марионетках и в особенности о комнатных играх – фантах, шарадах, ужасающем ритуале выуживания яблок, испорченном телефоне, святочных гаданиях, театре теней. Эта хранительница традиций показала нам утраченный мир бесконечных сумеречных вечеров, рухнувший с началом работы АЭСМ. [671]671
АЭСМ – Администрация по электрификации сельской местности (Rural Electrification Administration).
[Закрыть]И вот как-то в пятницу она прорезала шесть дырочек в старой белой простыне и велела нам приклеить простыню скотчем на широкую дверь, ведущую в чулан. Двенадцать человек – а именно половина класса – отправились туда, и трое из них приложились к глазкам. Мы же, из другой команды, по очереди подходили к простыне и пытались угадать, кто это. И никого не узнали, кроме рыжей Джессики Ганнерсон с глазами анилиново-фиолетового цвета, как синие чернила на последней, еще читаемой копии с гектографа. Не видя ни одной черты лица, ты не мог сказать, кто перед тобой – твой лучший друг или заядлый враг, который наверняка сейчас корчит тебе рожи, и даже не знал, девчонка там или мальчишка. Это тревожное ощущение не раз возвращалось десятилетия спустя, когда я, например, смотрел в глаза какой-нибудь молодой дамы, которая хотела наладить со мной отношения (люди мы или животные, в конце концов). В прозрачной глубине ее очей светилась симпатия или, в худшем варианте, честность, но я осознавал, что в любом случае женщина откровенна со мной. И вдруг ни с того ни с сего в памяти всплывала та глупая игра «угадай кто». Зрачки моей визави сразу превращались в дыры – и там зияла бессмысленная межгалактическая пустота. Между нами вырастала стена, и я, оторванный от всего мира, беспомощно барахтался в механистическом космосе, как в mierditas refritos, [672]672
Жареное дерьмо. ( Прим. ред)
[Закрыть]не просто лишенный возможности общения с другим существом, но обреченный на полное одиночество и ныне, и в будущем, и даже в прошлом. А теперь (в 664 году н. э.) я снова играл в эту игру, в упор глядел на госпожу Кох и, борясь с отчаянием, надеялся уловить в ее глазах хотя бы слабый намек на то, что мы с ней реальны и наделены сознанием, независимыми желаниями и существуем в одно и то же время в конкретном месте пространства. Ее лицо было бесстрастным, как у хорошего шахматиста, игрока в го или холдэм, [673]673
Холдэм – разновидность покера.
[Закрыть] – в свое время я повидал множество столь же каменных лиц по другую сторону игральных столиков, – но в очах ее порой вспыхивали загадочные искорки, словно у Клео де Мерод. [674]674
Клео де Мерод (1875–1966) – французская танцовщица, которую рисовали Дега, Тулуз-Лотрек и другие художники.
[Закрыть]Темные радужки почти сливались с зрачками, и я различал два оттенка черного, будто на картинах Эда Рейнхардта. [675]675
Эд Рейнхардт (1913–1967) – американский художник-авангардист.
[Закрыть]Казалось, левый глаз у нее холоднее, а правый – теплее… Что за звук? На улице пошел дождь? Нет, это кровь шумит у меня в ушах.
«Ну же, – мысленно приказывал я ей. – Я знаю, что ты здесь».
Через сорок биений неподвижные черты дрогнули, словно госпожа Кох прикусила язык. Должно быть, ее мучила боль, которую она хотела и не могла скрыть. Или я, как всегда, сочиняю небылицы?..
Восемьдесят биений.
Наше противостояние вовсе не должно походить на изнасилование. Давайте превратим его в момент любви. Договорились?
На сто двадцатом биении у меня в спине что-то щелкнуло, сел на место шейный позвонок. Нет сил больше смотреть. Но я упорно держался. Мы с ней напоминали двух борцов сумо, напирающих друг на друга в центре дохьо. [676]676
Дохьо – ринг, на котором происходят схватки борцов сумо.
[Закрыть]Тяжело, когда на тебя давит живой вес порядка полутонны. Джед, не сдавайся. Пожалуйста, Несуществующий Господь, ну пусть в этот раз мне повезет. Пожалуйста. Пожалуйста.
– Они небезразличны мне, потому что это мои дети, и я не хочу, чтобы они страдали на нулевом уровне. – Голос Кох звучал так, словно она находилась за милю от меня.
Она не отвела глаз.
– Нулевой уровень – единственный, других нет, – промямлил я.
– Это ничего не меняет, – сказала она.
– Нет, нет, нет, нет, очень даже меняет, они хотят… они хотят провести друг с другом как можно больше дней.
– Значит, они корыстны и трусливы.
– Нет, нет, нет, они – как семья, отправившаяся на праздник.
– И что же можно увидеть на этом празднике? – спросила она, подразумевая, что со временем острота удовольствия притупляется.
– Поэтому они хотят иметь новых детей, – убеждал я, – чтобы смотреть на мир свежим взглядом, чтобы… То, что мы с тобой говорим, – б’ач на ток. (То есть все наши слова смешны.)
– Да, – цокнула она.
– И если солнца будут светить и дальше, – сказал я, – если появится новое племя солнц… Кто знает, что произойдет потом? Мы с тобой можем разыгрывать игру четыреста по двадцать раз и ничего не увидеть. А в двадцатый по десять, в двадцатый по сто б’ак’тун вдруг случится то, ради чего стоить жить…
Я замолчал. Господи Иисусе, и за что мне это все? Миллиард лет общей эволюции плюс пять миллионов лет эволюции человека, а все свелось к нам двоим.
– В самой черной из гор есть кувшин, – произнесла Кох. – Вся йаф (вся боль, или дым боли, или, в данном случае, слезы) всех существ в мире стекает в него.
– Я, который ниже тебя, слышал об этом.
Она продолжила:
Лай кан х’тулнаак,
Лайл ш нук хомоаа
Ку тц’о, ку тц’а.
И когда большой кувшин
Наполнится до краев,
Он треснет, он расколется на части.
– Ш’тан бок ч’ана к’авал наб, – проговорил я. «Это все равно что разводить кукурузную кашу мочой дикой свиньи».
На ишианском – попросту «бред собачий». Хотя идиома звучит смешнее, особенно для того, кто целый день затаскивал двухсотфутовые известняковые блоки на девяностофутовую пирамиду в стоградусную жару.
– Как угодно будет тебе, который равен мне.
По непонятной причине (вряд ли из-за колдовского трюка Кох) я будто вырубился на секунду-другую. А когда очнулся, никак не мог вспомнить что-то очень важное… Мы больше не поедали друг друга глазами. Я смотрел в пол. Услышал, как зашелестела накидка Кох. Определенно, сейчас мы находились в другом временном и пространственном измерении.
– Старый Рулевой не заходит сюда, – произнесла Кох.
Я понял, что у нее нет порошка Старого Рулевого, важнейшего компонента снадобья.
– Ты, которая равна мне, сможешь ли играть без Рулевого?
Она сделала движение, означающее: это бессмысленно.
– Но иногда ты следуешь его подсказкам? – спросил я.
Она цокнула «да».
За спиной у меня раздались шаги. Вошла Пингвиниха и зажгла второй ароматический шарик. Что ж, хороший знак. Кох согласна? Карлица приблизилась к госпоже и поднялась на цыпочки. Та наклонила голову и прошептала ей на ухо слов шестьдесят, потом передала какой-то предмет. Пингвиниха засеменила прочь. Вот оно, подумал я. Она хочет взять немного дури и сыграть. Вдруг нам прямо сейчас удастся найти этого хмыря. Если мы узнаем имя, я запишу его и оставлю в шкатулке на магнетитовом кресте. Тогда и про порошок можно забыть. Ну держись, апокалипсник. Так-то вот. Нам все по плечу.
Кох взяла новый миртовый факел и сунула его в жаровню – он загорелся желтовато-зеленым пламенем. Она вставила его в держатель. Свет заплясал на ее темной щеке.
В какой миг Кох переменила решение, я не заметил. Неужели ее убедил я? Теперь, когда дело сдвинулось с мертвой точки, я не был в этом уверен. У меня возникло ощущение, что я тут ни при чем. Да, я предоставил ей кое-какую новую информацию, а госпожа Кох оказалась достаточно сильной, чтобы на этом основании передумать. Я чувствовал себя вымотанным. Она открыла одну из корзинок, вытащила оттуда тонкую, длинную сигару зеленого цвета, откусила кончик с четверть дюйма и прикурила от факела, потом затянулась, выпустила дым в пяти направлениях и сказала:
Теперь дыхание моего сердца белое,
Теперь дыхание моего сердца черное,
Теперь дыхание моего сердца золотое,
Теперь дыхание моего сердца красное,
Господин Старый Солильщик, мы, двое, которые ниже тебя,
Просим, дай нам твои быстрые глаза, твои острые глаза,
Всезнающий господин, всевидящий господин. Конец.
Она нагнулась и сильно выдохнула. Большой клуб дыма окутал корзинку. Кох подождала минутку, подняла крышку и вытащила плетенку меньшего размера. Прутья были редкими, и я увидел нечто белое, имеющее форму сердечка. Ага, это гнездо небольшой колонии тропических ос. Я не успел проследить взглядом за движением Кох – она сунула внутрь левую руку, длинными ногтями (большим и шестым пальцами) ухватила толстую золотисто-зеленую матку и положила ее в середину маленького блюдечка. Двухдюймовая оса с большим брюшком и торчащим яйцекладом вращала крупными глазами. Крылья ей кто-то оторвал. Сверху опустился указательный палец Кох и прижал насекомое к блюдцу в месте сочленения брюшка и грудки. Оса, хотя дым и ввел ее в состояние ступора, пыталась уползти, ее ножки скользили по ровной поверхности. Кох, действуя ногтями как ножницами, отсекла осиную голову – та упала на блюдце, ее челюсти продолжали двигаться. Затем госпожа ухватила жало и яйцеклад и вырвала их из брюшка жертвы. Вместе с ними отделились маленький мешочек с ядом, пара прозрачных, похожих на бусинки яичек, несколько желтых волосков и обрывки хитина. Кох подвинула их к краю блюдца. Потом она оторвала одну из шевелящихся ножек (правую переднюю, кажется), бросила ее на второе маленькое блюдце и подтолкнула его ко мне.
Кох подняла пятиногое, безголовое насекомое, продолжающее сопротивляться, сунула себе в рот, дважды смяла зубами и проглотила. Я медлил.
Давай же, Джед. Не трусь. Я подцепил ножку, покатал ее, как идиот, на ладони, словно она могла подпрыгнуть и вонзиться мне в глаз. Так. Я положил ее на язык. Ножка барахталась, но я быстренько ее перекусил и проглотил. Кох протянула мне сигару, видимо в качестве закуски. Я сделал большую затяжку. Табак был суховатый и слегка пряный, но вовсе не плохой. Я не знал, что делать с сигарой дальше, и она осталась у меня в руке. Вернулась карлица и выложила на крышку жаровни набор корзиночек, кувшинчиков и маленьких блюдец, словно мы собирались пить дневной чай. Мне уже и без того казалось, что рот у меня больше головы.
Кох заговорила:
Теперь мы решили, что я разыграю здесь большую игру
Перед тобой, который равен мне.
Предашь ли ты меня враждебным великодомам?
Назовешь ли мое имя чужестранцам?
Расскажешь ли в открытую о том, что случится
Здесь, внутри нашей цитадели,
Здесь, в нашей нефритовой горе, под нашим небом,
У самого нашего сердца?
Будешь ли ты болтать об этом на сотнях площадей?
Распахнешь ли мою перевязанную венами книгу
На солнце, среди бела дня?
Я выдавил из себя ответ, с трудом ворочая языком, который стал большим и вялым:
Как я смогу остаться кровным,
Если выдам тайну?
Тогда меня не будут больше называть
Сыном дома Гарпии,
Скворцы будут смеяться надо мной, шмели будут жалить
Меня в обе губы, в оба века,
А потом броненосцы будут лизать мой череп
В дюнах, в пустыне,
Вдали от пещеры этой горы над морским кратером,
Под ракушкой неба.
«Ну и как у меня получилось? – мысленно спросил я у Кох. – Нормально? Или ты хочешь услышать это еще и на латыни?»
Кох неторопливо сделала жест: «Принято». Ее темная рука описала плавную траекторию в воздухе. Все медленнее и медленнее, а потом и вовсе зависла над бедром. Чудн о , подумал я. Я посмотрел на часы, вернее, начал переводить взгляд. Это опять разрушающий время порошок Старого Солильщика, понял я. Хронолитический. Только гораздо более сильный, чем в прошлый раз… Ого, вот оно. Мои зрачки наконец повернулись в нужную сторону. Ароматический шарик выгорел наполовину, но я его различал смутно – карлица, вероятно, повесила над ним полоску сетчатой ткани… нет, пардон, ошибочка, мне мешал неподвижный клуб дыма… Это все из-за порошка. Я услышал, как Пингвиниха что-то шепчет, и посмотрел на Кох. Мои глаза представлялись мне гранитными сферами, которые ворочаются в смазанных маслом гнездах. Кох подняла ладонь: «Ждать, не двигаться». Такой же жест использовали в клане Гарпии во время охоты или налета на соседей, если нужно было, чтобы все замерли.
Кто-то за стеной свистнул. Карлица, переваливаясь с ноги на ногу, вышла. Шажок… долгая минута… еще шажок. Кох встала. У меня возникло впечатление, будто передо мной медленно вздымается гора, выталкиваемая наверх сдвигом тектонических плит. Госпожа повернулась ко мне и поправила свою накидку. Ничего себе, подумал я. Какая она высокая! Гораздо выше майяских женщин, может, даже меня, то есть Чакала, парня довольно крупного. Я, нарушая все правила, наблюдал за ней. Под квечквемитлем [677]677
Квечквемитль – традиционная мексиканская накидка типа пончо.
[Закрыть]Кох казалась тоньше. Большинство солнцескладывателей худощавы, но она, пожалуй, слишком худа. Госпожа сделала четыре шага и опустилась на колени посередине комнаты лицом к двери. Я отнюдь не балетоман, но давным-давно я видел Рудольфа Нуреева в «L’Apres-Midi d’un Faune» [678]678
«Полуденный отдых фавна» ( фр.), балет на музыку Дебюсси.
[Закрыть] – во всех его движениях, в малейшем жесте, сквозило высокомерие: я, мол, всё, а вы – ничто. В манерах госпожи Кох я заметил нечто похожее. Только это не так бросалось в глаза.
Я вывернул назад голову. В маленьком дверном проеме появились плечи и голова, плавно взмыли вверх, опустились и застыли – человек остановился. Я напряг зрение, и постепенно, словно туманность в большом телескопе, его фигура проявилась. Это был высокий мужчина в темной накидке, с копной волос, как у накома, и кожей, натертой серым пеплом. Его опознавательные знаки я не мог разглядеть, но от него исходил кошачий мускусный запах. Я узнал его: так пах искусственный мускус, приготовляемый из Mimulus inoschalus, [679]679
Латинское название мускусного дерева, произрастающего в Южной Америке.
[Закрыть]им пользовались ишианские Оцелоты низшего сословия. Значит, вошедший принадлежал к противоположному лагерю, дому Пумы, возможно, к приемному клану, который прислуживал им в качестве священнослужителей. Он проговорил шепотом что-то неразборчивое, и Кох ответила ему на том же языке. Не понимаю, подумал я. Скажи это на бробдингнегском. Он медленно приблизился к Кох, сделав пять небольших шажков. Та не шелохнулась.
Мне не понравилась эта сцена. Более того, у меня от нее мурашки по коже поползли. Пума пошарил у пояса. Ну уж нет, подумал я. Он вытащил маленький мешочек, развязал узел – не иначе тайный рыболовный – и что-то извлек. Что именно, я не рассмотрел. Кох подалась вперед и открыла рот. Пума положил ей на язык какое-то зелье, она откинулась назад и начала жевать.
Меня словно слегка ударило током – воспоминание о тех днях, когда я еще не ходил к причастию. «Это что – ритуал конфирмации?» – спрашивал я себя. Лови кайф, это мой косячок. Меня просто распирало от желания говорить.
Смотреть, как госпожа делает нечто обыденное, человеческое – в данном случае жует, – было довольно мучительно. В ее движениях чувствовалось томление, словно ей давно приелся обряд, который приходилось исполнять в тысячный раз. Внезапно на ее лице мелькнуло озорное выражение, как у непоседливой девчонки.
Посланец Пумы наклонился вперед, прислушиваясь, как Кох глотает. Карлица протянула ему чашку (надеюсь, с горячей водой), и он подал ее Кох. Та набросила на руку накидку, взяла чашку, выпила содержимое и вернула ему. Он заглянул в нее, потом посмотрел на Кох. Она широко раскрыла рот, и Пума несколько мгновений внимательно изучал ее нёбо, потом распростер руки, показывая, что удовлетворен. Процедура показалась мне унизительной для Кох, словно ее досматривали в тюрьме. Патлатый достал маленькую вещицу из другого мешочка, висевшего у него на поясе, и положил на поднос, который держала Пингвиниха, – судя по раскраске лица, это была фигурка Кох. Может, госпожа передала ее Пуме раньше через свою служанку. Карлица пропела церемониальное «спасибо тебе, гость» на древнем языке.








