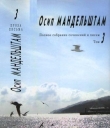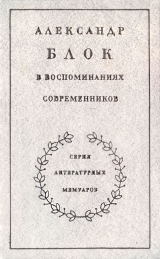
Текст книги "Александр Блок в воспоминаниях современников. Том 1"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
Подкупающая искренность блоковской лирики, ее обнажен
ная исповедальность бесспорно способствовали тому, что и сам
Блок, его личность и личная жизнь стали восприниматься как
бы сквозь призму его стихов. И нередко становились предметом
бестактного обсуждения в литературной и окололитературной сре
де. Можно было бы привести факты, свидетельствующие о том,
что иные события личной жизни Блока, перетолкованные в духе
и стиле его стихов, благодаря нескромности падких на сенсацию
людей (числившихся среди литературных «друзей» поэта), в весь
ма прозрачном изображении выносились даже на страницы печати.
Так еще при жизни поэта стала постепенно возникать, вылеп
ляться, оформляться маска Блока. Зачастую она заслоняет его
настоящее, человеческое лицо и в мемуарной литературе, и
в посвященных ему стихах, и в его иконографии. В частности,
иной раз в форме непомерных преувеличений мелькает тема:
Блок во хмелю.
Блок был на удивление прост (как все истинно большие
люди), неслыханно любезен и приветлив с кем бы то ни было.
В нем не было решительно ничего от позы, рисовки, притворства,
жажды успеха и вообще от какой-либо суеты. У себя в Шахма
тове он любил ходить в рубахе с косым воротом и в русских са
погах, отлично орудовал топором и косой, пилой и рубанком.
Любил приговаривать, что работа везде одна – что печку сло
жить, что стихи написать.
А изображают его сплошь и рядом то архангелом, то демо
ном в обличьи декадентского денди с надменным, холодным ли
цом и опустошенным взглядом, в неизменном сюртуке с бантом...
Роковые женщины «с безумными очами», удалые лихачи, кабац
кая стойка, черная роза в бокале вина и тому подобное – вот
непременные аксессуары вульгарного, штампованного изображе
ния Блока, ставшего общедоступным достоянием литературного
ширпотреба.
Есть в разноречивой мемуарной литературе о Блоке, сочи
нявшейся с разных позиций и с разными побуждениями, еще
20
одна фальшивая тенденция – представить поэта отрешенным от
реальной жизни сновидцем, который, мол, ни в какой обществен
ности ничего не понимал и, ринувшись в публицистику и кри¬
тику, опрометчиво взялся не за свое дело.
Иногда такого рода утверждения шли от прямого желания
развенчать и унизить Блока, подорвать его репутацию и автори¬
тет революционного поэта. Именно так обстояло дело, например,
в тенденциозных воспоминаниях Зинаиды Гиппиус, проникнутых
лютой ненавистью к Октябрьской революции и крайним ожесто¬
чением против Блока – автора «Двенадцати».
Воспоминания так и названы: «Мой лунный друг». И Блок
изображен здесь человеком ко всему равнодушным, одержимым
визионером, лунатиком, который, дескать, мало чего соображая,
всегда ходил где-то «около жизни» и принятие которым револю
ции нельзя обсуждать всерьез, поскольку оно было лишь безум
ной выходкой «безответственного мистика».
С Зинаидой Гиппиус все ясно. Но вот даже В. Зоргенфрей,
свидетель добросовестный и Блока чуть ли не обожествляющий,
изображает поэта в решающем для него 1907 году в таком свете,
будто он подходил к «событиям» настороженно, как к чему-то
чуть ли не «враждебному его целям».
Какое глубокое непонимание! Словно не было и в помине
ни тогдашних стихов Блока, ни его пышущих гневом и страстью
статей о современном положении России и русской литературы.
И дело тут, конечно, не в сознательном искажении личности и
деяния Блока, но в изначально сложившемся представлении о
поэте как о парящем где-то над тревогами жизни вдохновенном
мечтателе и мистике, устремленном душой к «иным мирам».
Так из подмены лица маской, из недопонимания судьбы по
эта исподволь складывалась, закреплялась и до сих пор живет
легенда о Блоке.
Тенденция представить Блока «крайним мистиком» обнару
живается и в замечательных по-своему мемуарах Андрея Белого.
О них разговор особый. Это самое существенное из того, что
современники рассказали о Блоке. Но, пожалуй, и самое спор
ное.
Воспоминания Андрея Белого выделяются из общего ряда,
во-первых, потому, что автор их большой писатель, мастер сво¬
его дела. Собственно литературные достоинства этой книги (осо
бенно в расширенной, наиболее полной ее редакции) – велики
и очевидны. Наблюдательность Белого, меткость его характери
стик, изощренные приемы реалистического в основе своей гро
теска, которыми оп пользуется с такой преизбыточной щед
р о с т ь ю , – во всем этом продемонстрировано тонкое словесное ис-
21
кусство. Сколько блеска и яда у Белого и в изображении
салонной литературно-религиозной «общественности», и в велико
лепных портретах самих «общественников» и множества предста
вителей тогдашней интеллигентской, в частности символистской,
элиты, и в комически обыгранных мельчайших деталях наруж
ности или костюма, как правило, беспощадно зарисованного им
персонажа.
Но совершенно уникальны воспоминания Андрея Белого как
широкое документально-художественное повествование, вводящее
в историю и самую атмосферу русского символизма, хотя карти
ну, с таким размахом созданную писателем, и нельзя счесть
объективной. В существе своем это произведение полемическое:
Белый поставил задачей не только восстановить задним числом
свой духовный мир, но и обосновать и защитить свое понима
ние символизма.
Андрей Белый был большим писателем, даже с проблесками
гениальности, что единодушно отмечали все, кому приходилось
с ним сталкиваться. Но вместе с тем трудно назвать другого
столь же хаотического, неупорядоченного писателя, беспрерывно
менявшего свои вехи и судорожно переписывавшего заново свои
сочинения.
Совершенно необычна и творческая история его воспомина
ний о Блоке.
Обратившись к ним сразу же после смерти Блока, А. Белый
быстро написал очерк, охватывающий время с 1898 по 1905 год
(с очень беглым и невнятным «пробегом» по годам последую
щим), и опубликовал его в 1922 году в «Записках мечтателей».
(Этот текст и воспроизведен в нашем сборнике.) Но даже не
дождавшись публикации, он немедленно начал писать вос
поминания по новой, сильно расширенной программе, – так воз
ник текст, напечатанный в 1922—1923 годах в четырех номерах
берлинского журнала «Эпопея». (Собственно, этот текст и следо
вало поместить в нашем сборнике, если бы не его весьма солид
ный объем; остается надеяться, что когда-нибудь эта обширная
книга увидит свет в научно подготовленном и комментированном
издании.) В дальнейшем разросшиеся воспоминания были еще
раз переработаны в фундаментальное сочинение «Блок и его
время» (вариант заглавия: «Начало века»), оставшееся не издан¬
ным. Наконец, уже в первой половине тридцатых годов Белый
заново вернулся к Блоку во втором и третьем томах своей ме
муарной трилогии («Начало века» и «Омут»).
За десять лет, прошедших со времени появления «Воспоми
наний об Александре Александровиче Блоке» в «Записках меч¬
тателей», для Андрея Белого утекло много воды. Последняя пе-
22

реработка мемуаров привела не только к дальнейшему расши
рению рамы повествования, но и к переосмыслению и переакцен
тировке сказанного прежде.
Разительнее всего изменились в изображении Белого именно
Блок и история их отношений. В первой редакции о Блоке го
ворится в тоне восторженно-апологетическом, в окончательной —
в тоне памфлетно-очернительном. Сам Белый объяснял это так:
в 1921—1922 годах он был «охвачен романтикой поминовения» —
и потому «образ серого Блока непроизвольно вычищен», а теперь
он «старается исправить промах романтики первого опыта» и.
хочет «вспоминать в сторону реализма». Охота пуще неволи:
«Может быть, и тут я не попал в ц е л ь » , – оговаривался Белый 1.
Да, именно: не попал в цель. Обе столь далеко расходя
щиеся версии далеки от истины.
В первом случае Белый надел на Блока маску мистика-
максималиста и творил идиллическую легенду о полном духов
ном единении их обоих, хотя впоследствии сам признался, что
понимал Блока, «может быть, два-три года, не более; да и то
оказалось, что ничего-то не понял» 2.
Во втором же случае Белый не только «переосмыслил» об
раз Блока, последовательно дискредитируя его во всех отноше
ниях (вплоть до наружности), но и грубо извратил самую суть
своего с ним расхождения.
Конечно, не нужно думать, будто Белый просто плодил за
ведомую неправду. Нет, он по-разному видел свое прошлое:
в 1921 году так, а в 1932-м – этак, и каждый раз пытался уве
рить себя в собственной правоте. Такая неустойчивость в мне
ниях и взглядах была ему свойственна в высшей степени.
Позднейшая мемуарная трилогия Андрея Белого – одновре
менно памфлет и реабилитация. Белый писал ее, искренне ощу
тив себя деятелем новой, социалистической культуры (хотя до
самого конца так и не мог ни понять, ни принять марксизма,
ни начисто отказаться от антропософии и прочих филиаций
«духовного знания»).
Отсюда – учиненные им пересмотр и переоценка как сим
волизма в целом, так и своей прошлой деятельности в каче
стве лидера и теоретика символизма. Он предпринял безнадеж
ную и, по сути дела, одиозную попытку «оправдать» символизм,
истолковать его, вопреки действительному положению вещей,
1 А н д р е й Б е л ы й . Начало века. М., 1933, с. 335; А н д р е й
Б е л ы й . Между двух революций. Л., 1934, с. 5—6.
2 А н д р е й Б е л ы й . На рубеже двух столетий. М., 1930,
с. 381.
23
как антибуржуазное, бунтарское, чуть ли не революционное
движение молодого интеллигентского поколения 1890-х годов,
а себя самого представить главным и наиболее последовательным
выразителем этого бунтарского начала в символизме.
(Нужно заметить дополнительно, что в дневниках, записных
книжках и письмах зрелого Блока, опубликованных в 1927—
1932 годах, Белый обнаружил многое, что в корне разрушало
легенду о «Блоке и Белом» как сиамских близнецах русского
символизма. В последнее пятилетие жизни в доверительных пись
мах к друзьям Белый отзывался о Блоке в таком тоне, который
позволяет говорить о чувстве ненависти.)
Коротко говоря, вернувшись заново к воспоминаниям о Бло
ке, Андрей Белый все переставил с ног на голову: свою раз
нузданную полемику и оскорбительный разрыв с Блоком он
изобразил как борьбу «бунтаря» с «темным мистиком».
В разное время Андрей Белый очень много написал о Бло
ке (кроме воспоминаний). Если собрать все написанное, полу
чится монументальный том, включающий высказывания и оцен
ки самого разного свойства, – от безудержных похвал до грубей
шей брани. Такая книга послужила бы незаменимым материалом
к еще не написанной истории русского символизма.
Но все, что Белый писал о Блоке, проникнуто одной яв
ной тенденцией – борьбой за Блока.
И в ту пору, когда Белый, после «Балаганчика» и «Нечаян
ной Радости», ожесточенно обличал Блока в отступничестве, из
мене, кощунстве, он, по сути дела, боролся за возвращение его
в лоно соловьевства, несмотря на многократные и внятные разъ
яснения Блока, что он идет «своим путем».
И впоследствии, когда они внешним образом изжили свою
ссору, Белый опять (столь же безуспешно) пытался привлечь
Блока к активному участию в деле «возрождения» симво
лизма (в издательстве «Мусагет» и в журнале «Труды и
дни»).
А после смерти Блока – объявил его не больше не меньше
как «бессознательным носителем антропософской проблемы» и в
январе 1922 года даже выступил в Берлине с докладом «Блок
как антропософ». Это было, конечно, тоже формой борьбы за
Блока – автора уже не только «Балаганчика», но и «Двенадцати».
В условиях времени борьба эта приобретала отчетливый идейно-
политический смысл.
Десять лет спустя круто изменились оценочные выводы.
Белый превратился в «бунтаря», оказывается, «трезвившего» тем
ного Блока своей полемикой с ним, а Блок как был, так и
24

остался «крайним мистиком», впавшим с покаяния в тяжкое по
хмелье, и был объявлен единственным и злокозненным виновни
ком той мучительной «неразберихи», которая испортила их жиз
ни и запутала их судьбы 1.
3. БОРЬБА ЗА БЛОКА
Более всего освещены в мемуарной литературе о Блоке по
следние три с половиной года его жизни – с января 1918 года по
август 1921-го. Оно и понятно: в это время Блок был особенно на
виду. После появления «Интеллигенции и Революции», «Скифов»
и «Двенадцати» имя поэта было у всех на устах, да и круг лю
дей, с которыми он в это время общался, сильно расширился.
Расширение началось еще в 1917 году – с того времени,
когда поэт был привлечен к работе в Чрезвычайной следствен
ной комиссии, учрежденной для расследования деятельности ми
нистров и высших сановников царского режима.
Октябрьская революция окончательно вывела Блока из его
привычного уединения. Редакция газеты «Знамя труда», прави
тельственная комиссия по изданию классиков русской литера
туры, Театральный отдел Наркомпроса, горьковская «Всемирная
литература» и его же «Исторические картины», издательство
Гржебина, Большой драматический театр, Союз поэтов и Союз
писателей, Дом литераторов и Дом искусств – вот перечень
главных мест, где Блок работал или постоянно бывал, встре
чаясь со множеством людей, часто для него совершенно новых.
Страна переживала крайне тяжелое время. На нее черной
тучей надвинулись гражданская война, интервенция, блокада,
хозяйственная разруха, голод, заговоры, диверсии и мятежи.
Но литературная жизнь, жизнь театра, искусства тем не менее
била ключом. Много было и в ней неурядицы, спешки, воздуш
ных замков, досадных ошибок, однако сколько же веры, энер
гии, дерзаний, героики, страсти!..
Но и обстановка в искусстве, в литературе была очень слож
ной, а в Петрограде, пожалуй, особенно. Ленин летом тяжелей
шего 1919 года уговаривал Горького уехать из Петрограда – чтоб
изолироваться от «больного брюзжания больной интеллигенции»,
наиболее назойливого в «бывшей столице» 2.
1 В первой редакции воспоминаний А. Белого, которая поме
щена в данном сборнике, рассказ о возникшей между ним и Бло
ком личной драме не присутствует. См. об этом в моем очерке
«История одной любви» (Вл. О р л о в . Пути и судьбы. Изд. 2-е.
М.—Л., 1971, с. 636—743).
2 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 51, с. 25.
25
В первые пореволюционные годы в Петрограде образовалось
несколько вполне легальных учреждений, ставших центрами при
тяжения брюзжащей интеллигенции, в их числе – Дом литерато
ров, Союз писателей, Вольная философская ассоциация (Вольфи
ла). К ним можно присоединить и несколько более узких, интим¬
ных литературных объединений вроде гумилевского «Цеха поэтов»
и связанного с ним кружка «Звучащая раковина». В частности,
Дом литераторов превратился в прибежище всякого рода отстав
ных «витий», отказывавших Советской власти в своем сочувствии.
(Именно в противовес Дому литераторов Горький учредил Дом
искусств, вокруг которого постарался объединить все наиболее
живое и дееспособное, что было в петроградской литературе.)
Автора «Двенадцати» в этих учреждениях я кружках пори
цали – большей частью по необходимости, прикровенно, но под
час и вслух.
Написав «Двенадцать», Блок оказался в самом центре про
исходившей в стране идейно-литературной борьбы. Теперь, по
прошествии стольких лет, особенно ясно видно, что «Двенадцать»
явились не только гениальным поэтическим произведением, но
и гениальным поступком.
Автор «Двенадцати» подвергся бешеной травле со стороны
различных контрреволюционных сил. От него отшатнулись мно
гие, казалось бы вполне расположенные к нему люди, в их
числе и самые близкие. Все это хорошо известно. Как и то, что
Блок в 1918 году мужественно встретил обрушившуюся на него
лавину глумления и клеветы.
Известно также и то, что в дальнейшем Блок временами
испытывал упадок душевных сил и крайнее раздражение, по
тому что вынужден был заниматься не своим делом (делом
художника), а часами высиживать на заседаниях, тратить дра
гоценное время на бесконечные, часто пустые словопрения,
писать рецензии, редактировать горы рукописей, тонуть в прото
колах и ведомственной переписке.
Вот характерный след такого раздражения в неизданном
письме его к Н. А. Нолле от 3 января 1919 года: «Пускай человека
отрывают от его любимого дела, для которого оп существует
(в данном случае меня – от писания того, что я, может быть,
мог бы еще написать), но жестоко при этом напоминать чело¬
веку, чем он был, и говорить ему: «Ты – поэт», когда ты пре
вращен в протоколиста...» Насколько это было для Блока серьез
но, видно из другого его письма к той же Н. А. Нолле (от 5 фев
раля 1919 г): «Все время приходится жить внешним, что посте¬
пенно притупляет и делает нечувствительным к величию эпохи
и недостойным ее».
26
Горькие слова! Именно потому, что он прекрасно понимал
и всем сердцем чувствовал величие эпохи, Блок не хотел и не
умел «жить внешним». И то, что ему пришлось пойти на это,
служило постоянным источником терзавших его сомнений и
страданий. Его душевная усталость и раздражение приобретали
иной раз обостренный характер – и тогда он признавался, что
«живет со сцепленными зубами», испытывает какой-то «гнет»,
который мешает ему писать.
Об этом упоминает, в частности, А. М. Ремизов в своих
правдивых и отлично написанных воспоминаниях. Умница Реми¬
зов верно истолковал сорвавшееся с языка блоковское призна¬
ние: «И как писать? После той музыки? С вспыхнувшим и уга¬
сающим сердцем? Ведь чтобы сказать что-то, написать, надо со
всем железом духа и сердца принять этот «гнет» – Россию, та
кую Россию, какая она есть сейчас... русскую жизнь со всем
дубоножием, шкурой, потрохом, ором и матом, а также – с вели
ким железным сердцем и безусловной простотой, русскую
жизнь – и ее единственную огневую жажду воли».
На Блока не оказывали ни малейшего воздействия ни лич
ные невзгоды и бытовые лишения, ни вынужденная суровость
пролетарской диктатуры, ни ничем не оправданные уколы и
обиды, которые порой приходилось ему терпеть от всякого рода
злоупотребляющих властью «калифов на ч а с » , – он был челове
ком душевно стойким и физически выносливым и, обращаясь
к товарищам по работе, неизменно старался вдохнуть в них
силу, надежду и веру, звал их «не биться беспомощно на по
верхности жизни, где столько пестрого, бестолкового и темного»,
но «прислушиваться к самому сердцу жизни, где бьется – пусть
трудное, но стихийное, великое и живое» (VI, 437).
Нет, все дело в том, что так ярко вспыхнувшее сердце
Блока действительно стало угасать. Его необъятная вера в буду
щее в значительной мере разошлась с доверием к настоящему,
потому что революция совершенно неожиданно для поэта по
вернулась к нему не предугаданной им стороной. В этом и был
источник постигшей его тяжелой личной трагедии.
До самого конца Блок хранил неколебимую верность тому
необыкновенному и великому, что посетило его и подняло
на самый гребень волны в огне и буре Октября. Доказывая, что
«изменить самому себе художник никак не может, даже если
бы он этого хотел» (VI, 89), Блок не мог изменить своему
кровью сердца купленному пониманию революции как сжигаю
щей стихии, призванной разом испепелить старый мир, не мог
изменить своей выношенной в душевных страданиях вере, что
«будет совершенно новая жизнь».
27

Но его уверенность в том, что в стихии как будто уже раз
горевшегося «мирового пожара» вот-вот должно свершиться
чудо мгновенного, всеобщего и необратимого преображения жиз
ни – претерпела серьезнейшие испытания. Он ждал чуда, а в дей
ствительности новое еще было тесно переплетено со старым, да
и само по себе это еще только возникавшее, еще не отливше
еся в твердые формы новое подчас оказывалось не таким,
о каком он думал, какого ждал.
О такого рода трагедиях, происходящих на почве романти
чески-максималистского представления о революции, жесткие,
предостерегающие слова сказал Ленин: «Для настоящего револю
ционера самой большой опасностью, – может быть, даже един
ственной опасностью, – является преувеличение революционно
сти, забвение граней и условий уместного и успешного примене
ния революционных приемов. Настоящие революционеры на
этом больше всего ломали себе шею. когда начинали писать
«революцию» с большой буквы, возводить «революцию» в нечто
почти божественное, терять голову, терять способность самым
хладнокровным и трезвым образом соображать, взвешивать,
проверять... Настоящие революционеры погибнут (в смысле не
внешнего поражения, а внутреннего провала их дела) лишь
в том с л у ч а е , – но погибнут наверняка в том с л у ч а е , – если поте
ряют трезвость и вздумают, будто «великая, победоносная, ми
ровая» революция обязательно все и всякие задачи при всяких
обстоятельствах во всех областях действия может и должна
решать по-революционному» 1.
Если такая опасность стояла перед «настоящими револю
ционерами», то что же говорить о поэте-романтике, плененном от
крывшейся его воображению картиной очистительного «миро
вого пожара»...
Больше всего тревожила и угнетала Блока с крайней остро
той ощущавшаяся им инерция прошлого – уже отжившего,
но дотла еще не сгоревшего и, несмотря ни на что, все еще «тя
нувшего на старое», отравлявшего освеженный революцией воз
дух дыханием распада и гниения. Даже отдельные незначитель
ные факты, события, просто случайные происшествия разраста
лись в переживании Блока до размеров гомерических. «А ужас
старого мира налезает...» – вот лейтмотив его тревожных наблю
дений и размышлений.
Это болезненное ощущение распространялось с частностей
и на общее. Крепка была в Блоке бакунинская закваска, и за
ветную цель революции видел он, между прочим, в ликвидации
1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 44, с. 223.
28

государства и всех его институтов – правовых, охранительных,
духовно-нравственных, религиозных.
Между тем пролетариат в огне революционных битв,
в сплошном вражеском окружении, уже приступил к построению
своего государства, теория которого была глубоко обоснована
В. И. Лениным. Блок природы этой новой государственности не
постигал. Ему казалось, что в новых формах готовы восторжест
вовать все те же «устаревшие средства» изжившей себя «власти
государства», которая воплощалась для него только в образе сверг
нутого политического строя со всем его веками отработанным
аппаратом административного принуждения и духовного гнета.
И он, случалось, болезненно воспринимал усилия новой госу
дарственности в ее зачаточных, первоначальных и переходных
формах как своего рода инерцию ненавистного прошлого, как
проявление силы, объективно противостоящей духовным устрем
лениям, воле и совести «освобожденного человека». А тем
самым – как «замедление» безудержного полета революции и да
же как «измену» духу обретенной свободы.
Вот он – тот самый архиреволюционный максимализм, но
желавший считаться с реальными обстоятельствами и возможно
стями, не вникавший в сложнейшую стратегию и тактику рево
люции. Роковое заблуждение, свойственное всем художникам
романтического склада, влюбленным в революцию как в свер
шившееся чудо и стремившихся упредить события в условиях
нового, только складывавшегося правопорядка.
Но Блок ничему не «изменил» и ни от чего не «отрекся», —
как бы ни старались доказывать это его явные и тайные враги.
«Случайное и временное никогда не может разочаровать насто
ящего художника», – утверждал Блок (VI, 23). Он до конца
безоговорочно считал «Двенадцать» лучшим своим произведением,
вершиной своего пути. И создать свой шедевр он смог потому,
что «жил тогда современностью» (об этом – в воспоминаниях
Г. П. Блока).
Кривотолки, которые поэма вызвала в литературной среде
и в печати, побудили Блока 1 апреля 1920 года составить спе¬
циальную записку о «Двенадцати». Здесь читаем: «Недавно я го¬
ворил одному из тогдашних врагов, едва ли и теперь простив¬
шему мне мою деятельность того времени, что я хотя и не мог
бы написать теперь того, что писал тогда, не отрекаюсь ни
в чем от писаний того года» 1.
Не мог бы написать – потому что уже не живет так все
цело современностью, как жил тогда. Но и не отрекается —
1 А л е к с а н д р Б л о к . Собр. соч., т. V. Л., 1933, с. 183.
29

потому что ни от чего не отказался. А годом позже, когда ка
кой-то «вития» из Дома литераторов, прослушав речь Блока
«О назначении поэта», которую кое-кто по недомыслию решил
счесть «покаянием», сочувственно сказал ему: «Какой вы шаг
сделали после «Двенадцати», Александр Александрович!» – тот
ответил ему «ровно и строго»: «Никакого. Я сейчас думаю так
же, как думал, когда писал «Двенадцать» (об этом – в воспоми
наниях К. Федина).
Так поэт, покуда был жив, как мог, оборонялся от лжи и
клеветы. Седьмое августа 1921 года положило конец этой само
обороне.
Смерть Блока не только была очень заметным событием
общественной жизни, но и сама стала фактом идейно-литератур-
ной борьбы. Сразу хлынул поток некрологов, статей, воспомина
ний. И само собой понятно, никто из писавших о Блоке (за
редчайшими разве исключениями) не мог обойти вопроса об его
общественно-политической позиции в октябре 1917 года и в по
следующее время. Тут-то вовсю и развернулась шумная клевет
ническая кампания, единственная цель которой заключалась в
том, чтобы оторвать Блока от Октябрьской революции и Совет
ской России.
На эту тему упражнялись в советских (формально говоря)
изданиях, но, конечно, осторожно, пользуясь больше языком на
меков: «Новый мир вызвал у Блока чувство неизъяснимой тоски
в скуки... Он понял, что те – двенадцать – жестоко обманули
его... Эстет и аристократ, он брезгливо отвернулся от прозы
истории» 1. Что ни слово, то беспардонное вранье!
Зато в белоэмигрантской прессе о случайности прихода Бло
ка к Октябрьской революции, об его «разочаровании», «отрече
нии», «отчаяньи» и «покаянии» орали уже во всю глотку.
Не только желтые газетные борзописцы, но и именитые литера
торы (вроде сбежавшего из Петрограда Александра Амфитеат
рова) из самой смерти поэта стремились извлечь свою подлую
выгоду. Из газеты в газету кочевали дикие небылицы, вроде
того, что Блок в последнее время «ходил без рубашки», что
умер он от «голодной цинги» (по другой версии – от «голодного
истощения»), что перед смертью он «закопал в землю какие-то
рукописи, спасая их от Чека», и, наконец, что ему в порядке
исключения «дали право на отдельный гроб».
Опытные белоэмигрантские журналисты без зазрения совести
выдавали старые стихи Блока, известные всей читающей России
1 П. Г у б е р . Поэт и р е в о л ю ц и я . – «Летопись Дома литерато
ров», 1921, № 1.
30

(в их числе были «Русь моя, жизнь моя...» и «Грешить бесстыд¬
но...»), за «последние», «посмертные», якобы найденные в бума¬
гах поэта и воочию свидетельствующие об его разуверении
в революции.
Широкое распространение получил высосанный из грязного
пальца слух, будто, умирая, Блок не только «проклинал себя»
за «Двенадцать» 1, но и требовал на глазах у него сжечь все
экземпляры поэмы. (Между тем уже на смертном одре Блок
успел с интересом перелистать новое издание «Двенадцати».)
Версия о разуверении Блока в революции проникла и
в мемуарную литературу о нем. Некоторые воспоминания, цен
ные своим фактическим содержанием, нужно принимать с серьез
ными поправками, учитывая идейно-политическое расхождение
мемуариста с поэтом.
Таковы, например, воспоминания В. Пяста. В течение мно
гих лет он был одним из самых близких Блоку людей следо
вал за ним, как спутник за планетой, был целиком обязан ему
своим положением в литературе. И он же больше всех кичил
ся тем, что после «Двенадцати» перестал подавать ему руку.
Впрочем, это не помешало Пясту одним из первых выступить о
«дружескими воспоминаниями», в которых он тщился убедить
читателя, будто «Двенадцать» были написаны потому, что «демон
извращенности зашевелился в поэте» и «мара заволокла его очи».
Другой бывший друг – Г. Чулков, который после «Двена
дцати» строго осудил Блока как «безответственного лирика», не
имевшего, дескать, ни малейшего представления о том, что такое
революция, в своих воспоминаниях о нем принял самонадеянно-
учительный тон и задним числом всерьез уверял, что это именно
ему, Чулкову, выпало на долю «учить Блока слушать рево
люцию».
Эхо политической борьбы, происходившей в стране в первые
годы после Октября, звучит не только в открыто контрреволю
ционных воспоминаниях З. Гиппиус, полных злостной и злобной
клеветы на Блока, но и в написанных внешним образом с самым
сочувственным отношением заметках Иванова-Разумника. Он то
же «боролся за Блока», но уже с левоэсеровских позиций.
Напомним, что в 1917 и в начале 1918 года, до заключения
Брестского мира, левые эсеры сотрудничали с Советской
в л а с т ь ю , – поэтому для З. Гиппиус, например, Иванов-Разумник
был отъявленным врагом, «алым демоном» Блока, увлекавшим
его в большевизм.
1 Об этом писали даже в легальной советской п р е с с е . —
см.: «Вестник литературы», 1921, № 8, с. 9.
31

Между тем, как известно, именно в левоэсеровском кругу
родилась и всячески раздувалась версия о «гибели» револю
ции после Бреста, и Иванов-Разумник, спекулируя на тревогах
и сомнениях Блока, обостренно переживавшего то, что казалось ему
«замедлением» революционного процесса, особенно настойчиво, мож
но сказать, с какой-то одержимостью твердил об окончательном и
бесповоротном разочаровании поэта в Октябрьской революции.
Неверные ноты порой звучат приглушенно и в самых дру
жественных по тону и намереньям воспоминаниях. Вот, напри
мер, Сергей Городецкий, сам отличавшийся крайней неустойчи
востью и переменчивостью своих взглядов, тем не менее, рас
суждая о последних годах Блока, впал в неприятный развязно-
покровительственный тон и пришел к совершенно необоснован
ным, просто вздорным выводам, будто Блок «дендировал (!) ре
волюцию вместе с ненавистным ему Гумилевым» и вообще
«остался на перепутьи».
И даже у влюбленного в Блока В. Зоргенфрея исподволь
внушается читателю мысль, будто революция погубила в нем
художника. И это было сказано о поэте, который в Октябре пе
режил такой высокий творческий взлет, какой в редчайших слу
чаях выпадает на долю х у д о ж н и к а , – о поэте, который сам,
при всей своей скромности, записал в день, когда кончил «Две
надцать»: «Сегодня я – гений».
В. Зоргенфрей – мемуарист правдивый и точный. Не прихо
дится подозревать его в намерении приписать Блоку мысли и
суждения, которых тот но высказывал. Суть дела в истолкова
нии мыслей и суждений, действительно высказанных. Когда
Зоргенфрей вспоминает, что Блок в разговорах о происходящем
не обходил того «страшного» и «черного», что но могло не сопут
ствовать грандиозному социальному катаклизму, он говорит
правду. Но уровень и мера понимания событий были у собесед
ников разными. Зоргенфрей сам характеризует свои тогдашние
настроения как «сетования обывательского свойства».
Блок же с высоты своего понимания происходящего на вся
кого рода вопли об «эксцессах» революции отвечал, что худож