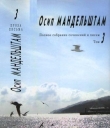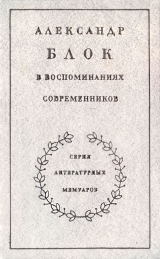
Текст книги "Александр Блок в воспоминаниях современников. Том 1"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
197
сейчас не знаю почерка красивее, чем у Александра
Блока.
Но подкупала, конечно, и тема. Точно воскресала поэ
зия Владимира Соловьева – ее последние, лучистые оза
рения. Это казалось прямо каким-то чудом: только два
года перед тем замолчала муза мыслителя-ясновидца, и
вот вдруг ее звуки переходят на новую л и р у , – кто-то
пришел как прямой и законный наследник отозванного
певца; он уже все знает и ведает, и ведет дальше
оборвавшуюся песнь, как заранее знакомое слово о том
же самом.
Я и теперь считаю «Стихи о Прекрасной Даме» са
мым чудесным из чудес Блока и его дебют – самым уди
вительным началом...
С той поры я почувствовал ту особую нить, которая
протянулась между мною и автором этих стихов, и он
стал для меня особым, « з н а ю щ и м » , – тем, с кем внут
ренне не расстанешься. И теперь, перечитывая его пись
ма ко мне, я нахожу в них и «с той стороны» ощуще
ние той же нити...
Скоро он пришел к нам и в редакцию – высокий, стат
ный юноша с вьющимися белокурыми волосами, с круп
ными, твердыми чертами лица и с каким-то странным
налетом старообразности на все-таки красивом лице.
Было в нем что-то отдаленно байроническое, хотя он ни
сколько не рисовался. Скорее это было какое-то неясное
и невольное сходство. Светлые, выпуклые глаза смотре
ли уверенно и мудро... Синий студенческий воротник
подчеркивал эту вневременную мудрость и странно огра
ничивал ее преждевременные права. Блок держался как
« н а ч и н а ю щ и й » , – он был застенчив перед Мережковским,
иногда огорчался его небрежностью, пасовал перед таким
авторитетом. З. Н. Гиппиус была для него гораздо бли
же, и юношеская робость таяла в ее сотовариществе, —
он скоро стал носить ей свои стихи и литературно бесе
довать. Влияние Мережковских надолго сказалось на
Блоке: еще в самом конце девятисотых годов он вы
ступал не раз в религиозно-философских кружках с до
кладами на темы и в духе этого влияния; к счастью, его
поэзия осталась, кажется, совсем свободной от него.
На редакционных собраниях «Нового пути» Блок
появлялся довольно аккуратно, хотя отсутствие сверст
н и к о в , – по крайней мере, первое в р е м я , – замыкало его
198

в некоторую изолированность. Но журнал был для него
«своим» – и не мог не быть ему близок 6.
В эти первые месяцы знакомства – в недели подгото
вительных для начала журнала работ – я получил от
Блока первое письмо. Оно сразу и прямо сказало мне
то, о чем молчал (и должен был молчать) он при сви
даниях. В этом письме ощутительно протянулась та
«нить», и желание «сказать» превозмогло мудрость хра
нения:
Многоуважаемый Петр Петрович.
Спасибо Вам. Ваше письмо придало мне бодрости ду
ха 7. Главное же, что мне особенно и несказанно доро
г о , – это то, что я воочию вижу нового Ее служителя;
и не так уже жутко стоять у алтаря, в преддверии гря
дущего откровения, когда впереди стоите Вы и Владимир
Соловьев. Я могу только сказать (или даже вскрикнуть)
чужими, великими, бесконечно дорогими мне словами:
Давно уж ждал друзей я этих песен...
О, как мой день сегодняшний чудесен! 8
Глубоко преданный Вам
Ал. Блок.
5 ноября 1902 г.
СПБ.
Петербургская сторона, Гренадерские казармы, кв. № 13.
Цитата из Фета, замыкающая письмо, указывает
поэтические корни Блока. Фет был для него действитель
но всегда дорогим именем, и он досадовал на ту забыв
чивость, с которой русский читатель уже успел отойти
от этого имени после несколько холодного «признания»
в эпоху восстановления прав поэзии в 80—90-е годы.
Но не лежит ли часть вины здесь и на самом Фете: не
был ли в чем-то холоден и сам учитель, не договари
вавший того, о чем договорил ученик?
2
В «Новом пути» после первого, дебютного номера.
(январь 1903 года) было решено применять систему пе
чатания стихов по авторам: то есть в каждой книжке
199

помещать одного какого-либо поэта в ряде пьес, напе
чатанных вместе, взамен традиционной системы – рас
сыпать разнохарактерные «вещицы» различных авторов
по всей книжке журнала, «на затычку». Нехитрая
реформа, но тогда и это было новшеством. Так, февраль¬
ская книжка была отдана Сологубу, а март предназна
чался для З. Н. Гиппиус. Но она сама пожелала усту
пить этот месяц Блоку; март казался самым естествен
ным, даже необходимым месяцем для его дебюта: март —
месяц Благовещенья. Со стороны молодого журнала была
некоторая отвага в таком решении: выдвигать уже в
третьей книжке дебютанта, о котором заранее можно было
сказать, что «широкая публика» (публика 1903 года!) не
примет его как своего певца. В «портфеле» редакции, то
есть в ящиках письменного стола, лежали стихи Мин
ского, Мережковского и такого общеприемлемого для всех
времен (хотя прекрасного) поэта, как Фофанов. Но хо
телось «пустить» Блока – и именно в марте... «Букет»
его стихов составился легко и был подобран самим авто
ром 9. <...>
«Новый путь», как журнал религиозно-светский, был
подчинен целым двум цензурам – светской и духовной,
в которую направлялись корректуры религиозного или
«похожего» на то (по мнению светского цензора) содер
жания. Большие буквы стихов Блока подчеркнуто гово
рили о некоей Прекрасной Даме – о чем-то, о к о м – т о , —
как понять о ком?
Белая Ты, в глубинах не смутима,
В жизни – строга и гневна.
Тайно тревожна и тайно любима,
Дева, Заря, Купина.
Непостижного света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета.
Вижу очи Твои.
От таких стихов не только наш старомодный и угрю
мо подозрительный «черносотенец» Савенков (светский
цензор журнала, очень к нему придиравшийся) мог
впасть в раздумье... Стихи с большими буквами могли
легко угодить в духовную цензуру, и хотя она в общем
была мягче светской, но в данном случае и она могла
смутиться: менестрелей Прекрасной Дамы не знают рус
ские требники. И без того, отправляя стихи в цензуру,
мы трепетали вероятного – минутами казалось: неизбеж-
200
ного – запрещения. Большие буквы... ах, эти большие
буквы! – именно они-то и выдавали, как казалось, ав
тора с головой. «Не пропустят»... И тут вдруг кому-то в
редакции мелькнула гениальная мысль: по цензурным
правилам, нельзя менять текста после «пропуска» и подпи
си цензора, но ничего не сказано о чисто корректур
ных, почти орфографических поправках, как, например,
перемена маленьких букв на большие. Итак – почему
бы не послать стихи Блока в цензуру в наборе, где не
будет ни одной большой буквы, а по возвращении из
чистилища, когда разрешительная подпись будет уже на
своем месте, почему бы не восстановить все большие
буквы на тех местах, где им полагается быть по ру
кописи? Так и было сделано – и, вероятно, эта уловка
спасла дебют Блока: цензор вернул стихи без единой по
марки и не заикнулся о духовной цензуре, хотя при
встрече выразил мне недоумение: «Странные стихи...»
Но ведь странными должны были они показаться далеко
не одному благонамеренному старцу Савенкову.
Мартовская книжка – лучшая книжка журнала за
оба года его существования (в ней, между прочим, жур
нальный дебют А. М. Ремизова) – вышла из двойных
кавдинских ущелий цензуры только в самом конце ме
сяца. В «Новом пути» помещались цинкографические
снимки, подбором которых имелось в виду натолкнуть
читателя на более культурные предпочтения, чем те, к
каким он традиционно привык в 1903 году. Давались
обыкновенно воспроизведения картин Ренессанса и т. п.
Для марта мы решили подобрать своего рода художест
венный антураж к стихам Блока и поместили в листе его
стихов четыре «Благовещенья» – Леонардо из Уффиций,
деталь – голову Марии с той же картины, фреску Беато
Анжелико из флорентийского монастыря св. Марка и
алтарный образ нашего Нестерова из придела в Киевском
соборе. Блоку была приятна эта иллюстрация, и он го
рячо благодарил меня за нее. Журнал и он уже вполне
знали друг друга.
Какое было впечатление от появления первых стихов
Блока? Разумеется, как и следовало ожидать, впечатле
ние едва ли не самого «курьезного» из курьезов курьез
нейшего журнала. «Новый путь» считался вообще какой-
то копилкой курьезов в нашей журналистике. Только
духовные круги серьезно интересовались религиозно-фило
софской стороной журнала, да из среды молодежи посто-
201


янно приходили сочувственные весточки; все «серьезное»
и веское или игнорировало «этих полусумасшедших»,
или старалось их литературно изолировать, как заражен
ный элемент (эти старания в конце концов подрезали
журнал). Стихи Блока были прямо на руку этим спаса
телям: какие-то «совершенно непонятные» стихи, бог
весть о ч е м , – какая-то Дева, Заря, Купина, какой-то
Дух... большие буквы...
Признаюсь, никоим образом не ожидал я тогда, что
пройдет всего четыре-пять лет – и Блок, после «Балаган
чика», станет популярным, а там вскоре и «знамени
тостью». Популярность его в молодежи стала обозна
чаться еще раньше. Но правда, что «Балаганчик», так
же как и вся социальная сторона Блока наметились и
развернулись уже позже; в эпоху «Прекрасной Дамы»
даже трудно было их предвидеть. И я продолжаю ду
мать, я надеюсь, что стихи его дебюта, так же как
и все стихи его первой книжки, остаются и до сих пор
мало популярными...
Характерно, что во всей огромной переписке со мной
Брюсова тех годов (1902—1904 гг.) я встречаю только
одну строчку о Блоке – и какую? «Блока з н а ю , – пишет
он осенью 1902 г о д а , – он из мира Соловьевых. Он – не
поэт». Правда, что вскоре, при личном свидании, по про
чтении стихотворений «Я, отрок, зажигаю свечи...» и
«Когда святого забвения...», этот краткий и столь без
апелляционный приговор был взят обратно. А весной
1903 года, когда мы с Брюсовым ехали вместе из Петер
бурга в Москву, вскоре после мартовской книжки, у не
го сложились ночью, под стук поезда, эти превосходные
стихи (карандашная запись которых до сих пор хранит
ся у меня):
Они Ее видят! Они Ее слышат!
С Невестой Жених в озаренном дворце...
Железные болты сорвать бы! сломать бы!..
(Напечатано в сборнике «Urbi et Orbi» под заглавием:
«Младшим» 10).
Следующая серия стихов Блока была напечатана уже
в 1904 году, в июньской книжке – последней, редактиро
ванной мною. Всего было подобрано двенадцать стихотво
рений, но три из них зачеркнуты цензурой, и в печати
появилось только девять 11. <...>
202
Я не помню в тогдашней критике сколько-нибудь яр
ких отзывов о дебютных стихах Блока. Впрочем, кому
было бы и написать такой отзыв? Скабичевскому? Ми
хайловскому? М. Протопопову? А. Б. (Ангелу Богдано
вичу) из «Мира божьего»? «На первых ролях» были
тогда все вышеупомянутые «силы». В беглом же газет
ном обстреле, которому постоянно подвергался «Новый
путь», летела, вероятно, шрапнель и на этот вновь наме
тившийся «квадрат» 12. Стихи Блока ведь еще несколько
лет потом пугали газетных ценителей – так же как
после 1907 года стали умилять их... В не лишенных
остроумия пародийных фельетонах Буренина того вре
мени появлялся, во всяком случае, в нашей «новопутей-
ской» компании поэт Блох вместе с философом Мисти
цизмом Мистицизмовичем Миквой (Вас. Вас. Розанов).


АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ БЛОКЕ
I
ЭПОХА ДО ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ
Воспоминания об А. А. Блоке далеко простираются
вспять, предваряя годы знакомства. Первую весть о бы
тии А. А. я имею от C. М. Соловьева * в 1898, не то в
1897 году. Я узнаю, что родственник С. М. Соловьева,
тогда еще мальчик, Саша Блок, гимназист, пишет, как
все мы, стихи и увлекается театром. В те годы я, тоже
гимназист, был ласково принят в гостеприимном доме
покойного М. С. Соловьева, брата Влад. Соловьева. Свое
образные отношения складывались тогда между мной и
семьей Соловьевых. Я, юноша шестнадцати – семнадцати
лот, дружил и с мальчиком Сережей, и с его родителями —
С. М. и О. М. Соловьевыми. О. М., художница и пере
водчица, чуткой душой соединяла интересы к искусству
с интересами религиозно-философскими, тогда столь не
модными. Она любила английских прерафаэлитов, Фета,
тогда начинающего Бальмонта, переводила Рескина,
выписывала журнал «Студио», восхищалась стихотворе
ниями Верлена и драмами Метерлинка. Она же и позна
комила меня с поэзией Верлена и Уайльда, Бодлера и с
Ницше. М. С. Соловьев относился сдержаннее к этим
веяниям в искусстве, высоко ценя классиков и прозорли
во выделяя все, действительно ищущее и талантливое.
Среди московских эстетов уходящего поколения он счи
тался арбитром, не разделяя насмешек их по адресу к
едва пробивающимся течениям иных доктрин. Он первый
отметил Брюсова эпохи «Шедевров», как поэта с круп-
* Поэта, филолога, критика, ныне священника. ( Примеч. А. Бе
лого. )
204
ным будущим, шутил над негодующими критиками дека
дентства. Всем этим он влиял на меня, поощряя мои
юные революционные устремления в литературе, но при
учая и воспитывая мой вкус в любви к классикам.
Помню его мастерское чтение «Фритиофа» Тегнера, его
любовь к северным фосфористам. В те годы я увлекался
и Достоевским, и Ибсеном, и Шиллером, и Шекспиром.
В тесном кругу соловьевского дома за чайным столом
шла беседа: спорили об Ибсене, Ницше. Мы с Сережей
тогда увлекались театром и в небольшой квартире Со
ловьевых наскоро импровизировали отрывки из Шекспи
ра и Шиллера. Так, были в коридоре разыграны сцены
из «Макбета», «Мессинской невесты», «Двух миров»
М а й к о в а , – мы покушались и на «Орлеанскую деву».
Мать А. А. Блока, А. А. Кублицкая-Пиоттух (по вто
рому браку), урожденная Бекетова, была дочерью тетки
О. М. Соловьевой, урожденной Коваленской. Мать
О. М. Соловьевой – А. Г. К о в а л е н с к а я , – была в свое
время известной детской писательницей. Уже в те вре
мена я знал: неизвестный мне Саша Блок, проживающий
зимами в Петербурге, проводит лета неподалеку от Де
дова, имения А. Г. Коваленской, и бывает в Дедове, при
езжая из Шахматова, имения матери, находящегося в
живописнейшей местности по Николаевской жел. дороге,
в восемнадцати верстах от ст. Подсолнечная смежной с
Крюковом, около которого расположилось Дедово.
С 1898 года, веснами, я посещал Дедово. Помнится,
я слыхал рассказы обитательницы Дедова, кажется
М. В. Коваленской, о сильном впечатлении, которое на
ней оставил недавно тут гостивший А. А. Блок, который
был тогда гимназистом, преисполненным интереса к теат
ру: монологи из «Гамлета» декламировал ей наизусть
он. Так первая память об А. А. настигает меня. Позд
нее уже имя Блока иначе встречает меня с лета
1901 года.
Чтобы понять тонусы нашей встречи, нужно охарак
теризовать веяния, пронесшиеся над некоторыми из нас
в 1900—1901 годах. Для многих наступление нового века
совпало с решительным переломом в идеологии. С 1900 го
да в поколении, выступившем вскоре под знаменем сим
волизма, впервые обозначились грани их символического
пути и грани, резко их отделяющие от веяния эсте
тизма и декадентства, перекликавшихся с пессимистиче
ской философией Шопенгауэра и Гартмана и с скептиче-
205
ским иллюзионизмом Бодлера. Культ безвольного созер
цания, культ покоя, уничтожения, одинаково окрашивал,
казалось бы, несоизмеримые сферы культуры. Молодой
Бальмонт упивался лирикой туманов, кувшинок и ка
мышей, утонченники увлекались нежностью драмочек
Метерлинка, в «Вопросах психологии и философии»
появилась статья Гилярова «Предсмертные мысли Фран
ции», на картинных выставках тенденциозный жанр сме
нился культом безыдейного пейзажа: появились бледные
девы с кувшинками за ушами. Идеология этого, сказал бы
я, серо-синего цвета – идеология сна. Идеология сна
переживалась сгустками душевного пара в космической
бездне. Спорили и народники и марксисты, но револю
ционеры в искусстве те споры считали мышиной суетней
жизни. Я был шопенгауэрцем, принимал эстетику Рески-
на, упивался «вечным покоем» 1, читал речи Будды.
Эстетизм как созерцание, как форма освобождения от
воли был следствием философии умирающего столетия, и
оттого звучал Фет, этот выразитель настроения Ведан-
ды 2 в русской природе. Все было тихо. Шептались
в уголках метерлинковские тени, да плакал под север
ным небом 3 Бальмонт. Изредка лишь докатывался до
нас лавинный грохот ибсеновских драм, да звучали ис
ступленные диалоги лирики Достоевского как намек на
тревожное будущее. Плоскость пессимистической эсте
тики незаметно здесь выявила свое третье трагическое
измерение, и оно прозвучало вдруг «Происхождением
трагедии» Ницше. Вдруг все изменилось.
Пессимизм переродился в трагизм. Безмирное пересек
лось с мирным, безвременное с временным. Появляется
крест, символ пересечения, и с ним трагедия креста, раз
решающаяся то в бунт, то в жертву. В бунте и в жертве
пассивность преодолевается активностью огней и крови.
Бальмонт творит горящие здания, переходя от северной
тишины к «будем как солнце» 4. Бунт горьковских бося
ков находит наиболее широкий отклик: он делается бо
лее модным, чем неврастения «Ивановых» и «Чаек».
Ницше охватывает передовые слои русской молодежи
лозунгом, что «время сократического человека прошло»,
выходят сочинения Влад. Соловьева, влекущие первый
интерес к религиозно-философским путям. Вечное появ
ляется в линии времени зарей восходящего века. Туманы
тоски вдруг разорваны красными зорями совершенно
новых дней. Мережковский начинает писать исследования
206
о Толстом и Достоевском, где высказывает мысль о том,
что перерождается самый душевный состав человека и
что нашему – именно – поколению предстоит выбор
пути между возрождением и смертью. Лозунг его: «или
мы, или никто» – становится лозунгом некоторых из
молодежи, перекликаясь с древними пророчествами
Агриппы Неттесгеймского 5 и «Книги блесков» 6 о зна
чительности 1900 года, как перелома эпохи. И мы эти
лозунги сливаем с грезами Соловьева о Третьем Завете 7,
Царстве Духа. Срыв старых путей переживается Концом
Мира, весть о новой эпохе – Вторым Пришествием. Нам
чуется апокалипсический 8 ритм времени. К Началу мы
устремляемся сквозь Конец.
Чувство конца, рубежа между сознанием декадентов
девяностых годов и сознанием молодых символистов
XX века, физиологичность, конкретность восприятия зорь,
факт свечения и неожиданность этого факта, а также
недоумение и трудность понять причину зорь – вот что
сосредоточивает наше внимание 9. Многие восприняли
наступление нового века не эволюцией мировоззрений, а
фактом явления в них новых органов восприятия време
ни. Мировоззрительные объяснения символистов, психо
логические, логические, мистические, социологические и
религиозные носили характер случайных и неудачных
гипотез. Факт чувства зорь оставался. Отсюда их пыл
и уверенность, победившая сократиков и декадентов.
Появляются вдруг видящие зорю и не видящие. Видя
щих было мало. Они чувствовали друг друга издалека,
образуя собой никем не установленное братство ведаю
щих о великом событии близкого времени, о драматиче
ской борьбе света и тьмы. Они могли быть атеистами
или теистами, архистами, монархистами или анархиста
ми, но они знали, что увидели нечто, чего другие не
видят. Во-первых, в эти годы образовался в Москве кру
жок, сгруппированный около покойного М. С. Соловьева,
членов которого соединял звук грядущей эпохи, расслы
шанный внятно, но объясняемый по-разному: так, одна
музыкальная тема допускает вариации красками, звука
ми, мыслями. В этом маленьком кружке находились
люди разных бытов и возрастов, разных идеологий: уче
ный марксист, будущий символист Эллис 10 встречался
с М. С. Соловьевым, определенно православно настроен
ным, будущий музыкальный критик Вольфинг встречался
с консерватором, поклонником Страхова, К. Леонтьева,
207
Говорухо-Отроком, Розановым, тогда мало известным. Но
вое, связующее нас как бы в одну семью, не имело касания
с прошлым, из которого приподнимались по-разному мы.
В заметке А. А., найденной после кончины его, встре
чается одно характерное место: «В январе 1918 года я в
последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в
январе 1907 или в марте 1914 года. Оттого я и не отре
каюсь от написанного тогда, что оно было написано
в согласии со стихией. Например, во время и после
окончания «Двенадцати» я несколько раз ощущал физи
ческим слухом большой шум вокруг, шум слитный, ве
роятно, шум от крушения старого мира» 11. В 1900—
1901 годах, особенно в 1901-м, мы, молодежь тогдашнего
времени, слышали нечто подобное шуму и видели
нечто подобное свету. Мы отдавались конкретно стихни
грядущих годин, и эта отдача наша – не мечта; она бы
ла реальным ощущением свершившегося факта. Именно
в 1899—1900 годах и в моем миросозерцательном облике
произошла перемена: философия созерцания сменилась
исканиями религиозного порядка. От Шопенгауэра я шел
в одном направлении к трагическому мировоззрению
Ницше, с другой стороны, через Гартмана, к Владимиру
Соловьеву, с которым имел случай встретиться, в быт
ность его в Москве, все в той же гостеприимной кварти
ре М. С. Соловьева. Влад. Соловьев в ту пору переживал
перелом от христианского морального квиетизма «Оправ
дания добра» к пророческим «Трем разговорам». Весною
1900 года я вел с ним разговор, оказавший на меня ре
шительное влияние: с этого времени я жил чувством
Конца, а также ощущением благодати новой последней
эпохи благовествующего христианства. Символ «Жены,
облеченной в Солнце» 12 стал для некоторых символом
Благой Вести о новой эре, соединением земли и неба.
Он стал символом символистов, разоблачением Существа,
Премудрости, или Софии, которую некоторые из нас
отождествляли с восходящей зарей. В те времена, как
Э. К. Метнер, брат композитора, прослеживал тему слы
шимых веяний, от Бетховена через Шумана, в темах ге
ниального своего брата, которые тот, по его словам, вы
нул из звука зорь, в то время, как З. Н. Гиппиус соби
рала материал для замечательного рассказа «Небесные
слова» 13, где дана градация небесных пейзажей, мы,
молодежь, сгруппированная вокруг М. С. Соловьева,
отыскивали следы лучезарных благовестей в пейзаж-
208

ной поэзии Влад. Соловьева и старались связать эту
поэзию с религиозной символикой философского соловьев-
ства. Это был максималистический вывод к жизненной
практике из философии Соловьева, которого побаивались
академические ученики покойного философа. Философию
Соловьева мы брали в аспекте его теургического 14 ло
зунга:
Знайте же: вечная женственность ныне
В теле нетленном на землю идет,
В свете немеркнущем новой богини
Небо слилося с пучиною вод...
«Она», или Муза поэзии Соловьева, на нашем жарго
не являлась символом органического начала жизни, ду
шою мира, долженствующей соединиться со словом
Христа. Из всех сочинений Влад. Соловьева статья его
«О смысле любви», напечатанная в «Вопросах психологии
и философии», являлась наиболее объясняющей нам нас
в нашем юном искании осветить не одним только муж
ским логическим началом жизнь, но и женственным на
чалом человечества. Она, или Душа человечества, отобра
жалась нам образно женщиной, религиозно осмысливаю
щей любовь. Мы, молодежь соловьевского толка, пред
ставляли собой лишь малую часть людей нового созна
ния, ощутивших физиологически факт з а р и , – соловьевст-
во же наше было жаргоном, гипотезой оформления, а
не догмою; но встреча нас, подлинных соловьевцев, друг
с другом – казалась волнующим событием жизни.
В июле 1900 года скончался Владимир Соловьев. Мне,
близко стоящему к семейству покойного и посвященному
во все интимные устремления покойного философа,
вплоть до встреч с людьми, впоследствии обратившими
на себя внимание (как-то встречи и разговоры с покой
ной А. Н. Шмидт, автором «Третьего Завета», с которой
я лично познакомился осенью 1900 года и даже обме
нялся письмами), было естественно переживать все
крайние мистические выводы из доктрины почившего,
как и молодому племяннику его, С. М. Соловьеву. Мож
но сказать: в 1901 году мы жили атмосферой его поэзии,
как теургическим завершением его учения о Софии-
Премудрости *.
* На эту тему были разговоры и переписка, в которой прини
мали участие О. М. и М. С. Соловьевы, А. Н. Шмидт, тогда бом
бардировавшая письмами М. С. Соловьева. Эти письма М. С. давал
читать мне; где они – не знаю. ( Примеч. А. Белого. )
209
Весна 1901 года, казалось, наполнена была эсхатоло
гическими 15 веяниями. Я писал тогда мою драматиче
скую «Симфонию», где под покровом шутки я рисовал
парадоксы крайнего толкования некоторых из соловьев-
ских идей. Весь трюк «Симфонии» есть превращение со
кровеннейших чаяний в парадокс от догматического взя
тия идей и веяний лишь музыкально внятных уху и
программою не уплотняемых. В то же время организова
лось первое русское Религиозно-философское общество 16
в Петербурге, к деятельности которого я в то время от
носился враждебно. В Москве организовалась первая
группа церковников, считавшаяся с фактом нового созна
ния. В ней были имена Новоселова, Льва Тихомирова,
Виктора Васнецова, священника Фуделя и др. К этой
группе я также относился весьма отрицательно. Между
петербургскими оргиастами и московскими церковниками
мы, соловьевцы, чувствовали себя одиноко, стараясь про
вести чистоту лозунга нашей Музы меж двух враждеб
ных для нас станов:
И – бедная, меж двух враждебных станов
Тебе спасенья нет... 17
Существовал в нашем сознании наш, третий стан,
принимающий новое откровение Соловьева о женствен
ности, сходящей в жизнь. Это был малый круг, собирав
шийся за чайным столом каждый вечер: О. М. я
М. С. Соловьевы, их сын, несколько из моих товарищей,
главным образом А. С. Петровский; впоследствии, в
1902 году, к нам присоединился Г. А. Рачинский.
О. М. Соловьева переписывалась с п е т е р б у р ж ц а м и , —
с П. С. Соловьевой (Allegro), З. H. Гиппиус и с
А. А. Кублицкой-Пиоттух, матерью А. А. Б л о к а , – на
«наши», как мы тогда говорили, темы. Содержание писем
З. Н. Гиппиус и А. А. Кублицкой-Пиоттух О. М. Со
ловьева передавала мне: они были предметом наших
бесед.
Весной и летом 1901 года – максимум напряжения
символической мысли: темы Вл. Соловьева начали вы
зывать необычайный интерес. В Нижнем Новгороде
А. Н. Шмидт развивала интимные темы своего «Третьего
Завета», Мережковский и Розанов писали свои напряжен
нейшие статьи, Н. А. Бердяев звал от марксизма к идеа
лизму, зрели «Проблемы идеализма» 18, начались собра
ния петербургского Религиозно-философского общества.
210
В Вышнем Волочке собирался религиозный кружок пра
вославных: юноши-революционеры, студенты и гимнази
сты, еще пробивались к религиозной мысли (я разумею
впоследствии известные имена священника Флоренского,
священника Свенцицкого и покойного философа Эрна).
Вячеслав Иванов приходил к концепции своей «религии
страдающего бога». Я писал московскую «Драматическую
симфонию». В мае и июне композитор Н. Метнер, тогда
молодой человек, вынул из воздуха зорь тему первой
С-мольной сонаты, которая, облепи только ее словами,
пропела бы: «Предчувствую Тебя... Года проходят ми
мо – все в облике одном предчувствую Тебя. Весь го
ризонт в огне – и ясен нестерпимо. И молча жду, тоскуя
и любя. Весь горизонт в огне, и близко появленье...»
И именно 4 июля 1901 года А. А. Блок в Шахматове
написал это свое стихотворение, – в дни, когда я в Сере¬
бряном Колодце 19 писал о «полевой фантазии» Сергея
Мусатова 20, об огромном мистическом движении на се
веро-востоке России, где образ «Жены, облеченной в
Солнце», или Софии-Премудрости, получил свое вопло
щение в образе земной женщины, Той, о которой Блок
в те же числа сказал: «Предчувствую Тебя» и «появ
ленье близко». Все упомянутое мной еще не встретилось,
не перекликнулось, еще вынашивалось о т д е л ь н о , – в Ниж
нем Новгороде 21, Петербурге, Шахматове, в Дедове, в
Серебряном Колодце – где еще? Понятно, что встречи
друг с другом людей, слышащих одинаково зарю и отра
зивших различно ее статьями, стихами, сонатами, вызы
вали в душе повышенный романтизм. Эти «встречи» друг
с другом – первое основание течения, впоследствии по
лучившего несколько ограниченное название «литератур
ной школы русского символизма». Среди символистов
встречались и личности, не имевшие отношения к лите
ратурному символизму, не написавшие ни одной строчки
или позднее писавшие под иными лозунгами, например:
Сергей Соловьев, Вольфинг, Н. К. Метнер, А. С. Петров
ский, Е. П. Иванов, А. Н. Шмидт и др. Именно они-то
и выносили в личных исканиях подоплеку позднейшего
символизма.
В июле 1901 года я получил от С. М. Соловьева
письмо, уведомлявшее о том, что в Дедове у него гостил
А. А. Блок 22, с которым они много бродили в полях и
говорили на «наши» темы: речь шла о характере пони
мания поэзии В. Соловьева, о практических выводах его
211

философии, о любви, о Софии-Премудрости, Той, ко
торую Соловьев называл «Царицей». А. А. предлагал
С. М. Соловьеву ряд вопросов и даже форсировал выво
ды наши, впадая в максимализм и выражая уверенность:
«Новая эра уже началась, старый мир рушится».
Это письмо С. М. Соловьева ко мне совпало для меня
с эпохой максимального отдания себя соловьевскому ми
стицизму, теме «смысла любви», темам стихотворе
ний Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю»,
«Из-под таинственной, холодной полумаски», Фета
«Соловей и роза», «Alter Ego» и др., В. Соловьева «Трех
свиданий», «К Сайме», «Слов увещательных к морским
чертям» 23, «У царицы моей» и т. д. Письмо С. М. Со
ловьева – событие в моей жизни. Я понял: мы встретили
нового брата в пути. Пробую установить время приезда
А. А. Блока из Шахматова в Дедово и упираюсь в
срок – от середины июня до середины июля, не ранее,
не позднее. Это – срок написания следующих стихотво
рений. Только что были написаны: «Предчувствую Тебя»,
«Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко» – к это
му стихотворению эпиграф из Владимира Соловьева,
писалась «Historia» («И близится рассвет, и умирают те
ни, и, ясная, ты с солнцем потекла» 2 4 ) , «Она цвела за
дальними горами, Она течет в ряду иных светил», посвя
щенное С. М. Соловьеву. Последнее стихотворение, ве
роятно, и было прочитано А. А. С. М. Соловьеву в Де-
дове или могло быть написано под впечатлением пребы
вания в Дедове *. В течение этого же лета встречаем у
А. А. еще одно стихотворение с эпиграфом из Вл. Со
ловьева и еще одно стихотворение, посвященное С. М. Со
ловьеву. Все показывает: А. А. был тогда под влиянием
круга идей Вл. Соловьева, быть может, тех острых бесед,
которыми он обменялся в Дедове с семейством Соловье
вых. В конце мая этого же года, здесь же, в Дедове, я
читал первую и вторую части «Московской симфонии»,
о которой Соловьевы могли бы сказать А. А. Блоку.
* Помня хорошо пейзажи Дедова и Шахматова, я готов утвер
ждать: аромат пейзажа в данном стихотворении скорее дедовский,
а пейзаж хронологически предыдущего стихотворения «Сегодня
шла Ты одиноко» – шахматовский: «Там, над горой Твоей высо
кой зубчатый простирался лес, и этот лес, сомкнутый тесно, и