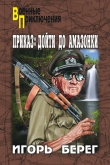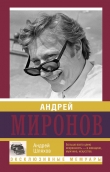Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 44 страниц)
20
Пока Москва проводила в жизнь лозунги революции, билась над осуществлением ближайших социально-хозяйственных планов, организовывала оборону на фронтах и труд внутри Республики, Лев Троцкий, как всякий самозваный триумфатор и «вождь», спешил расставить на всех мало-мальски важных участках новой государственности своих людей. Это могло обеспечить ему победу в будущем без всякой борьбы, так сказать, естественно и по преемственности.
Верных помощников и исполнительных чиновников было предостаточно, сложнее приходилось очищать для них посты. Но и здесь Троцкому не приходилось ломать голову и «изобретать первое колесо». Нужные методы устранения и реорганизаций в течение тысячелетий уже выработала практика императоров, фараонов, консулов, царей и цезарей.
Наметки социальных преобразований Троцкого были весьма туманны, ненаучны и неопределенны, лишь одно знал он хорошо: учитывая будущие затруднения в устройстве некой немыслимой, подконвойной муниципии в России по своим теориям, Троцкий обязан был думать о превентивном устранении с пути всех более или менее активных, думающих деятелей – как партийцев, так и беспартийных, могущих ему помешать.
В начале 1918 года такой фигурой был главком Кубани Автономов, собравший под своим началом боеспособную Красную Армию, до ста тысяч штыков и сабель, которая и решила участь белого движения в его первый период, привела к крушению генерала Корнилова. Теперь Автономова как главкома не было (не стало, правда, и армии – остатки ее, обливаясь кровью, замерзая и голодая, в тифу, гибли в зимних песках между Кизляром и Астраханью...), и речь могла идти о донцах, таких, как Ковалев, Миронов, Думенко, Шевкоплясов, Буденный...
Самой серьезной фигурой был, разумеется, старый большевик Ковалев, но при его тяжелой болезни забота снималась «товарищеским вниманием, временной передвижкой на легкую должность», недопущением к активной деятельности из гуманных соображений. Ковалев же, прямой и бескомпромиссный партиец, воспринял назначение комиссаром в родную для него дивизию с большевистским пониманием, без обиды и протеста. Да и в самом деле его мучила и ломала тяжкая, каторжная чахотка, и товарищи из Реввоенсовета дали ему в такой трудный момент отдых, время на поправку под крылом таких сильных помощников и друзей, как Миронов, Сдобнов, Блинов и комиссар штаба – старый питерский коммунист Бураго, – чего здесь не понять?
После ликвидации Донской республики Ковалева просто изолировали от сложных вопросов на Дону. Миронов – другое дело. Миронов рос и креп в этой гражданской сумятице, в сложнейшей из войн, он проявлял такую военную и гражданскую зрелость, что стал едва ли не главной фигурой на всем Южном фронте. Этот «самовыдвиженец» с легкой руки Сокольникова стал фактически уже командармом-9, ибо в руках у него оказались все три боевые дивизии.
24 февраля 1919 года в Москве, на представительном собрании в Доме союзов, Троцкий заявил, что «с врагом на Юге все покончено», и, не мешкая, выехал на фронт, чтобы «отмстить и наградить» победителей, в том числе и Миронова.
Для устранения неугодных проще простого воспользоваться уже неоднократно оправдавшей себя «волчьей ямой». Собственно, как она организуется?
Для начала находят маленький, ничтожный криминал... Желательно, самый ничтожный – это действует наиболее сильно! Конечно, в пределах 23-й дивизии ничего подобного организовать нельзя ввиду безоговорочного авторитета и силы ее командира. Тогда можно подобрать нечто в смежной организации, скажем – в окружном ревкоме...
Каждому известно, что после захвата крупного населенного пункта командование назначает временно своего военного коменданта. Так и поступил Миронов, по традиции, в слободе Михайловке, причем назначил комендантом не какого-то своего адъютанта-любимчика, не мелкого интенданта-казнокрада, а попросил занять этот пост одного из работников Казачьего отдела ВЦИК, человека во всех отношениях авторитетного. Через неделю подъехали из Царицына и бывшие члены Михайловского ревкома – Федорцов с друзьями. Касалось ли их назначение Данилова военным комендантом? Нет, не касалось, они могли войти с ним в контакт и работать сообща. Но... именно в этот момент кто-то из тех, кто понимает великолепно общую задачу, возможно Гроднер из особого отдела, как бы мимоходом сказал Федорцову:
– Что это Миронов так разгулялся, что даже в чужой монастырь со своим уставом лезет? Надо бы ему дать понять, Алеша, кто в слободе хозяин...
В острый момент спроси такого: говорил? давал установку? – да ей-богу, не вспомнит! Скажет: что-то такое, кажется, было, но – не помню. Мелочь. В запарке дня...
Ну а Федорцов, он что, глупый, не понимает, чего от него хотят? Может, и понимает, но он тоже душа живая, ему завиден чужой авторитет, слава боевая, да и, к слову, этот Миронов его немного обидел как-то, при эвакуации Михайловки.
Федорцов мог бы задуматься, как местный человек: кто и что ему советует? Зачем? Против кого? Увы, это исключено... Широта души не позволяет ему унизиться до понимания соседа, своекорыстие – увидеть общий интерес. Каждый федорцов по-своему мнит себя неведомым миру Иваном Калитой, собирателем Руси...
Ревком – в полном составе! – решил в грубой форме одернуть зарвавшегося красноармейского кумира Миронова.
Отослали Данилова (не побоясь обидеть человека, тоже товарища по борьбе) в Усть-Медведицу, как неподходящую личность для должности окрвоенкома...
Дальнейшее разыгрывается словно по нотам, без всякой сторонней инициативы и как бы само по себе. Миронов задет за живое: факт неслыханный! Ревкомовцы – все как один бывшие его ротные командиры – разгулялись! По-видимому, спьяну... Пишет им записку – для начала мирно-увещевательную, но Федорцов опять-таки разве не имеет самолюбия? Он тоже пишет под диктовку краткую записку, смысл которой можно передать в три слова: «А пошел ты!..»
Тут уж вмешиваются и штаб, и комиссар Бураго, потому что налицо хулиганство ревкомовцев. Но – это еще как посмотреть! Вся эта переписка занимала Льва Троцкого исключительно с комической стороны. Он мог только удивляться человеческим слабостям, промахам, благоглупости и – бессилию правоты... Посмотрите, что делает обескураженный Миронов! Тут он явно не стратег!..
На столе Троцкого мелькнула еще одна записка:
Михайловка. Ревком. Федорцову
Именем социалистической революции протестую против вашего пребывания у власти, а также Рузанова и других, и требую прибыть ко мне в штаб.
БОЙТЕСЬ РЕВОЛЮЦИИ, ОНА ВАС НЕ ПРОСТИТ за те минуты, которые вам хорошо известны.
Еще раз приказываю прибыть.
Командующий группой войск Миронов.
Политком Бураго.
Миронов, ответственный человек, конечно, послал параллельно мотивированное письмо в штаб и Реввоенсовет. По существу он прав, Донбюро должно бы поставить на место Федорцова с компанией. Это, собственно, так и будет, но – потом... После Миронова. А сейчас пусть будет так, как есть.
Между тем в недрах РВС родился еще один документ, уже сурового свойства.
Председателю РВС Республики тов. Троцкому
Сокольников сообщает, что начдив-23 Миронов в Михайловке ПЫТАЛСЯ АРЕСТОВАТЬ членов Усть-Медведицкого ревкома, назначенных Южфронтом. Считали бы совершенно своевременным УДАЛИТЬ Миронова от родных станиц на другой фронт, хотя бы с повышением в должности.
И – подписи.
Если бы по-человечески, по-партийному, так можно прямо спросить: да что вы, друзья мои, белены объелись? Где же попытка ареста ревкома? Ведь просто погрызлись, повздорили два наших товарища, оба – красные. Помилуйте! Ведь и Миронов утвержден и назначен Южфронтом, а у вас что получается? Вроде он откуда-то со стороны прискакал разгонять ревком. Чуть ли не из Новочеркасска.
Все это, разумеется, так. Но это – после. Федорцова этого можно потом даже расстрелять, дурака. Можно просто загнать обратно в телеграфисты (откуда его вытащил в свое время Миронов же!), плюнуть и забыть о нем до второго пришествия. Но пока все это важно лишь для решения судьбы Миронова. И кстати, не забыть о Бураго, он тоже после исчезнет, как человек, мешающий основному делу... Но это все – после взятия Новочеркасска.
В Козлове Троцкому передали копию записки Миронова на имя Сокольникова. Он пожал плечами от недоумения (бывают же такие смельчаки из простых смертных!) и спешно выехал в Балашов, предпочтя 8-й армии штаб 9-й.
Между прочим, в портфеле его уже лежала записка Сырцова, обрекающая на гражданскую смерть всех трех михайловских ревкомовцев – ее нелишне было бы знать всем доморощенным «собирателям пенок»:
...Деятельность ревкома Усть-Медведицкого района в первоначальном составе из 3 чел. (Федорцов, Рузанов, Севастьянов) протекала весьма неудовлетворительно. Эти местные работники по своим качествам, по своему кругозору были мало подготовлены для ответственной работы, но совершенное отсутствие в Усть-Медведицком районе работников заставило остановиться на них...
Княгницкий по-прежнему валялся в тифу, парад встречи председателю РВС устраивал временный командующий Всеволодов, блестящий военный, высокий и откормленный полковник генштаба, который глубоко импонировал председателю РВС и наркому.
Вечером в интимной беседе и как бы между делом Троцкий спросил Всеволодова, каково его личное мнение о начдиве-23 Миронове. Всеволодов ответил сначала без резко выраженной неприязни, сохраняя такт и видимость объективности, что Миронов, несомненно, большой военный талант, не проиграл ни одного более или менее серьезного боя, а если отходил перед сильнейшим противником, то лишь по причинам общефронтового масштаба, и отходил всегда последним. Прекрасный оратор и вождь красного казачества. Имеет неограниченный авторитет среди бойцов и местного населения... Но, уловив некое движение в острых чертах наркомвоена, Всеволодов понял, что вопрос этот задан не случайно и что он напрасно церемонится и скромничает. Без всякой поспешности, впрочем, Всеволодов сделал само собой возникшее дополнение к сказанному:
– Но это-то как раз и плохо, товарищ Троцкий. Плохо! Весь этот, несколько... дешевый авторитет и вождизм, если хотите... Все это кружит ему голову, возбуждает подхалимство вокруг, он игнорирует деловые советы и даже приказы.
– Н-дэ? – надменно кашлянул Троцкий.
– Я обращал на это внимание товарища Сокольникова... – тонкий штабист Всеволодов знал, что Сокольников до последнего времени пытался отстаивать самостоятельность и не входил прямо в «когорту славных», как именовали в приватных разговорах людей Троцкого. На него оказывалось серьезное давление, и никто не знал, надолго ли хватит товарища Сокольникова в этом смысле, но сейчас-то он был еще «необъезженной лошадкой», можно было тихонько выдвинуть его под удар «вождя»... Троцкий, однако, сделал недовольную гримасу, дернул носом, и Всеволодов переключил внимание на другое: – А недавно был разговор с начальником политотдела фронта товарищем Ходоровским. Иосиф Исаевич – глубокий человек и тоже подозревает, что мироновский рывок к Донцу и Новочеркасску не что иное, как авантюра. За Донцом он попадает в мертвое окружение и погубит свои дивизии... Либо... предаст и перейдет к белым.
– Даже так? – подивился Троцкий.
– А почему бы и нет? Получит генеральский чин и булаву походного атамана. Такой вариант у Большого круга есть... Краснов шатается, если еще но сгорел вовсе, так что предполагать можно всякое...
– Н-дэ?
Почтительнейше склонив дородное тело свое к наркому в другой раз, Всеволодов вдруг заметил, кроме золотых запонок на манжетах у Троцкого, еще и маленький, черный железный перстень в форме изящной виноградной веточки на безымянном пальце. Эта изящная чернь как-то не вязалась с ясным золотом запонок и золотыми коронками в оскале Троцкого. К тому же Всеволодов вспомнил, очень некстати, что подобные перстни-печатки что-то собой выражали, какую-то принадлежность их хозяев, но какую именно – вспомнить было трудно. Все же Всеволодов был не антиквар, не нумизмат, даже не филателист, чтобы разбираться в подобных тонкостях. Он был всего-навсего военный. Мелькнула мысль, что подобный железный перстень, кажется, предпочитали всем другим члены какой-то масонской ложи, весьма отдаленной от социал-демократии и большевизма, в частности, такой знак как бы и не подходил товарищу Троцкому... Но – в жизни и не такое приходилось встречать. Да и раздумывать на эту тему было недосуг – момент был очень острый.
– У нас неплохо работает контрразведка, товарищ Троцкий. Смею заверить! Так вот, товарищ Ходоровский лично позвонил Миронову в Морозовскую, чтобы он отвел войска на сто верст, дабы подтянуть тылы и войти в соприкосновение с соседями – 8-й и 10-й армиями, которые отстают от него на целую неделю переходов. И что бы вы думали? Миронов даже засмеялся по телефону. Говорит: враг-де полностью деморализован, было бы преступлением перед революцией задержать преследование даже на один час!
– Может, это так и есть? – позабавился Троцкий.
– Очень зыбок этот прорыв. Я даже хотел приказом удержать Ударную группу, но было бы нелогично: Миронов только что получил серебряную шашку и золотые часы из рук товарища Сокольникова. Был приказ командарма Княгницкого.
– Тогда, может быть, позволить все же ему взять Новочеркасск*?
– Ни в коем случае! – вскричал Всеволодов в панике, позабыв всю свою благовоспитанность и не побоявшись выдать даже некоего тайного стимула своего в этом разговоре. Склонился к наркому ближе, насколько позволяли приличия и субординация, и заговорил чуть ли не шепотом, давая понять, что испуг его глубоко обоснован, а высказывается он лишь в порядке исключительности и при полном взаимодоверии: – Я об этом долго думал, товарищ Троцкий... Как русский человек, отрицающий всякий федерализм и сепаратистские увлечения всякого рода, модные на нынешнем бурном горизонте. Да. Миронов во главе трех наших дивизий Новочеркасск, без сомнения, возьмет! И даже не пятого марта, как обещал Сокольникову, а третьего, возможно, второго! Но... поймите же, он возьмет его для себя! Во всяком случае, вам... – на слове вам он сделал сильное ударение, нажим, – вам он его не даст! Будет что угодно: Донская советская республика, Донской всенародный круг, живой коммунизм, так сказать, но – автономный, в лампасах! И тогда...
– Тогда? – переспросил Троцкий с любопытством. Он понимал, что никакие мелкие зигзаги большой политики ему не угрожают: судьба России едина, отдельного донского либо тамбовского коммунизма ждать глупо. Все это просто забавляло его.
– Тогда под его рукой объединятся Дон и вся Кубань, Деникин уйдет вслед Краснову, и уж тогда нам – красным, я имею в виду, – станет, вне всякого сомнения, труднее. Атаман Миронов – это пострашнее, знаете, Краснова, Колчака и Юденича, вместе взятых! Положим, не как политические фигуры, ставленники Антанты, а в чисто военном смысле.
Всеволодов вытер лоб платочком, аккуратно свернутым в треугольник. Было немножко рискованно сказано, немного фантастично, отчасти глупо: за Мироновым войсковой круг в Новочеркасске с прошлого года числил не булаву походного атамана, а только намыленную веревочную петлю, и повесить его хотели почему-то не посреди Новочеркасска, а в том же хуторе Пономареве, где были зарыты в землю подтелковцы, весь цвет первого Донского ревкома. К слову, Миронов был и не настолько чужд большевизму, чтобы так безоглядно клеветать на него. Но у Всеволодова не было иного выхода, а Троцкий почему-то поверил.
– Придется, значит, убирать его до Новочеркасска? – переспросил он.
– Разумеется, выход один. Но... есть небольшое осложнение. Его очень поддерживает временный начдив 16-й Медведовский, а он – старый член партии. Комиссар группы войск Ковалев, как земляк, тоже, знаете, души в Миронове не чает, да и комиссар штаба Бураго еще со времен бригады полностью подпал под влияние! С ними будет трудно.
– Все это нам известно. О Ковалеве стоит вопрос особо... Он шлет сигналы в Москву, настаивает на разных глупых версиях. Придется обсудить, – сказал Троцкий, нарушая тут всякую партийную этику и даже дисциплину, но великодушно прощая это себе. – И вас прошу через свою радиостанцию от моего имени вызвать на завтра в Балашов... на срочное заседание весь состав Донбюро во главе с Сырцовым – он, кажется, сейчас в Воронеже, должен поспеть! А также Гроднера из Михайловки, ну и... Ковалева. На завтра, без каких-либо отсрочек и проволочек. Немедленно!
– Я понял, – сказал Всеволодов и вытянулся перед Троцким в такую образцовую строевую жилу, как не тянулся даже в кадетском корпусе.
21
Глеб Овсянкин-Перегудов медленно и упорно продвигался к Москве.
Литер Гражданупра помогал на посадках, внушал уважение железнодорожному начальству. Помогали и линейные чекисты, но, к сожалению, даже и они не могли ускорить отправление самих эшелонов. Составы неделями простаивали в ожидании угля, дров, воды. Не хватало паровозных бригад, валявшихся в тифу, заедаемых цингой и фурункулезом от простуд и недоедания.
Стояли в Воронеже.
Ветер глодал проломанные пристанционные заборы, свистел в обмороженных ветках привокзальных тополей.
Под сводами каменных вокзалов густела перекипающая толчеей и руганью полуживая, задавленная масса. Пот, грязь, вонь, омерзение... Сидели, вздыхали, доедали последние сухари, ждали «с моря погоды». Говорили, что формируется где-то на запасных путях прямой эшелон до Москвы, приходилось терпеть.
Глеб Овсянкин-Перегудов в своем потрепанном шлеме с громадной синей звездой вместо утепляющего налобника, длинный и угрожающе-стремительный, пролез-таки в самую середину человеческого скопища, в главный пассажирский зал. И тут, под куполом, вроде церковного, притулился у стенки, раздвинув чужие корзины-скрипухи, кованные медными поясками крестьянские укладки и набитые чем-то мягким чувалы.
– Присесть можно? – осторожно спросил щербатого, конопатого мужичка с шустрыми глазами и скудной бороденкой, кивая на крепкую укладку. Все в этом мужичке было родимое, российское: войлочная шляпа, армяк, изношенный до ветхости, и даже сивая бороденка походила на клок свалявшейся пеньки. Землячок!
– Служивой? Служивому можно, как откажешь? – ощерил тот черные зубы и вроде подвинулся на своем мягкоупругом чувале, давая место. Овсянкин огляделся, послушал минуту-другую какие-то несвязные, чужие разговоры и понял, что оказался в кругу переселенцев, едущих совсем в другую сторону, на юг.
– Ты, добрый человек, не скажешь, чевой-то нас тут держат? – сильно окая, спросил щербатый мужичок-сосед, чувствуя свое взаимное право на любезность за предоставленное место, – Вторую неделю маемся...
– А вы каковские люди-то?
– Дак смотря по какому называть! – чуть не присвистнул мужичок. – Ежели по-старому, дак пошехонцы мы, а как о прошлом годе Мосея Маркыча в Питере мировые буржуи ухлопали, дак мы теперя Володарские! Город наш теперь Володарском зовется, а земли все одно кругом – одни пеньки да болотины, дак вот и тронулись, ета... Донщину заселять, как она теперя вся под корень, значит, пойдет!.. – радостно сообщил мужичок.
Овсянкин огляделся, увидел, что потолки высокие, а холод такой, что хоть костер запаливай, и решился закурить. Достал кисет из кармана, вытянув ногу (раненая его нога была ограждена на всякий случай двумя костылями), оторвал газетки на завертку, дал и мужичку. Тот с удовольствием закурил толстую самокрутку из чужого кисета. Задымили рядком, вроде как подружились навечно. Овсянкин вздохнул на крепкой затяжке.
– Долговато сидеть вам тут придется, мужички, – сказал он в раздумье, оберегая нарастающий горячий пепел на конце самокрутки, чтобы не дай бог не обронить уголька на мягкое, ватное барахло. – Долговато!
– Это ж почему? – спокойно спросил сосед. И женщины, худые, изможденные, перестали шептаться и упулились несмышлено из-под толстых, суконных платков на незнакомого страшного но виду солдата. – Чой-то говоришь-то?
– А потому, земляки, что тут, на верхах, от Калача до самой Морозовской и Каменской, лишней земли нету. Подушно стали делить, так не более как полторы-две десятины на нос, даром что казачья область... – объяснил Глеб. – А излишки – десятин по восемь, а то и десять на гражданина – есть, конечно, так это аж в Черкасском округе да на Маныче и речке Сал... Но туда, братцы мои пошехонцы, далече еще добираться! Там, как говорится, и конь не валялся. Деникин там, он вам даст землицы – своих не узнаете!
– Так эт что, на верхах-то, по две десятины всего у казаков?! – недоверчиво спросил мужичок и так забылся в этом вопросе, что не заметил, как с самокрутки упала жаркая искра на полу ватника. Сразу завоняло и задымило на весь вокзал. Спохватились, мужичок начал чего-то такое затирать, вата взялась еще пуще, всей семьей стали заплевывать... Справились не скоро, но вопроса мужичок не забыл. – Только и всего у них – по две десятины?.. – спросил сквозь горелую вонь.
– А ты сколько думал? – усмехнулся Овсянкин.
– Дак за-ради чего же они, остолопы, тогда царям-ампираторам служили, нехристи? У нас ее тоже по две, токо плоха, супесна! Вот и поехали, сказано было, что всех казаков теперя вырежут под корень, а энту землицу – нам! По декрету.
– Молодцы... – сказал Глеб в хмурой задумчивости. – Очень хорошо обдумали. Только вот такая закорюка: эти все верховые казаки, можно сказать – поголовно, ныне воюют в красных. Ей-богу! Так вот как с ними-то быть, не скажете?
– Да ну?! – спросил мужичок, и глаза его, немного хмельные от большой мечты в начале разговора, вдруг прояснились и стали просветленно-умными и расчетливыми. – Неуж – в красных? Все?
– Я ж говорю: поголовно. Ежели взять станицу какую на триста дворов, так двести с лишком – в красных. Остальные – зеленые. Белых нету.
– Чего там! – сказал из-за вороха мешков молодой голосок. – Один хрен – казаки, кровопивцы! Всех надо к едрене фене гнать оттудова, выморить, как козявок, а эти земли трудовому мужику отдать, который по северным губерням мучицца!
– Ну да?.. – как-то едко спросил Овсянкин, сам северный уроженец. – Воевать будешь с этими красными казаками, или как?
Молодой поднялся во весь рост, оказав одноглазое, испитое какой-то давней болезнью лицо. Кадыкастая голодная шея торчала из тряпичного шарфа-полушалка, редкие конопинки бледнели от злобы:
– И повоюем! Вы-то их не знаете, казаков, а я хорошо их распытал, когда у брата под слободой Солонкой в гостях был! Спесивая сволочь!
Овсянкин помолчал, заплевывая окурок. С дураками он обычно не спорил. А тут неожиданно вмешался в обмен мнениями мужичок из Пошехоно-Володарской волости.
– Это ты зря говорил, – сказал он. Востро посмотрел своими черными зрачками на кривого парня. – Вот глаз у тебя, сказать, вытек, так это не с казачьей драки, случаем?
– Точно! На масленую было дело, схлестнулись у монопольки, токо плетни трещали! А там был такой у них урядник – Разуваев, с-сука, кулачок у него вроде гирьки! Поднес, гад, глаз-то вылетел и повис на жилке, думаете, это легко было терпеть? Я посля... его полгода караулил у гамазинов, пока не кокнул пешней. Тоже поплакали и его детки!.. – парень расстегнул от удовольствия верхнюю пуговицу армяка и покрутил освобожден но шеей.
– Ну, зныч, и ладно, – подвел итог пошехонец. – Такие дела не токо у одних казаков, милой. Вот у нас речушка под Пошехоньем, сказать, не речушка, а так, ручей, куриный брод, по прозванию Ухтома, болотная водица. И на ней малы деревеньки, с одной стороны, скажем, Гуляево, с другой – Прогоняево... Я это для складу, може, они и по-другому как зовутца, дак суть-то! Суть ты возьми в голову! Как праздник какой, как крещение или столпотворение, так оба берега у нас – в крови. То Гугняево бьет Сопляево, то, сказать, обратно, эти – тех! Да ведь не в кулачки, как ты сказал, а иной раз и дрекольем! А?
– Ну и пускай, а кто мешат?
– И я про то. А если по-твоему судить, дак надо теперь беспременно одних какех-то мужиков пострелять. Так? Но вот ты и скажи, справедливой, какех стрелять: гуляевских или, обратно, прогоняевских?.
Одноглазый призадумался, даже усмехнулся краем сухого, в синюю оборочку рта. И смолчал.
– Тако дело. Дрались полюбовно, а вышло – одне виноватые, другие – не. Получатца: не одним миром мазаны... Это ты молодой, а постаре станешь – поймешь: не в том отрада, чтоб зло сеять.
– Не поймешь тебя, дядя, – махнул рукой парень. – Мудрай ты...
– Поймешь, как... Говорю: дурной народ! Сначала вроде тебя охаживают палкой – я радуюсь, а там, глядишь, и меня начали колошматить другим-то концом. Не-е... Здеся надо разобраться!
Мужик почесал переносицу и вдруг живо обернулся к своим:
– Бабы! Я чего думаю-то... Ежели до самого Деникина ждать, так, можа, нам лучше бы пока вернуться? А? Назад, можа?..
Бабы, все время молчавшие и бессмысленно смотревшие ни спорящих, склонились одна к одной, начали тихо советоваться. Овсянкин не стал дальше занимать их подробностями донскими, надоела ему и злоба, и глупость людская, и вечное незнание того, что следовало бы по всем понятиям знать. Втянул голову в торчмя поставленный ворот шинели, притулился к мягкому чувалу, собираясь вздремнуть. Но его толкнул в плечо тот же кривой парняга, кивая настороженным ликом к середине, где был сильный гомон и крики. Колготились какие-то люди на возвышении, как на малом помосте или сдвинутых вокзальных скамьях.
– То ли частушки воют, гады, то ли Христа славют, дак не время же? – спросил с любопытством кривой.
Верно, вроде стихи там читали, но слова доносились вразряд, и какие-то чудные, с вывертом: «...вселенную жарь! вздыбим узы уз!» и еще какие-то «космические радуги вселенной». Потом какой-то малый, похожий на дьячка, вздел тонкие руки и заплакал нараспев:
Мы – плененные звери,
Голосим, как умеем...
Глухо заперты двери.
Мы открыть их не смеем!
Нытика-поэта уже стащили за длинную полу подрясника, и на возвышении закачался мордатый парняга с белокурыми, впрозелень, длинными волосами. Закричал в толпу, подняв перед собой туго сжатый кулак:
А сам мужик о чем южит?!
– Стюденты озоруют, – сказал кто-то в стороне, ближе к окну. – Как где какая толчея, так там и стюденты. С Казани вроде...
Горластый парень на помосте окинул большими серыми глазами полуживое лежбище по округлому залу, начал вбивать слова-клинья в шорох и гомон людского скопища:
Он знает сам, что город – плут.
Где даром жрут, где даром пьют.
Куда весь хлеб его везут!
Расправой всякою грозя.
Взамен не давши ни гвоздя!..
– Долой! Кулацкие штучки! Откуда взялся? – в дальнем углу заворошились какие-то раненые, мужички в митросских тужурках. Парень не оглядывался на них, чесал:
Кричу в Москву, ору в Чека
Не обижайте! Мужика!..
Ударили под колени, стянули за ноги. С изумленным лицом валился белобрысый чтец в толпу. Там его подхватили и выпихнули к дверям. «Смело мы в бой пойдем!..» заорал кто-то сбоку, нетрезво, желая взобраться выше, но его тоже не пустили.
– Ишь ты, налил глаза!
– Смело он в бой пошел за суп с картошкой!..
– Куда тут пойдешь, милой, кругом одно и то жа: чай Высоцкого, сахар Бродского, а власть Троцкого!
– А ну, заткнись! Контра!
– Да ты пойми ход моего коромысла!
– Я те пойму, мурло!..
– А про мужицкий хлебец-то этот белобрысый мордач... верно, а? – с великой осторожностью и как бы вопрошая, осведомился пошехонец с черными зубами, взглядывая снизу на Глеба.
– В Чека надо гнать таких, – сказал несогласно Овсянкин. – Голову мужику забивают насчет города. Ты, дядя, брось!
Мужичок сник, завозился с увязыванием мешка и будто влип своим телом промежду баб.
Шум на помосте не умолкал, там появились сразу два оратора, желающие занять людское внимание, определился какой-то порядок.
– Граждане, просим полного внимания! Слушайте научную лекцию!
Один молодой, другой, с бородкой, вроде из семинаристов...
– Научная лекция – бесплатно, товарищи!
Странная, дикая и святая, непостижимая страна – Россия! Посреди кровавой слякоти и холода, в круговерти февральской голодной поземки, в остылом ковчеге, рядом с окоченевшими, ржавыми паровозами на путях, в тифу и вшах, не управляясь с покойниками и сама – полумертвая, она орала о душе, небе и спасении, о грядущем боге и Хаме, о счастливых зорях Социализма, о райских кущах, блуде и Печной Правде, написанной на знаменах ее страшной и бесконечной Революции. Выскакивали самозваные поэты, кричали в рифму и без рифмы вдохновенную ересь и чепуху, а в промежутках – краткие, убеждающие слова Великой Веры, их стаскивали за ноги на земную твердь, но они, падая, вопили свое: «Если погибнем – воскреснем!..» Тут же устраивались общественные диспуты, читались грамотные, вполне научные, а то и крайне субъективные лекции о судьбах Земного Шара...
Стоял на помосте культурный человек без шапки, волосатый, вши ползли цугом по его студенческой курточке, сидели в наплечных швах вроде модные прострочки, голодный блеск ожесточал надменные глаза.
– Граждане, внимание! По декрету наркомпроса, а также и товарища Луначарского! Предложено искоренять бескультурье и ликвидировать неграмотность и умственную отсталость, для чего использовать всякое скопление масс... Даже в тифозных бараках, для выздоравливающих... Потому прослушаем, граждане, социально-исторический экскурс...
– Вали, давай экскурс! – заорали матросы из дальнего угла.
– Исторический экскурс, граждане... на материалистической основе бытия и сознания, диалектики природы, как учит товарищ Энгельс... На тему «Как и куда пропала древняя Хазария, великий каганат, на рубеже девятого-десятого веков, к вопросу о миграция некоторых социологических идей в момент примерно крещения Киевской Руси!..» Лекцию прочтет, товарищи, старейший профессор Казанского университета... в Казанском университете, товарищи, также обучался наш вождь товарищ Ульянов-Ленин! Прошу приветствовать лектора, товарищи!..
Вылез на возвышение старичок. Книжный червяк, блошка овощная в очках с золочеными оглоблями (отсюда оглобель не видно, лишь что-то посверкивает время от времени...), при драповом пальто с бархатным воротничком, седенькой бородке... Была эта бородка когда-то лопатистой, на две волнистые кудельки, как у наркома Дыбенко, а вот нынче-то вылиняла, обносилась с голоду, вроде как у церковного псаломщика, почти ничего не осталось. Куда ж он, сердечный, едет-то из своей Казани? Скорее всего к белым утекает, в Ростов-Таганрог, но время выбрал неподходящее, сейчас белые побегут от него в другую сторону... Или тоже с местным крестьянством – на казачьи пироги?
– В Казани – грибы с глазами) – заорал кто-то дурашливо.
Старичок распустил наружный ворот и бабочку под скудной бородкой поправил, не обращая внимания на хулиганство. Оглядел лежбище со вниманием, как прежде на лекциях: все ли студиозусы на месте, нет ли отлынивающих по глупому обыкновению! И куда ушли – на политическую сходку или – в трактир? И вдруг продекламировал сильным и довольно-таки приятным тенорком знакомые со школьной скамьи для многих строчки: