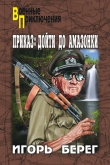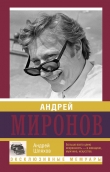Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
Поздно вечером ВЦИК принял решение, ввиду ранения Ленина и тяжелого положения как на фронтах, так и в тылу Республики, создать чрезвычайный орган управления – Реввоенсовет РСФСР, с передачей ему всей военной, а в прифронтовой полосе и гражданской власти. Пост председателя РВС получил Лев Троцкий.
18
Наступательный порыв бригады Миронова захлебнулся в связи с резким ухудшением дел по всему фронту. Еще 9 августа красные с боем оставили Калач. Передовые разъезды белых стали появляться у Воропонова, на ближайших подступах к Царицыну. В последние дни августа генерал Краснов издал приказ о переходе границ Донской области и занятии фронта по линии Богучар – Новохоперск – Поворино – Камышин – Царицын. Учитывая решающие успехи Добровольческой армии на Кубани, Краснов снял армию Мамонтова с Сальского фронта и перевел на центральный, Царицынский. В целом на линии Поворино – Камышин – Сарепта (южная часть Царицына) удалось сосредоточить двенадцать конных и восемь пехотных дивизий, обеспечив ощутимый перевес в живой силе, особенно конницы.
На участке Сиверса – Киквидзе снова творилось неладное. Были получены странные приказы от Носовича, который обязывал их действовать обособленно, разорвав фланги. Из-за этого интернациональная бригада Сиверса в тяжелейшем бою под Лукьяновкой с трудом вырвалась из уготовленного ей котла, потеряв чуть ли не половину личного состава. Обеспокоенный заведомо вредными распоряжениями штаба, Сиверс обвинил штаб Подвойского и Киквидзе в измене... В ответ Высшая военная инспекция отдала Сиверса под трибунал, а остатки отряда приказано было разоружить. Бригада Сиверса замитинговала, отправила своего делегата, комиссара 128-го полка, в Москву...
Миронов, предпринявший наступление в направлении Себряково, снова попал в клещи четырнадцати белых полков. Отбиваясь и отступая, тесня замыкавшие его белые полки, он надеялся раздавить их об укрепленную линию красной завесы под Еланью. Но Елань была оставлена, начались тяжелые бои во вражьем кольце, под Ореховом, откуда Миронов ранее начинал прорыв.
...До полуночи спорили в штабе. Мнения разделились. Большинство штаба склонялось к наиболее короткому и верному пути – на большую рабочую слободу Рудню, пока еще не взятую белыми. На этом настаивали штабные, Сдобнов и Степанятов. Миронов и Блинов не принимали этот вариант по той единственной причине, что противник именно на этом коротком пути и соберет крупный кавалерийский кулак, чтобы достойно встретить и нанести удар. Этот путь был самый реальный, но именно поэтому, как сказал Миронов, им и нельзя пользоваться.
– Следует рвать кольцо там, где этого меньше всего ждут, – сказал он. – То есть снова пробиваться на хутор Большой – Себряково. В тылы белых.
Пехотинцы даже засмеялись от этой фантастики.
– Чего там «на Себряково», Филипп Кузьмич! – сказал командир полка Березов. – Тогда уж давайте прямо на Усть-Медведицу и Новочеркасск рвать! Чего мелочиться? Прямо в гости к всевеликому атаману! Силы у нас есть, снарядов счас хватает и кони справные. А вот чего в этом случае с пластунами делать? Бросим их по дороге, эти три полка? Да еще обоз?
– Пехота как раз и будет атаковать на прорыв, Гаврил Михайлович, – сказал Миронов. – Конные полки и тачанки пойдут следом, чтобы вам на хвост не наступали.
Командиры частей и штаб переглядывались с недоумением.
– Я исхожу, товарищи, из той мысли, что в Царицыне не могут сейчас сидеть сложа руки. Момент переломный: или – или. У Краснова – инерция старого успеха, но намечается уже и усталость, раздражение, а потом и разложение в войске... Царицыну – хоть кричи – надо начинать расчистку железной дороги, хотя бы до ближайшей станции Лог, с перспективой на Арчеду, а там опять-таки нажать на Миронова и заставить взять упущенные позиции. С Воронежа сейчас двигаются свежие части на помощь Сиверсу и Киквидзе, будут и бронепоезда с Поворино. Никак не иначе, поскольку голод заставит Москву поворачиваться быстрое.
– Это так, – сказал Сдобпов. – Это все верно. Но ведь надо же согласовать сроки, ударить одновременно... Какой прок, если Царицын вздумает наступать на неделю, даже на три дня позже?
– Тогда отложим этот совет на завтра, подождем новых данных, – сказал Миронов. – Особо прошу проверять боевое охранение.
Решение не было принято, все устали и расходились неудовлетворенными. В столь трудном положении бригада еще не оказывалась.
Но Миронову, как многие считали, в деле атаки и прорыва отчасти просто везло. На рассвете в штаб заявился Степан Воропаев и привел двух казаков-перебежчиков из 1-го Усть-Медведицкого белого полка. Разведчики Воропаева обшаривали по темному времени место будущего прохода к Сергиевской и чуть ли не нос к носу столкнулись с ползущими через бугор станичниками.
Пока Миронов ополаскивал завядшее от бессонницы лицо, из штабной комнаты неслись веселые окрики, восклицания, смех – это Степанятов, не уходивший спать, балагурил с перебежчиками, давними знакомыми и полчанами. Пришли Осетров и Говорухин, мобилизованные в отряд Голубинцева еще на пасху. Как видно, с повинной.
– Навоевались?! – весело спрашивал Николай Степапятов, тряся за плечи рослого Осетрова, а оробевшего Говорухина толкал под локоть. – Навоевались и погоны уже поснимали? А может, вы нам тут байки забиваете, сами – лазутчики, попали не туды?
Казаки еще более оробели, но тут появился Миронов. От радости он даже поздоровался с казаками за руку.
– Это же первые ласточки, Николай Кондратьевич, неужели не понимаешь? Я-то давно ждал, что начнется паломничество землячков! Вот и они!
Сел к столу сам, велел подсаживаться им с другой стороны, на лавку.
– Так с чем хорошим прибыли? Что там у вас нового? Докладывайте, храбрые донцы-казаки, – и ударение сделал, как в песне, на непривычном для слуха месте: казаки... – Митингуют, значит, опять в полку, так, что ли?
– Так оно, видишь, Филипп Кузьмич, – сказал Осетров и в волнении передвинул на столе свою голубую фуражку с кокардой, – говорили: в три месяца разобьем красных, хлеб убирать надо. А хлеб, его убирать, оказывается, и не к чему. Немцы, понимаешь, наложили на Дон контрибуцию: сто милиёнов пудов да милион голов бычков. Одним словом за кажнюю винтовку с патронами требуют, считай, шесть пудов муки, да полбутылки масла постного, да ишо кожу телячью, а то и жеребенка... А на хрена, скажи ты, нам это спонадобилось?
В разговор вступил и Говорухин, сробевший сначала. Тоже хотел поддержать ту же мысль:
– Надысь разговорились, эта, под кустиком про эти дружественные дела с германцем, а урядник Нехаев меня хотел за шиворот: большевики, мол, тоже хлебец неплохо гребут по Расее, на личности не глядят! А приказный Тимохин аж плюнул! Дурак ты, говорит, дурак, хотя и урядник! Большевики твой хлеб забрали весной, штоб люд голодный по городам прокормить до нови, а немцам он зачем? Што они – голодные? У них спокон века копченое сало на столе. Краснов с ними связался, пущай сам и развязывается! Ну и за митинговали!
– Насчет хлеба? – поинтересовался Миронов.
– Насчет всего. Еще не хотят переходить границы донские, ну и... не пойми, Филипп Кузьмич, как-нибудь не так... Сказано, што, мол, окружили Миронова и надо брать, сходиться с Мироновым лицом к лицу. Так я говорю? – обернулся Говорухин к другу. – Так вот мало охотников, Филипп Кузьмич, посля Шашкина и Секачей итить в наступ. С Мироновым воевать лучше не надо...
– Ну герои! – стараясь подавить нехороший осадок от явной лести, покривился Миронов. – А еще никаких вестей не было?
– Есть кое-чего... – сказал Осетров. – Вчерась, с посля обеда, опять начало у нас в тылах погромыхивать...
– Со стороны Арчеды? – вдруг оживился Миронов и встал в рост, глянул на Степанятова с веселым выражением.
– Ну да, от Фроловскнх хуторов. Говорят, какой-то ихний Колпаков с конницей прорвался через Лог и вроде правит в эту сторону. А тут, изволь видеть, прямо перед фронтом – Миронов. Шутки плохие. Подумали, что самый раз подаваться к вам. Считай, Филипп Кузьмич, что из нашего полка добрая половина казаков готова к тебе переходить, да побаиваются – как ты к ним отнесешься...
– Да как отнесусь? – сказал Миронов. – Возьму к себе в полки до конца междоусобия, да на том и помиримся. Народ-то, в основном он мобилизованный, добровольческой злости в нем нету, чего ж его не взять к себе?
– Ведь по-разному говорят, товарищ Миронов. Мол, красные в плен казаков но берут.
– Брехня это, станичники! Краснов запугивает вас, а вы и верите. Что ж, у вас у самих разума нет?
Хорошая была беседа, но пришлось прервать ее. Вошел очень спешно Сдобнов, положил перед Мироновым свежий оттиск радиограммы. Пояснил:
– Рацию наладили, четыре дня не работала... Радист записал какой-то бюллетень о состоянии здоровья Ленина... Болеет, что ли, ничего не сказано. Черт возьми! Сейчас связывается с Балашовой!
Миронов читал строчки радиограммы, а Осетров протянул руку и вступил в разговор:
– Так как же, у нас ишо вчера говорили: крепко ранет вроде бы Ленин, двумя пулями. На митинге! Вчера штабные говорили и казаков собирали, что, мол, стреляются у них в Москве...
У Миронова подобралась нижняя губа, сверкнул глазами:
– Илларион, срочно – смотр частей и митинг! Смотр и митинг, и – на прорыв! Радиста надо потрясти, чтобы непременно дозвался штаба... Уточнить бы!.. Я им покажу!
Парад. Конные разъезды берегли слободу Орехово на три-четыре версты в округе. 1-й полк – Быкадорова – выстроился по главной улице, держа юго-восточную окраину под наблюдением, 2-й полк – Миронычева – южную. Стрелковые полки и батареи Голикова стояли в каре на площади. Блинов, теперь уже командующий конной двухполковой группой, промчался вдоль строя со взятой на караул шашкой, смотрел из-под летящего чуба с угрюмой злостью, глаза бешеные. Привстав в стременах, скомандовал: «Равняйсь, смирно!.. Вольно! Будет говорить комбриг товарищ Миронов!»
Комбриг сидел на рыжем, белоноздром дончаке чертом, горло перехватывала спазма глухой ярости:
– Товарищи бойцы! Красные непобедимые воины рабоче-крестьянской России! Орлы боевые!..
Конь сучил перебинтованными ногами, шашка тихонько билась ножнами о каблук и стремя, невнятно позвякивала. Тишина развернулась над головами пехоты, верховые на флангах напрягали слух...
– Предатели народа, стервятники всех мастей тучами слетаются на нашу родную землю, залитую кровью лучших ее сынов! Немецкие буржуи сидят в Ростове, угрожая Кубани и Кавказу, второго августа английские интервенты захватили древний русский город Архангельск и нефтяные бассейны на Кавказе, в Баку!.. По всей Сибири бесчинствуют белочехи и адмирал Колчак! Армия красных партизан товарищей Каширина и Блюхера пробивается с боями из тылов Колчака, крови – не счесть, не перемерить, как и у нас!.. Белый изменник казачеству, трижды предатель Краснов затеял на нашем родимом Дону братоубийственную войну, под страхом казни мобилизует темных станичников, гонит на Царицын и наш северный участок. И в этот тягчайший момент нашей истории безвестная злодейка прямо на митинге, на виду всей рабочей массы... стреляет отравленными пулями в нашего вождя и мирового пролетарьята, друга всех обездоленных – Ленина!
Строй содрогнулся и замер... Только чуть-чуть колыхнулись посверкивающие кончики штыков... Кто-то хлюпнул и заплакал. Миронов обернулся на непривычный звук – позади зажимал рот блиновский вестовой, подросток-батрачонок по прозвищу Мачеха... Ему ля не заплакать в эту минуту?
– Отравленные пули, товарищи, вынуты благополучно докторами из драгоценной груди товарища Ленина и будут вечным позором тем, кто готовил предательский удар в спину революции! Убийца схвачена, ее допрашивает сам Дзержинский! Жив Ленин, друзья мои боевые, жив – на радость всему народу и нам и на страх всей мировой св-волочи! Нет силы, которая могла бы умерить наш гнев и нашу волю к победе! Сегодня, товарищи, я получил известие от своих товарищей справа – Сиверса и Киквидзе, что их войска просятся в бой! Под Царицыном не смолкает кононада. Царицын просит нашей поддержки... Отомстим врагам за кровь нашего Ильича! Сегодня я поведу вас в бой, в тяжелый и кровавый подвиг, и враги увидят то, чего они еще никогда не видали от вас, разгневанных бойцов бригады Миронова! Раз и навсегда перерубим хребет Фицхелаурова, а за ним его покровителя, всевеликого разбойника и немецкого прихвостня генерала Краснова! Вперед, красные соколы родного Дона! На штыках и шашках зацветет алым цветом заря нашей победы! Смерть врагам трудового народа! Ура!
Длинно, грозно, раскатываясь на фланги, пошло над слободой Ореховой боевое «ура», и на сотнях лиц замерло отрешенное, клятвенное чувство готовности к бою, к победе и смерти.
– Ур-р-ра-а-а!.. – летело no-над строем, из конца в конец, от середины к флангам, напрягая глотки, груди и плечи, сжимая сердца тепловатой ладонью восторга и тайного предчувствия. – У-а-а-а!..
Блинов выехал перед строем, взмахнул клинком:
– Смир-р-рна-а-а! Слуш-шай мою команду! – Голос был на пределе, звенел от лютости. Слева повзводно... По приказу и зову революции... на передовые позиции! Шагом... арш!
Заколыхались штыки, на рысях пошли эскадроны штабного резерва, натянули постромки орудийные упряжки. Миронов обмял лицо нервной рукой, взбил усы. Сказал Сдобнову:
– К Сиверсу и Киквидзе – нарочных, немедля! Поддержут, нет ли – их дело, но пускай знают о нас. Сейчас без атаки нельзя. Думаю, что и у них в частях такое же настроение. Аллюр – три креста.
– Нарочных пошлю, но... может, не зарываться особо, Филипп Кузьмич? – осторожно сказал Сдобнов, касаясь своим стременем каблука комбрига. – Обкладывают ведь нас покуда... И стрельба от Фролова – не близко. А?
– Это так... Но ты видал слезы у Мачехи? Спроси Блинова, как он думает. Надо народу разрядку дать, беда великая у нас. За разведку же со Степанятовым головой отвечаете... Ну, и пора сводить конные полки в кулак! Заготовь боевой приказ.
Бригада снималась, вестовые забегали, штаб работал с полной нагрузкой. Миронов напоследок побрился, пил чай в одиночку, приказав ординарцу просмотреть и перешить всю сбрую, проверить потники седла.
И вошла в комнатушку новая медицинская сестра Надежда, прикомандированная после разгрома полкового штаба Елатонцева к штабной сотне. Вошла не по форме, не козырнула, только филенчатую дверь за собой закрыла плотно и спиной к этой же двери прижалась, чтобы кто-нибудь третий не влетел с ненужным в данную минуту донесением. Прямо в плен взяла командира.
– Товарищ Миронов...
– Да...
Сестренка была ничего себе: рослая, вызревшая, голенища хороших хромовых сапог сидели в обтяжку, грудь навынос, из-под санитарной косынки с красным крестом выбивались густые волосы с темно-рыжим отливом, завитки на лбу и около ушей... Глядя на такую, конечно, неминуемо вспомнишь солдатскую поговорку: «Где мои двадцать лет?..» Но и в самом-то деле, где они – двадцать или даже тридцать?
Комбриг несколько оторопел и отставил в сторонку стакан с горячим чаем, а у нее уж слишком откровенно зарумянели щеки и затуманились серые, в крапинку, такие открытые и такие порочные глаза... Где-то он видел эти глаза, почему-то запомнились они своей вызывающей женской откровенностью... В Алексаидровске? Точно ли?
– Товарищ Миронов, – сказала Надежда, облизнув пересыхающие губы. – Возьмите меня вестовым! Я должна быть постоянно при вас...
Как ни велика была решимость, но не хватило ее до конца, упал голос... Но женская способность доводить дело до конца тут же заставила ее глаза улыбнуться, снова обрести силу, чтобы покорять и покоряться... Это было уж что-то из ряда выходящее, чего он никак не ожидал. Да еще в такую минуту, когда назревал большой и опасный бой!
– Война, девушка. При Миронове должен быть очень хороший боевой ординарец, из казаков... Как же вы?
– Нет, должна быть я! – полыхнула в глазах уж совсем какая-то сумасшедшинка. – Иначе никак нельзя, товарищ Миронов. Поверьте, я – не за себя...
– Да в чем дело-то? – всерьез удивился Миронов. И встал перед молодой женщиной, поскольку разговор уже вышел за пределы служебных отношений. А приглашать ее посидеть рядом не было смысла и причины.
– А то! – вскричала Надежда, отчасти со злобой, и сделала шаг вперед. – Вы прямо не опасаетесь ничего, лезете в огонь, я уж видала! С пленными – как с друзьями! А ваша жизнь... А вы...
– Это лишь в книжках так бывает, – сказал Миронов, уже не забавляясь, а сочувствуя ее порыву. – Зачем же и еще одну жизнь в опасность ставить?..
«Боже мой, как только она сохранилась, с полудетской романтикой в этой взрослой голове? Или – разыгрывает какую-то роль?»
– Какие-нибудь разговоры, что ль?
– Нет, не разговоры, – отвердела она голосом. – А то, что генерал Краснов за вашу жизнь четыреста тысяч николаевскими посудил! Ваша жизнь... Я около вас буду, товарищ Миронов!
«Но где же мелькнули эти глаза – серые, откровенные, почти бесстыжие и все же проданные до последней крапинки?.. Ах ты гулюшка сероглазая, да как же ты сохранила душу-то в этом кровавом лихолетье, скажи на милость?»
Он даже растрогался и совсем как бы мимолетно скользнул глазами по крепким и вызывающе стройным ногам в аккуратных сапожках. «Черт, до чего хороша! Годы, годы и война кругом, а вот нагрянет такая, позовет молча – и сойдешь с ума, как желторотый юнкер...»
– Хорошо, – неожиданно сдался храбрый командир Миронов, выдавив ненатуральную усмешку под усами. – Будьте при штабе. Помощником ординарца...
Трубач играл построение. Ржали за окном кони, позванивали крылья тачанок, пехотинцы отбивали по пыльной дороге четкий шаг.
– Скажите, чтобы дали вам коня, посмирней...
– Я сама выберу, – сказала Надя.
Сестренка вышла под его тяжелым, неравнодушным взглядом. И когда за нею закрылась филенчатая дверь, он вдруг подумал о своей жизни и возможной смерти, за которую кто-то уже назначил цену. В полмиллиона золотом. Николаевскими, как сказала эта пичуга с доверчивыми и завлекающими, впрочем, глазищами... Много это или мало? Четыреста тысяч?
Если убьют, то будет в общем-то все равно...
Если не убьют, то можно гордиться – много!
За других командиров такого звания враги больше двадцати пяти тысяч еще не назначали...
А он, между прочим, как-то не привык думать об опасности, о самой этой . возможности умереть, не доведя своего дела до конца! Не приходило в голову еще с русско-японской, когда водил небольшие группы охотников по глубоким тылам в Маньчжурии. Не думалось и на германской, даже после тягчайшего потрясения со смертью Никодима. Словно в каком трансе был – дожить до решающих событий века, до звездного часа, до какого-то главного свершения своего...
И вот со стороны ему как бы давали знак: поостерегись, товарищ Миронов! Поостерегись, не ровен час...
Он как-то бесчувственно допил охолодавший чай и позвал ординарца:
– Давай коня, время.
Такая атака бывает раз в жизни – очертя голову, едва ли не на верную смерть, но к верной победе. Белые ошарашенно попятились, оставив на пути бригады сотни порубленных тел...
Счастье сопутствовало и самому комбригу: пуля только обожгла висок, поцарапала кожу, на полдюйма левее прошумела смерть, невидимая, но присутствующая где-то рядом, стерегущая момент. Блинов получил легкую рану в предплечье, уложили в лазарет.
Комиссар Бураго вечером делал выговор Миронову за чрезмерное увлечение сабельными атаками, личным в них участием и неоправданным риском.
– Филипп Кузьмич, вы что, вовсе, как говорят, «в бога не верите»? А вдруг шальная пуля? На кой черт нам лишаться такого командира? Есть сведения, что бригаду скоро реорганизуют в стрелковую дивизию и номер уже присвоен – 23. Именем политотдела армии запрещаю всякую партизанщину и лихачество.
Миронов помолчал в раздумье и вдруг переменил тему разговора:
– Борис Христофорович, каков последний бюллетень из Москвы? Как он там? Это сейчас главное, по-моему. Остальное – приложится.
– Бюллетень хороший, опасность для жизни Владимира Ильича миновала, – сказал комиссар.
– Слава богу! – повеселел Миронов. – Теперь душа станет на место. Что ж, Борис Христофорович, давайте формировать полную дивизию, состав численный позволяет. Подлечим Блинова и начнем утюжить красновцев так, чтобы без боя летели врассыпную и блевали кровью до самого Новочеркасска. К тому идет! Передайте в поарм, что на мироновскую конницу там могут положиться. Понимаете, товарищ комиссар, рисковать нам с вами так или иначе, но придется. Потому что надо кончать эту войну – чем скорее, тем лучше. До весны – во всяком случае! Чтобы землю вспахать и хлеб посеять. Не то Республику нашу задушит голод! Бить их, теснить к югу, землю отбирать.
– Это верно, – кивнул Бураго. – До весны войну надо приканчивать. Во что бы то ни стало...