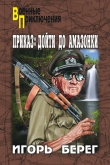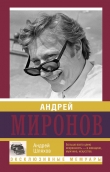Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 44 страниц)
Козьма Крючков – а это был он, без сомнения, – лениво отмахнулся широкой ладонью от президиума:
– Да какие же это большевики, это ж наши казаки с Задонья! – и сел на место, стиснул виски ладонями. Видно было, что задумался крепко.
– Точно! – дурашливо закричали и загомонили в углу фронтовики. – Все как есть знакомцы, с Арчединской, Нланской, а энтот вроде приезжий, – про Вакулнна, – но по обличью опять же русский вроде...
– Глядите лучше! – сказал старичок, сидевший рядом с Крючковым. – А то надысь приехал комиссар, говорят: Гришин по фамилии, а он – Гришинзон! Иуда проклятая!
– Степанятов, ты, что ли, у них теперь за главного?
– Прям перепугал, господин есаул! – выкрик в сторону Скачкова.
– А мы-то думали... какие они!
«Вот оно как, – подумал, кстати, Степанятов. – Не «ваше благородие», а все же проще: «господин есаул»... Нет, на старое казаков вы тут не повернете, хотя и понавешали царских флагов!..»
– Дозволим им высказаться, господа старики? – подобострастно склонился вниз, к переднему ряду, Скачков.
– Нехай говорят, – равнодушно кивнул Козьма Крючков. – Мы послухаем.
– Просим! – шутливо заинтересованный выкрик из кучки фронтовиков.
Степанятов рассказал о Советах и большевиках. Сказал, что за анархию новая власть никакого ответа на себя не берет и большевики будут с ней бороться всеми силами... Хлебопоставки для голодающих городов тоже дело временное, из-за тяжести положения. Не помирать же людям! Как только замиримся на гражданском фронте, так и прекратятся всякие хлебные повинности и разверстки. Но тут все дело в немцах и оккупации вообще... Перед лицом вражеского нашествия надо прекратить братоубийственную войну. Направить оружие на немцев и мировых буржуев.
Зачитал условия перемирия, сел. На особый успех рассчитывать не приходилось, это понимали обе стороны.
Казаки в задних рядах меж тем заволновались, начали кидать вопросы, не предусмотренные распорядком. Кто-то пытался передать прямо в руки Степанятова и Вакуляна записки. Скачков предусмотрительно прервал это общение, предоставив слово «профессору Агееву».
Старичок увлек всех волнующей былиной о казачестве. Начал издалека, от скифских и сарматских курганов, помянул смуту на Руси трехсотлетней давности, вспомнил про Минина и Пожарского, донского атамана Филата Межакова, особо предостерег от излишней доверчивости перед всякими иноземными идеями, вроде «свободы, равенства и братства», придуманными ради красного словца и веселой наживки на крючок нового рабства...
Слезы выступили на глазах старого гимназического учителя, он запнулся и стал искать в карманах сюртука носовой платок. Степанятов выбрал подходящий момент, спросил в сгустившейся тишине:
– Вы, профессор, про немцев-захватчиков ничего не сказали. А с ними, между прочим, у вас, надо полагать, не бескорыстная любовь-дружба?
Старичок начал гулко сморкаться, и председательствующий Скачков нашел нужным объявить перерыв.
Казаки переглядывались, покашливали со значением. Выходили кто в коридор, кто на крыльцо с завертками и цигарками самосада, и как-то так получилось, что парламентеры оказались без присмотра. Вокруг Степанятова с товарищами сразу же сгруппировались фронтовики, заговорили о близкой косовице на полях, неуправках в хозяйстве и новом приказе войскового атамана Краснова касательно поголовной мобилизации, включая старослужащих и льготных возрастов...
– Как там Филипп Кузьмич? – вдруг спросил казак из Крутовского Осетров, которого Степанятов знал по тридцать второму полку. – Мы прошлый раз, было, поскакали за им, а время еще темное да туман, так он и обругал нас. Дескать, держитесь наотдаля, дьяволы, а то невзначай перестреляемся! Ну, которые поехали за им до Арчединской, так с им и остались, а мы вроде как обиделись, да и вернули по домам. Теперя опять говорят: мобилизация. По эту сторону Дона. Хоть туды, хоть сюды, а шеренги не миновать. Война, значит?
– Ждите, еще и не то будет! – сказал Степанятов со злой усмешкой. И поздоровался с другим знакомцем, Говорухиным, за руку.
– Да мы уж тоже начинаем сумлеваться, – почесал в голове тот.
Из толпы окружения вывернулся давешний конвойный хорунжий, правда, теперь без открытого нагана, но с официальной строгостью в лице. Подлаживаясь под общее добродушие фронтовиков, вроде бы в шутку спросил:
– Степанятов, где же твои кресты? Полный бант носил, а? Свои запродал большевикам и других агитируешь? – умело оттеснил плечом Говорухина и Осетрова, попросил депутацию подняться на сцену и не смущать народ.
После перерыва долго держал речь Скачков. Человек грамотный, он вслед за старичком Агеевым поднял глубокую тему о судьбах России, об изменниках, которые ныне намутили столько воды, что рядовому казаку и не понять, какого берега держаться, где истинная правда, а где смертельная для православного народа петля и ловушка... Дюже крепко, мол, надо подумать нам, казаки, прежде чем соглашаться на условия этих депутатов каинов...
Голубинцев во время заседания получил какую то записку из канцелярии (наверное, сводку военных действий под Нижним Чиром и на соседних участках...), повеселел и окончательные выводы уложил в несколько фраз:
– Да, война на Дону не нужна, она всем надоела и несет опустошение. Но не мы начали ее, а большевики, в лице непрошеных Сиверсов и Саблиных, ростовской синагоги. Но, с другой стороны, мы не против выборной власти, поскольку на Дону, собственно, другой власти спокон веку и не бывало: все хуторские, станичные и окружные атаманы избирались всей массой казаков. Пусть само казачество и решает, как ему быть в этой опасной обстановке. Съезд – объединенный – можно, разумеется, провести, но лишь в окружной станице Усть-Медведицкой, а не в рабоче-мужицкой Михайловке. Через некоторое время мы пришлем ответную делегацию. В данный момент переговоры можно прервать...
Делегатов из Михайловки попросили покинуть зал.
На крыльце их ждал подъесаул Попов, готовый сопровождать до Глазуновки хоть сейчас, хоть назавтра, с рассветом. Степанятов опасался ночного леса, отложил возвращение до утра. Кроме того, у него было особое поручение Миронова к Голубинцеву, и он попросил полковника принять его.
Голубинцев отлучился со сцены, встретил Степанятова в кабинете.
– В чем дело? – спросил он сухо.
– Личная записка Миронова. Прошу прочитать при мне.
Голубинцев небрежным движением распластал листок на уголке стола, потом приблизил эту страничку из школьной тетрадки к глазам, трудно разбирать росчерки Миронова.
Какой позор, полковник!
То, что вы позволили при захвате станицы вытащить из больничных палат 27 раненых красноармейцев и расправиться с ними в Холодном овраге, пусть останется несмываемо на вашей совести. Но вы, пренебрегая всяким здравым смыслом и нормами морали, снова позволили себе арестовать семьи казаков, ушедших с красными отрядами, и глумитесь над убеленными сединой стариками. Не пожалели даже женщин и детей.
Где же ваша казачья честь, достоинство офицера?
Должен сказать, что в нашей контрразведке сидят более десятка офицеров, уличенных в подрывной работе, есть и пленные. Родственники их нами не преследуются, и не могут преследоваться.
Требую немедленно освободить арестованных!
Миронов.
Даты не было, видимо, писалось на скорую руку... Голубинцев оскорбленно сжал губы, несколько минут обдумывал ответ. Спросил холодно:
– Сын Алферова, атамана Хоперского округа, у вас?
– Он ждет суда, – сказал Степанятов.
– Передайте Миронову, что его сведения запоздалые. Родственники красных, в том числе и его семья, уже выпущены по просьбе местных стариков – членов станичного правления. Еще что?
– Больше ничего не имею, – козырнул по привычке Степанятов. – Когда можно ожидать ответную делегацию в Михайловку?
– Об этом сообщим дополнительно, – сказал с едва уловимым пренебрежением Голубинцев и надел фуражку.
ДОКУМЕНТЫ
Телеграмма
Всем совдепам Донской республики, всем комиссарам, комендантам и начальникам станций по линиям: Владикавказской – от Батайска до Саренты, по Юго-Восточной – от Качалина до Поворино, от Царицына до Чирской
Копия: Москва. Совнарком. Ленину. Известия Всероссийского ЦИК
ЦИК Дона, эвакуировавшись после занятия Ростова (в) Царицын и возобновив организацию, переехал в станицу Великокняжескую.
ЦИК Дона образовал Донское советское правительство, назначив следующих комиссаров:
Председатель Донского советского правительства, военный комиссар – Дорошев
Комиссар земледелия – Власов
Комиссар продовольствия – Кудинов
Комиссар призрения – Кужилов
Комиссар сношения и путей сообщения – Безруких
Комиссар народного здравия – Мудрых
Комиссар юстиции – Лукашин (Срабионян)
По борьбе с контрреволюцией – Турло
Комиссар просвещения – Жук
Донское Советское правительство выпустило манифест, в котором заявляет о своем решительном намерении довести борьбу с контрреволюционными бандами и вторгающимися в Донскую республику немецкими империалистами до полного изгнания и уничтожения. Вместе с тем Донсовправ берется осуществить в Донской республике все преобразования, намеченные ходом рабоче-крестьянской революции.
Председатель ЦИК Ковалев.
1 июня 1918 г. [29]29
Борьба за власть Советов на Дону.– С. 353.
[Закрыть]
В ГРОЗНЫЙ ЧАС!!!
ТЕЛЕГРАММА
Казакам 32-го Донского казачьего полка
Страшную, кровавую страницу истории начал писать наш Дон.
Граждане казаки, зову всех вас, как одного человека, собраться на хуторе Большом Етеревской станицы 31 мая к 10 часам утра (по новому стилю). Кто не явится, тот объявляется преступником, гробокопателем своему родному краю, своим детям, самому себе.
Довольно умственного и душевного сна! Пора услыхать вам живое слово, пора призадуматься. СОБИРАЙТЕСЬ, КАЗАКИ, ВО ЕДИНЫЙ КРУГ ДУМУ ДУМАТИ! – как кричали наши свободолюбивые предки, когда цепи рабства охватывали их горла.
Спешите, пока не поздно, пока не все еще потеряно!
Наболевшим сердцем зову вас!
Зову всех казаков-фронтовиков и других полков и смело кричу: СУДЬБА ДОНА В ВАШИХ РУКАХ!
Зову врагов трудового народа, врагов родного казачества на публичный диспут!
Вывший командир 32-го Донского казачьего
полка гр-н станицы Усть-Медведпцкой
Ф. К. Миронов.
27 мая 1918 г. Ст. Арчединская.
«Утверждено» – Усть-Медв. окр. Исполком Советов:
Кувшинов, Блинов, Федоров.
27 мая 18 г. [30]30
ЦГСА, ф. 1304, оп. 1. д. 488, л. 6.
[Закрыть]
5
В пути, пока ехали в Царицын, Ковалев пристально изучал Миронова. Его интересовал этот редкий тип офицера: высокая культура военных знаний, начитанность, какую не всегда встретишь даже в среде политкаторжан, трезвое понимание нынешней ситуации на Дону и в России вообще и при этом – какая-то молодая, не по годам, приподнятость души, оптимизм внутренний, позволявший строевику-офицеру выражаться в приказах и воззваниях языком студента и разночинца-романтика. Такие люди в молодости обычно пишут стихи; Миронов – с виду суровый, сосредоточенный человек – писал их, по-видимому, до сих пор, никому не показывая, конечно, заветной тетрадки...
В инструкции по формированию красногвардейских отрядов своего округа Миронов писал: «Поступающий отрекается от всех личных интересов, дает обещание безропотно переносить все трудности, не покидать отряда до полной победы революции... Вступившие подчиняются товарищеской дисциплине и исполняют приказы назначенных начальников... Партия большевиков-коммунистов должна не отказать делу создания отряда, выделив члена (политического комиссара) для политического воспитания товарищей...»[31]31
Сыны донских степей. – Ростов н/Д., 1973. – С. 140. (ЦГАСА, ф. 1304, оп. 1, д. 478, л. 98).
[Закрыть] Тут можно было усмотреть некую литературность, которую Ковалев хорошо чувствовал, хотя и не мог прямо определить и назвать источник вроде полузабытого романа о Гарибальди... Сам Ковалев имел натуру более холодную, книг читал куда меньше (в основном это были книги, распространяемые в партийной среде), видел странный налет романтизма в писаниях Миронова и почему-то не осуждал, принимал как должное. Возможно, Миронов просто хорошо чувствовал и понимал свое время, настрой рядовых казаков.
Железная колея дороги была запущена, вагон ковылял на стыках, словно телега по кочкам, трясло вовсю, но ехали они в отдельном купе – роскошь по времени необычайная! – и за разговором не замечали дороги.
– Интересно, приехал хоть один контрреволюционер на этот ваш... диспут, о котором вы упомянули в своем воззвании? – спросил Ковалев, когда состав уже пересчитывал стрелки в Царицыне.
– Черта с два! – хмуро сказал Миронов. – За ночь до этого на хуторе убили председателя Совета, это, видимо, и было ответом на наш призыв... Те, кого можно было подозревать в убийстве, скрылись, конечно. Один умный старик так и сказал на хуторе: «Помилуй, Филипп Кузьмич, какие теперь прения, когда из-за каждого плетня и бугра вовсю заговорили ружья!» Пожалуй, верно.
– А сбор на хуторе? Дал что-нибудь?
– Неполную сотню... – так же хмуро ответил Миронов. – Пришла только самая беднота, угнетенный класс... Остальные – такие же голые и босые – сидят дома, в лопухах, и ждут с неба манны небесной. А дождутся, видать, мобилизации по всей строгости. Добровольчество в армии неприемлемо, да и на практике уже изжило себя.
– Значит, договоримся так, Филипп Кузьмич, – сказал Ковалев. – Вы с Дорошевым и Трифоновым, как члены Донского военного комиссариата, пойдете к Снесареву в главный штаб, доложитесь и договоритесь о вооружении и прочем, а я сразу – в губком, а потом в исполком, к Ерману. Думаю, Носовича сдвинем с места, выделит «на разживу» патронов и снарядов.
На вокзале они разошлись, каждый по своему делу.
Военрук всех вооруженных сил Республики на Северном Кавказе Снесарев, седоволосый старик с лицом ученого-профессора, получивший по мандату Ленина широчайшие полномочия, но минимум средств и времени для предотвращения назревавшей катастрофы на Юге, старался в эти дни внедрить хоть какую-то организацию в хаос, царивший повсеместно в войсках. Два комиссара штаба СКВО (в этот округ входили целиком три губернии и три казачьи области) – старый партиец латыш Карл Зедин и урюпинский большевик Алексей Селиванов – старались делать то же самое на передовых позициях, уже приближавшихся к Царицыну.
После Дорошева и правительственного комиссара Трифонова говорил Миронов, подчеркнувший особо общую их мысль об отмене добровольческого начала в армии, мобилизации и борьбе с партизанщиной. Эти заботы касались его в первую очередь, как бойца и командира передовой линии... Он стоял, вытянувшись перед старым генералом, демонстрируя всем видом свою готовность подчиняться и выполнять приказы высоких штабов, лишь бы эти приказы поступали и были бы к тому хоть малые средства.
– Вы считаете, что выборность в армии – тоже временное явление? – с интересом спросил Снесарев и глянул тут на Трифонова, не столь военного, сколько партийного представителя из центра.
Евгений Трифонов, уроженец Новочеркасска из неслужилых, «омещанившихся» казаков (его первой политической кличкой в Ростове была «Женька-казак»), еще с февраля был одним из организаторов рабочей милиции в Петрограде, членом главного штаба Красной гвардии, но с приходом нового наркома и реорганизацией военного управления его, как местного уроженца, бросили на помощь Донревкому. Он обязан был определять здесь политическую линию. Но и он, умаявшись в этой полуанархической, партизанской катавасии, не счел нужным поправлять слишком уж откровенного службиста Миронова.
– Вся эта «демократизация» в боевых условиях не приводит к добру, – сказал Миронов. – Армия зиждется на других основаниях, на приказе и дисциплине. Кроме того, в первое время мы особенно нуждаемся в вооружении и боезапасе. Между тем начальник штаба Носович... по-прежнему относится к нам как к самостийным партизанам.
– В старое время, говорят, казачьи части вообще не ставились на интендантское снаряжение, как иррегулярные? – усмехнулся Снесарев.
– Да. Но историческими примерами и уроками атамана Платова мы воспользуемся чуть позже, – сказал Миронов. – Когда наладим внутренние связи, окрепнем, развернемся как следует.
– Вы в каком чине были в старой армии, простите? – спросил Снесарев.
– Войскового старшины, товарищ военрук.
– Подполковника, значит? Это хорошо. Теперь у вас очень большой участок под началом, целый фронт. Да-да, мы так и именуем ваше направление: Хоперско-Медведицкий фронт... Ну хорошо. Как вы оцениваете нынешнее положение на территории Донской республики? – Снесарев аккуратно пригладил тонкой ладонью седой ежик на голове и приготовился слушать. Все чинно, как на уроке тактики в каком-нибудь юнкерском училище.
Миронов обменялся взглядом с Ипполитом Дорошевым, сказал после некоторого размышления:
– Положение весьма сложное, особенно из-за утери Новочеркасска и Ростова. Казаки, в силу своей инертности и поры сенокоса... неохотно идут как в наши формирования, так и к атаману Краснову. Именно поэтому, думаю, положение может решительно измениться в нашу пользу.
– Почему вы так полагаете?
– Генерал Краснов объявил всеобщую мобилизацию, от мала до велика, за уклонение – расстрел или тяжелая экзекуция на сходе, перед лицом хуторян. Этого казаки не потерпят. Они уже и доказали, кстати, что добровольно за белого царя или генерала воевать не будут.
– Почему же тогда «побелел» Дон? – спросил военрук. .
– Причин много... – вздохнул Миронов и снова обменялся взглядом с Дорошевым, уступая ему место, как представителю Донревкома.
– Дон скорее не «побелел», а «поаеленел», – сказал Дорошев. – Но в том, что генералу Краснову удалось все же развернуть мятеж, есть свои причины. Главные: немецкая оккупация, созревший заговор, ну и темнота основной массы казаков, которые отсиживаются по хуторам и не понимают всей опасности положения. Кроме того, политические причины объективного характера. Люди в станицах перепуганы и обижены анархией и распущенностью многих красно-зеленых отрядов, отступавших весной с Украины... Целый клубок причин, а между тем многие агитаторы всю вину теперь валят на консервативность казачества вообще.
– Вот в этом – самая большая ошибка! – горячо вмешался Миронов. – К трудовому населению надо относиться как к безусловному союзнику, тогда рухнет эта стена недоверия, что стоит еще между крестьянами и заезжим комиссаром и толкает их нынче то к генералам, то в займище, отсидеться в чакане.
– Это для меня очень важно, – сказал Снесарев. – Очень рад был познакомиться со всеми вами... Ваши предложения узаконим. Хотя мобилизация декретом еще не объявлялась, скажу все же, что сейчас в Москве разрабатываются проекты по укреплению уже существующей армии. Кажется, уже принят декрет о формуле торжественного обещания, говоря старым языком – присяги при вступлении в ряды бойцов... До получения всех этих приказов объявим частичную мобилизацию внутренним постановлением. Получите немного и боезапасов. До лучших времен...
С совещания в окружном комиссариате они вышли в уверенности, что положение в ближайшие дни поправится. Хотелось этому верить.
У крыльца распрощались, и Миронов пошел искать давнего друга своего Иллариона Сдобнова, о котором упоминал как-то Блинов. Выпала свободная минута повидаться со станичником, который еще в девятьсот шестом году помогал ему поднимать Усть-Медведицкую и весь округ против позорной мобилизации казаков на полицейскую службу. Их и судили тогда вместе – подъесаула Миронова и сотника Сдобнова.
Пришлось побегать по длинным коридорам губисполкома, пока разыскал забитую в тылы комнатушку с чернильной надписью на клочке бумаги: «Каз. секция», – здесь, как говорил Блинов, и обретался теперь Илларион Сдобнов.
За столом в комнатушке увидел двух, не сказать «чубатых», но давно не стриженных мужчин в военных френчах, которые шумно выясняли какой-то вопрос, а за ними, в углу, исходил горячим паром большой, нечищеный, зеленоватой меди самовар. Под краном стояла фаянсовая чашка, до краев полная стекавшей водой. Тесно, неприглядно, а все же свои люди...
– Илларион!
Тот, что постарше, потушистее, в тугих ремнях портупеи, привстал и удивленно заморгал черными, открытыми для всякой неожиданности, смелыми глазами. Летучим движением взбил упавший на левую бровь клок чуба.
– Кузьмич? Боже ты мой, по-моему... с девятьсот четырнадцатого не видались, а? На призыве, мельком, и – в разных полках, на разных фронтах?!
Бросились навстречу друг другу, обнялись крепко. Миронов хотел даже оторвать подошвы Иллариона от пола, побороться, что ли, в искреннем восторге – ведь какая минута была! – но попытка не удалась, потяжелел, огруз бывший есаул здесь, на казенном пайке!
– Сколько, говоришь, мы не виделись? – с повлажневшими глазами спрашивал Миронов. И Сдобнов что-то отвечал, поминая беспокойную натуру Миронова, за которым, бывало, не угонишься даже и на фронте. То он у Самсонова в армии, то колесит партизаном по Волыни, то оказывается на румынском фронте, а то бунтует полк и ведет его на Дон, поближе к родным плетням...
Сидевший тут же другой казак, помоложе, со светло-русым пробором и небольшими, лихо подкрученными усами, тоже привстал и со стороны рассматривал обнимавшихся друзей. В руках как бы позабыл старую фуражку с запыленным красным околышем и темным следом от кокарды.
– По такому чрезвычайному поводу, Илларион, не заказать ли полдюжины шампанского? – вовсе развеселился Миронов, поглядывая на незнакомого дерзкими и холодноватыми глазами. Сдобнов отшутился:
– Давай, Филипп Кузьмич, плиточного чаю налью. Не так уж ароматный, зато горячий, а? Ты не смотри, пожалуйста, что мы в этакой конуре сидим, у нас – одно из самых бойких мест и – горячий самовар! Даже карамель есть, староцарицынская, из арбузного меда, брат! Живем как у Христа за пазухой! У вас-то, слыхал, совсем другие пироги и пряники; полковник Денисов вас всех забижает?
– Конечно, пока такие люди, как Илларион Сдобнов, будут отираться в канцеляриях, нас и будут колотить в хвост и в гриву! – сказал Миронов ответно. Чаек попивает он тут, как купец первой гильдии, и спит, видно, тут же, на канцелярском столе, как какой-нибудь служащий-агитпроп! А полковник Денисов между тем уже в генералы вышел. Он у них главнокомандующий!
– Угадал. Сплю на столе, шинелью укрываюсь... Но – не взыщи, Кузьмич, надо кому-то и здесь быть, надо! В канцеляриях ныне-то как раз все и решается! Притом – люди идут со всех сторон... Вот, познакомься, пожалуйста, еще один большой красный командир без войска, но с огромными полномочиями! С Верхнего Хопра, из-под мужичьей Саратовщины... Тоже полный георгиевский кавалер, подхорунжий... – Тут Сдобнов кивнул гостю: – Макар Герасимович, доложи по всей форме, пожалуйста, поскольку Миронов по положению старше нас с тобой: командующий фронтом!
Филатов представился. Коротко, внятно, с достоинством. Человек был явно с характером и некоторой культурой, как определил на взгляд Миронов, если не по воспитанию и грамоте, то по кругозору бывалого человека, служившего к тому же в столице.
– Тот самый, из 1-го сводного? – горячо и заинтересованно спросил Миронов.
Его удивили щупловатые плечи и тонкая в запястье рука, сумевшая показать на Невском проспекте баклановский удар шашкой. При жидковатом чубчике и тонких чертах лица никак не походил этот фронтовик на того громилу вроде новоявленного Кузьмы Крючкова, что изображался на революционных листовках времен Февральской революции замахнувшимся кривой шашкой над царем и царской короной.
– Да-а... – вздохнул Миронов, припомнив эту листовку. – Никак не пойму я, друзья мои, отчего они все-таки изображают нашего брата по нелепой традиции вроде волосатых дикарей? На немецких гравюрах Платов – ухудшенный вариант Пугачева, под скобочку, а он был граф, чистюля, в придворном камзоле, так сказать. Репутация, что ли? Или другие заботы этим художникам не дают разглядеть натуру? Умных людей ли у нас наперечет?
Пили чай с царицынской карамелью. Обсуждали момент, Сдобнов вводил Миронова в курс обстановки на других участках фронта.
– Сейчас везде примерно одна и та же картина: белые давят. Даже в Урюпинской, где пробовали утвердить большевистский Совет сразу после Февраля семнадцатого, теперь идет жесточайшая война с Дудаковым... Кто такой? Прапорщик, демагог, сеет религиозный дурман и банду сколотил немалую, захватил окружную станицу и успел даже ограбить кассу ревкома, два миллиона золотом! Но сейчас Селиванов выбил его из станицы, порядок восстановлен, и золото вернули. Теперь вот – свежие известия с хутора Дуплятского, из Михайловской станицы на Хопре... – Кивнул на Макара Филатова с усмешкой: – Ты послушай, Филипп Кузьмич, что они пишут-то, шутники! Вот у них постановление станичного совдепа от 9 мая, под председательством урядника Климова, и уполномоченных от хуторов, а всего их аж девяносто восемь человек! Решили: «С наступлением в пределы Донской области немецко-гайдамакских банд и в связи с тем, что... – слышите? – с тем, что Красная гвардия не соответствует своему назначению, произвести мобилизацию в станице тех годов, которые укажет окружной исполком». Видал, какие сознательные? Сами с усами, мол, а немца и «учредилку», хоть она и в жупане, на своей земле не потерпим! С тем Макар Герасимович к нам и прибыл, будем их вооружать!
Филатову он тут же написал направление и ходатайство в главный штаб обороны. Тот козырнул на прощание.
– Всего доброго, – сказал Миронов, все с тем же пристрастным вниманием глядя на героя февральских дней в Петрограде. – Надеюсь, еще понадобимся друг другу в будущих боях!
Когда проводили Филатова, Миронов достал из кармана газету «Солдат революции» и показал Сдобнову:
– Урядник Климов хлестко написал решение, а вот это объявление, случайно, не ты редактировал? «Срочно требуются охотники – кавалеристы и солдаты, чистые душой и верные защитники прав трудового народа от контрреволюционных провокаторов города Царицына и его окрестностей. Казачья военная секция». Не слишком ли грамотно?
– Нет. Это Иван Тулак, он тут конным резервом заворачивает, сам и писал, грамотей. А чего плохого?
– Надо смотреть за этим. Всякая белая шкура по этому будет судить о нашей грамоте и культуре, Илларион.
– Пожалуй что так... – кивнул Сдобнов. – Я как-то об этом не задумывался. Да и некогда было...
Спустя время, когда иссяк разговор, Миронов оглядел каморку с обшарпанными стонами и притихшим самоваром, прямо сказал другу:
– Бросай, Илларион, к черту конторский стол да приезжай домой! Точнее сказать – на станцию Себряково. Предлагаю должность начальника штаба. Добро?
– Не отказываюсь, – сказал Сдобнов. – Но сейчас надо еще здесь побыть, поработать. Ты слышал о новом декрете по казачьему вопросу? Хороший документ Ленин подписал 1 июня. Мне только что звонили из Москвы. Надо этот декрет внедрить, чтобы привыкли к нему и не рисовали нас волосатыми дикарями, как ты изволил заметить... А потом уж махну к вам, в Себряково.
– Твердо?
– Да. Придется, видно, еще повоевать с Красновым. А я ведь не по призыву в Красной Армии, а доброволец, как и ты...
– Положение сейчас, на развороте дел, особенно трудное, Илларион. Не задерживайся, – просил на прощание Миронов.
На крыльце было солнечно, ветрено. С Волги тянуло тленом ряски и тухлой рыбешкой. Друзья здесь задержались. Навстречу им по ступеням поднимались двое в гимнастерках, оба настороженно всматривались в лица, как бы старались не пропустить нужных людей. Передний кинулся к Миронову, затряс руку. Человек был определенно незнакомый ему, бледный и сильно исхудавший, как из больницы.
– Товарищ Миронов, вы меня не узнаете? Я – Фролов, ваш станичник! С Алаевым мы ехали тогда вместе, на съезд, в Новочеркасск! А это – товарищ Френкель, член Донисполкома, знакомьтесь! У нас ведь беда такая, товарищ Миронов: шли к вам, да не удалось, контра эта под Краснокутской, глушь на Верхнем Чиру... Погибли все наши товарищи!
Фролова Миронов не знал, но было неловко как-то сказать об этом прямо. Тем более что известия о страшной смерти Петра Алаева, нелепом пленении самого Подтелкова, в последние дни не сходившие с уст в Царицыне, принуждали к вниманию и участию. Пожал руку Фролову и Френкелю.
– Были ведь там и тачанки, и пулеметы? – с недоумением спросил Миронов, по сути не понимая, как мог хорошо вооруженный отряд уступить повстанцам. Он никого не осуждал, больше сокрушался о погибших людях, и в особенности о близком ему Алаеве.
Френкель, услыша фамилию Алаева, сказал с откровенным презрением:
– Соглашательство никогда не приводило к добру! Это именно ему и Мрыхину пришла в голову нелепая мысль: договориться добром с фронтовиками, которые стали мятежниками! Сословные предрассудки взяли верх, и что касается Алаева, то он стал жертвой по собственной вине!
– Не знаю, – сказал Миронов. – Он был простоват по натуре и слишком доверчив. Но даже и при этом, если бы он оказался во главе отряда, то, думаю, так не сплоховал бы. Там было что-то другое...
– Был бы жив, так все равно следовало бы расстрелять по суду революционной совести, – неуступчиво сказал Френкель. Он все еще переживал, видно, психическое потрясение от недавней опасности.
– Быстрые вы слишком... на расстрел-то! – желчно усмехнулся Миронов. – Это проще простого. Но жизнь на этом не построишь.
– Хорошо, что Подтелков отослал нас с Ароном оттуда, – сказал Фролов, желая разрядить возникшее напряжение в разговоре. – А то бы и мы качались на реях, как говорится.
– Ждал, наверное, помощи? Подтелков-то? – спросил догадливый Сдобнов.
– Конечно. Но, как вы понимаете, ничего уж нельзя было успеть. Их казнили утром следующего дня.
Миронов молча вздохнул, кашлянул и, как показалось, слишком пронзительно, чего-то не прощая, взглянул сквозь толстые стекла в глаза Френкеля:
– Теперь о погибших лучше уж ничего не говорить. По русскому обычаю. В том числе и об Алаеве...
Козырнул, прощаясь, и быстро пошел по ступенькам вниз. Сдобнов последовал за ним.