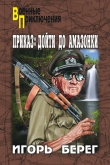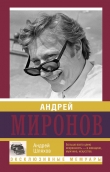Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 44 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Восьмого мая немецкие войска заняли Ростов. За Доном, в Батайске, – неразбериха эвакуации, шум, суета, свистки маневровых, одиночные шальные выстрелы. Сбились на стрелках и выходах станции, на едином пространстве, части 1-и Украинской армии товарища Харченко, 2-й Украинской – Бондаренко, главный штаб Донской республики; шумел вразброд Тираспольский полк Княгницкого, сильно разбавленный анархией и уголовными элементами. Через все заплоты и заставы прорывались первыми в сторону Кубани анархисты – «революционный полк» Петренко, отряд «морских альбатросов» одессита Мацепуро, бражка Маруси Никифоровой...
Председатель чрезвычайного штаба обороны Донской республики Серго Орджоникидзе и новый главком Ковалев эвакуировали свои учреждения на Великокняжескую и Царицын через Тихорецкую, туда уже отбыли с первыми эшелонами Дорошев и Тулак. На Екатеринодар отправили ценности государственного банка, но оттуда сообщили, что несогласны принимать финансы соседней республики, и теперь весь запас Ростовского банка и те 15 миллионов рублей, что по ходатайству Казачьего комитета ВЦИК в марте были переданы Дону на формирование красной гвардии, в трех эшелонах качались где-то по направлению на Царицын...
Пришло сообщение из Новочеркасска: немцы на город не пошли, но сильный офицерский отряд полковника Дроздовского, налетевший с Украины, выбил наши части в сторону Александровск-Грушевска и на Раздоры. Вечером телеграфист принес вовсе сногсшибательную депешу: «золотой эшелон» где-то у станции Гнило-Аксайская перехвачен анархистами, охрана перебита или арестована, бандиты приступили к экспроприации и дележу ценностей...
– Ну что скажешь, главком? – Не спавший три ночи кряду, метавший глазами молнии Орджоникидзе руки в карманах держал так, чтобы не видно было, какая усталость оттягивает плечи, как подрагивают пальцы. Волосы сбиты плотным колтуном, в них набилась угольная пыль, рукав коричневой гимнастерки – в мазуте. Ковалев смотрел на него обессиленными глазами и понимал, что сам тоже выглядит не лучше...
– Придется отдать последний казачий полк с батареей трехдюймовок, – сказал Ковалев. – Кого пошлем командиром, товарищ Серго? Дело не шуточное: пятнадцать миллионов золотом!
– Поеду сам, – сказал Орджоникидзе, – Где это – Гнило-Аксайская?
– Где-то за Манычем... В Великокняжеской вас еще подкрепит Дорошев, у него там должны быть отряды. А встретимся, должно, все в Царицыне.
– Держите связь через Тихорецкую, штаб Автономова, – посоветовал Орджоникидзе на прощание.
Бронепоезд с казачьим конвоем и пушками помчался на юг.
Ковалев остался с небольшой охраной в Батайске, всю ночь дежурил на телеграфе с главной своей заботой: больше недели не было никаких вестей из экспедиции Подтелкова. Последняя телеграмма была с разъезда Грачи, за Белой Калитвой, где отряд встретился с отходившими на Царицын частями Донецкого ревкома. Ефим Щаденко вроде бы советовал Подтелкову влиться в эти части. Но ввиду перегруженности железной дороги чужими эшелонами Подтелков решил выгадать время, идти на Усть-Медведицу походным порядком. И вот уже какой день экспедиция шагает где-то степными проселками к Чиру и Перелазовским хуторам, но сколько еще им шагать и как у них там дела, кто знает?
Тяжелые наступили дни. Едва только немцы захватили край области, по хуторам и станицам словно кто запалил бикфордов шнур. По окружным центрам, правда, еще держатся ревкомовские отряды, полки Селиванова, Вышкворцева, Мухоперца – по северу, в Калаче-Донском – части Детистова, в Песковатке – Степан Зотов, есть кое-кто и на Маныче, Сальских буграх, но дробно, сами по себе, почти не связанные единым командованием... Не успели, не смогли наладить связи, слаб оказался военный комиссариат, а тут – возня с Голубовым, с анархистами, черт бы их взял!
С рассветом закончилась погрузка последних штабных грузов, Ковалев передал свои заставы под общее командование Кубанской армии Автономова, можно было отправляться на Царицын.
Степь горела, слева и справа над железной дорогой вырастали черные кусты артиллерийских взрывов, пролетали чужие аэропланы. Только вблизи Тихорецкой стало тише, почувствовалась близость крупного красного штаба. Ночью миновали Белую Глину, потом Песчаный Окоп, и, чуть забрезжило, заблестели в камышах тихие, сонные воды Маныча.
«Сумеем ли тут, в самом глухом округе, собрать силы? Если уж не на германских оккупантов, так хоть на своих мятежников?» – размышлял Ковалев, с трудом раздирая пухлые, непроспавшиеся веки.
Сальский округ, издавна считавшийся наиболее привольным и богатым землей, водами, рыбной ловлей и охотой, целинным простором для конных отводов, был тем не менее самым пестрым по характеру населения во всей Донщине. Так же как в северных округах, здесь на границе донской, кубанской и калмыцкой степи преобладало «голутвевное» обедневшее казачество, сплошь и рядом батрачившее у богатых скотопромышленников и владельцев конных косяков. Много селилось и пришлого люда, стекавшегося из Царицынского уезда, Донецкого бассейна, Среднего Поволжья. По соседству с казачьими станицами и бедняцкими выселками курились калмыцкие зимовья, а по линии железной дороги, в Великокняжеской, Торговой, Котельниково, там и сям гремели всякого рода мастерские, депо, мелкие заводы и паровые мельницы, скопления рабочего люда. Сальский округ всей основной массой населения поддерживал Советскую власть, здесь почти стихийно, без наезжих комиссаров возникали станичные, слободские, хуторские совдепы и красногвардейские отряды при них. Сюда еще не докатилась волна мятежей, но именно в здешней степи волком кружил отряд атамана Попова в полторы тысячи сабель...
Дорошев ждал Ковалева в Великокняжеской, успел побывать в отрядах, провести митинги, знал обстановку.
– Главная беда – партизанщина. Не успели мы все это разнузданное, самостийное войско превратить в регулярство, укрупнить. В этом беда, Семенович. В станице Платовской – большой отряд Никифорова, в ней есть конная сотня, а в сотне калмыцкий взвод, и все держатся сами по себе. У Корольковского завода тоже крупный отряд бывшего вахмистра Думенко, а рядом пеший – прапорщика Шевкоплясова, но про объединение не хотят и думать!
– Так это они один другому не хотят уступить, а ежели их сверху объединить? Это ж – целая дивизия!
– Вот. Надо авторитетом ЦИК и нашего Совнаркома сливать эти отряды в одну часть и сразу – присягу, чтобы никакого колобродства!
– Давай съездим на Царицын, свяжемся со штабом, договоримся о боепитании, и сразу – сюда. Если еще экспедиция Подтелкова пройдет успешно, да наберет он народу, как обещал, на целую дивизию, сразу дело поправим! Эх, Ипполит, родной ты мой, как хочется к уборке хлеба всю заваруху кончить, мирными делами заняться. Хотя бы на свободной от немцев территории... Между прочим, от товарища Серго какие известия?
– Вроде бы под Торговой настиг хвостовой эшелон, но там их – три. До самого Царицына бандитская катавасия!
– Ничего! Только бы Подтелков голос подал с верхов, а там у нас дело пойдет! – снова воодушевился Ковалев.
Председателю ЦИКа и главкому Донской республики Виктору Ковалеву, при его тяжелой и вполне возмужавшей судьбе, было всего тридцать пять лет, и, как всякий нестарый, только еще вступивший в зрелость человек, он был в душе оптимистом и жил надеждами. Тому способствовала его душевная, гражданская вера: ведь справедливое дело несем на своих плечах, в слабых и, может, даже неумелых руках, – да неужели же не осилит оно, святое и правое дело, эту темную, вставшую над родным краем тучу беды и вражды человеческой?..
Относительно маршрута своей экспедиции Федор Подтелков рассуждал правильно. Еще в вагонах, на станции Грачи, он сумел убедить членов штаба:
– Нам во что бы то ни стало надо из этого тупика выскочить первыми! Тут дорог каждый день и час!.. Зараз не только немцы жмут на отступающие эшелоны Щаденко и Ворошилова, но вся контра повстанческая под натиском донецких частей может хлынуть в северные станицы и опередить всю нашу мобилизацию. А вырвемся из этой кутерьмы, опередим контрреволюционный вал, то за несколько дней наверстаем упущенное, наберем десяток полков. У нас в Усть-Хопре все фронтовики – красные!
Сначала все шло хорошо. На водораздельной возвышенности между Полой Калитвой и Чиром степь была пустынна, населенных мест мало, и Карпово-Обрывской и Сарино-Голодаевской волостях мужики и хохлы-тавричане красных казаков встречали хлебом солью. Охотно меняли лошадей в запряжках проезжающей комиссии Донисполкома. Подтелков, излишне взвинченный и горячий в этом путешествии, радовался:
– Прорвемся, не могёт быть! Скоро уж и Чир переедем, а там – наш родимый Уст-Медведицкий округ! Алаев, Петя, садись ко мне в тарантас, покалякаем!
Из села Полякова на рассвете послали нарочного-квартирьера на хутор Рубашкин, чтобы там приготовили сменных лошадей для отряда. Погода вдруг начала дурнеть, завернуло холодным ветром, и вслед за тем пошел нудный, мелкий, обложной дождь. На колеса бричек черным войлоком стала накручиваться земля, дорога разом отяжелела.
При спуске в хутор, несмотря на холод и ненастье, встретилась парная упряжка. Подтелков, шагавший при первой бричке, разглядел сквозь холодную морось правившего лошадьми бородатого казака, а за ним – молодого, усатого, по виду фронтовика, с дородной казачкой, и удивился. На фуражках обоих мужчин белели свежие кокарды, а на плече фронтовика высунулся из-под серой попоны-накидки и урядницкий погон.
Поздоровались, Подтелков вроде бы по-свойски кивнул молодому:
– Куда путь держим при всем параде? На императорский смотр?
Казак (он полулежал на коленях жены, воткнув локоть в мякоть сенной подстилки) привстал и свесил ноги с наплески. Оправил на плече попону, и так неосмотрительно высунувшийся погон исчез с глаз.
– Не до смотров уж, полчок, только что из борозды вылезли! – сказал он с видимым неудовольствием и оглядел мутный край горизонта. – Думали передохнуть и от пашни, и от осточертевших винтовок, а тут новое наказание! Прилетают вчера нарочные из Краснокутской, говорят, что Советскую власть ныне закрыли, судить будут ее громогласно, и с тем при оружии скликают всех в станицу. А кто не поедет, тому – шомполов ниже поясницы. Это как?
Краснощекая бабенка при этих словах хихикнула, а Подтелков страдальчески сощурился. Дождь лепил в глаза, но Подтелков перестал уже чувствовать и частую дробь капель, и холод, мгновенно пробравшийся за ворот и засквозивший между лопаток.
– Как «закрыли Советскую власть»? Кто? – как бы не понимая происходящего, спросил он.
– Есаул Сонин и еще там некоторые, атамана вроде посадили обратно в станичном правлении...
– Ты б меньше говорил, дуралей, – сказал бородатый старик, сидя боком на передке. – Не видишь, на них звезды антихристовы! Вон весь хутор уже всполошился, скачут в разные стороны!
Подтелков оглядел окрестность и увидел в слабом дождевом мареве движение хуторян. По улицам хутора, занявшего просторную низину, сновали подводы, несколько повозок вскачь неслись на гору по ту сторону дворов...
– Тикают! – подтвердил и казак, снова устраиваясь на колени жены, обминая сено. – Говорят, какой-то Подтелкин весь Новочеркасск ограбил, церкви разорил, а теперь и в нашу степь ударился, идет вроде с китайцами, всех православных режет. Такие дела, братцы...
– Да цыц, проклятый! – вовсе рассердился старик и, взмахнув кнутом, ударил по мокрым лошадям. Они дернули повозку, понесли, а старик все задавал им кнута и, постоянно оглядываясь, что-то кричал на разговорчивого казачишку.
Подошел Кривошлыков, трясущийся от лихорадки и сырости.
– А ведь это от нас народ разбегается, Федор... И Песковатсков наш куда-то пропал не случайно. Черт его знает, опережает нас все же повстанческая волна!
– Главное, хутор-то не казачий, таврический, а тоже все вроде как перебесились, – хмуро сказал Подтелков. Лицо его как-то сразу осунулось и почернело. Он мог предполагать любое вражеское вероломство в пути, но его потрясло, как видно, глуповатое равнодушие болтливого казака, с которым он говорил о Советской власти, и немилосердие людской молвы о нем, Подтелкове.
– Еще, как говорится, один сурприз, – мрачно сказал он Кривошлыкову, и в глазах его сгустилась какая-то виноватость. – Не успели домой вернуться, а там уж про нас черт те что брешут, грабителями считают... Ты слыхал?
– Они тут спокон века в домовых и чертей верили, чего с них взять? – успокоил его на этот раз Кривошлыков, всегда немилосердный в дружеской перепалке. – Тут надо не один десяток лет культуру прививать, а мы с тобой сколько дней у власти состоим? Давай трогать в хутор, что ж тут стоять без толку...
Усталый отряд остановился в крайних дворах. Подошедшие старики объяснили, что еще утром тут проскакали верховые, сказали, что идет но шляху банда разбойников, грабит хутора и забирает с собой молодых баб на утеху. Называется банда «Анархией», флаг у нее поддельный, красный, и никакого сладу с ней нету, одно спасение -собираться в конные отряды и отбиваться, пока будут силы...
– Да что же они, сволочи, белены объелись?! – негодуя, закричал Подтелков. – И вы вроде малых детей, старые черти! Во всякую небылицу верите! Куда нашего вестового казака дели? Убили небось?
Двое передних стариков с белыми бородами вроде попятились, сняли свои тавричанские шляпы из рыжего войлока, а третий, как видно казачок, в замызганной фуражке со сломанным козырьком, только бороду огладил и глаза сощурил:
– Не убивали вашего человека, гражданин хороший, а в Краснокутскую отправили под конвоем, чтоб его там хорошенько допросили. А то мало ли что! Тут много бродит всяких шаек, рази можно кому верить?
Подошел и Лагутин, уполномоченный Казачьего отдела ВЦИК, стал рядом с Подтелковым, взял его за руку, стараясь успокоить. Спросил казака, щурившего острые глаза:
– Что ж вы так, милые мои, по ветру кружите, как, скажи, какая колючка «перекати-поле»... Сами Советскую власть ставили, выбирали в Новочеркасске, а теперь – галопом от нее? Были же и ваши выборные на съезде.
Казак потупился, чувствуя большую силу за говорившим, но тут вступил в разговор освоившийся мужичок. Лопотал по-хохлацки, то и дело кивая в сторону Краснокутской станицы.
– Булы-то воны булы, и Совет досе е, тилькы биля Совета и атаман окружной е и обратно вийско сбирае, його там вже богацко! Балакалы ще казаки, добре маракувалы и схилылись до атамана. Таки дела!
– «Схилылись воны до атамана!» – с ненавистью повторил Кривошлыков. – Ну, что теперь делать? Дорога, видать, нам перекрыта, надо обратно двигать, к железной колее.
После короткого совещания решили оставить хутор и двигаться в обратный путь, к ближайшей станции.
Люди и лошади тяжело пошли на подъем, грязь липла на подошвы, накручивалась на колеса. Мокрые травы никли по обочинам узкого проселка, солнце не показывалось на взбаламученном небе. Вместе с дождем к сумеркам начал даже и перепархивать реденький снежок.
– Май, а шубу не снимай! – шутил Иван Лагутин, шагавший вместе с Подтелковым. Тот сам был мрачнее ненастного неба, отмалчивался. Силы людей были уже на исходе, требовался отдых, а по краю степи, по-за курганами стали мелькать то и дело конные казаки, то группами, то в одиночку. Брали до поры «в назир», а может быть, уже готовили и нападение.
– По-новому май, а по-старому еще апрель, – сказал кто-то. И кто-то добавил многозначительно.
– Завтра – пасха вроде бы...
В полночь заблестели впереди реденькие огоньки хутора Калашникова. Следовало бы пройти этот хутор без остановки. Подтелков даже сделал такое распоряжение, но, едва добравшись до первых хат, люди попадали кто где мог, в телеги, под телегами, едва подстелив сена, в сараях и тех домах, где еще горели окна, куда проезжих впустили на ночлег. Впускали, правда, без ропота: ночь-то была последняя перед пасхой, самым большим праздником года, а погода – ненастная. Всякому путнику следовало дать кров.
Рассвет был ясный и чистый, облака ушли, солнце как только выглянуло из-за бугра, так и засиял мир белой, студеной росой, туман начал истаивать, прятаться в сады, сползать в балки. И такой безмятежностью и внутренней тишиной был полон мир, так зелена и отрадна была степь, не верилось, что есть на земле черная ненависть, зависть и коварство, угрюмая засада за тем самым полынным бугром, из-за которого вышло яростное, майское солнце. Казаки умывались во дворах колодезной водой, фыркали, плескались, поминали про пасхальный день, кое-кто, больше в шутку, пробовал христосоваться. Отдохнувшие за ночь лошади громко хрумкали молодую сочную траву у плетней, сбривая начисто густой, стелющийся спорыш, вездесущую придорожную травку-муравку.
– Истинно – светлое Христово воскресенье... – задумчиво говорил кто-то около бывшего исполкома, перевертывая нестираные, в ржавых разводах, местами уже протертые портянки. – Погодка-то, как по заказу!
Наскоро перекусив. Подтелков и Лагутин созвали членов штаба на совет. Пришли комиссары Орлов и Кирста, Алаев и Мрыхин, бочком протиснулся в двери бедняцкого дома Френкель.
Многие считали, что заново придется обсудить дальнейший маршрут, но Подтелков хмуро оглядел всех невыспавшимися глазами и коротко сообщил, что идти больше некуда: хутор со всех сторон окружен повстанцами. Тем временем во двор, сторожко оглядываясь, вошел ветхий, сивый до желтизны и какой-то вылинявший старик-казак и, никем не задерживаемый, открыл дверь в штабную хату.
У порога еще потоптался, как нищий, выбирая уголок для посоха и сумм, и перекрестился на святой угол:
– Здорово ночевали в нашем хуторе... С прибытием. Кто вы будете – люди или кто?
Члены штаба переглянулись, удивленные такой младенческой простотой старца. Люди не местные, вроде полтавца Кирсты или завзятого горожанина Френкеля, насторожились и, возможно, обиделись на такую злобноватую простоту, но станичников она даже как-то и растрогала: дедок-то темный, как головешка из печки, что с него спросить? Петр Алаев дружелюбно засмеялся в ответ:
– Да то хто ж мы, по обличью не видно, что ли? – спрятал свою образованность, насколько мог, припомнил станичные словечки и выставил напоказ. – Садись, отец, к столу по-свойски. Садись, не сумлевайся!
Подтелков тут же нацедил из-под самоварного крана чайку, подвинул стакан на край стола. Ясно же было, что старик этот – разведчик либо парламентер.
– Закуси, отец, – сказал Подтелков душевно и придвинул еще тарелку с ломтями хлеба и сала. – Мы, конечно, праздник нынешний не празднуем, но люди православные, гостю завсегда рады. Бери вот на здоровье... А то про нас тут разные байки и басни пущают, так то – враги человечьи, отец.
– Да то как жа! – охотно закивал дед сивой головой. – Идет, сказать, смущение промеж людей, господа-офицеры подняли народ, гутарють, что вы бандиты... А другие свое: мол, и среди них много своих природных казаков, надо бы разузнать... Ну, думаю, мне и иттить. Я, сынки, был при царе атаманом хутора Андреевского, никого не забижал, а как фронтовики вернулись домой, то взяли и голоснули меня же и председателем хутора. Так я ныне, прям скажу, как един бог в двух лицах, и не боюся. Стар дюжа стал, бояться мне нечего, свое прожил, да и ежли надо пожертвовать собой за-ради знания правды для хуторного общества, то чего ж... И это можно, как сказано у нас от сотворения мира: сам, поганец, погибай, а товарищев выручай!
Многие засмеялись, а Подтелков только руками развел:
– Нешто, отец, мы так переменились, что и свое казачье обличие потеряли? Мы по делам следуем в Усть-Медведицкий округ, а часть с нами же едет по домам. Вот, сказать, я – с хутора Крутовского Усть-Хоперской станицы... И другие. Нас послал исполком областного казачьего съезда, а всякая власть, как и раньше по станицам говорили, – от бога. Хорошо ли ваши казаки делают, что нам же и переступили дорогу?
– Оно-то так... А то, видишь, чего нам набрехали эти приезжие офицерья! Ать, поганцы! Так я, это, зараз пойду и скажу нашим. А то ведь мы чуть не устроили кровопролития!
– Людей-то много у вас? – спросил Кривошлыков осторожно и к месту.
Дед оглянулся на него детскими, вылинявшими до прозрачности глазами:
– Мно-о-ога! Одних офицерьев за сорок человек, поганцев! Понаехало их... Вчера ишо засаду на вас делали, собирались порубить, а урядник наш – нет!..
Алаев провожал деда под локоть, у порога оглянулся в сторону Подтелкова:
– Пройду-ка я до ихних пикетов, может, растолкую, кто мы и откуда.
Подтелков распустил штаб и приказал занять круговую оборону, поставить наизготовку тачанку с пулеметом. Дело было не шуточное, если одних офицеров там понаехало до полусотни.
– Нынче они на нас не кинутся, – сказал мигулинец Мрыхин. – На светлое Христово воскресенье да чтобы кровь лить?
– Занимайте оборону, а там поглядим, – угрюмо повторил Подтелков, со вчерашнего дня носивший в себе надсадную душевную боль и обиду за ложные слухи по хуторам. – Скорей всего начнут уламывать нас к мирной сдаче, а завтра для всех уже будний день...
Задержал в хате Арона Френкеля, отвел в дальний угол. И проговорил тихо, до предела сбавив привычный басок:
– Слухай, чего скажу, товарищ Френкель... Дело наше аховое. Бой принять мы не можем, у нас людей неполная сотня, а по-за буграми цельная дивизия в засаде. Так? Выход у меня один: тянуть канитель с переговорами до завтра, выторговать условия... Пойми правильно! Ежели бой начать – всех порубят. Если же добром договориться, за себя и двух-трех комиссаров не ручаюсь, расстреляют, возможно, ну, самую головку, но другие-то живы будут. Живы! Вот какая планида выглядывает нам из-за тех бугров...
Арон ничего не мог предложить со своей стороны, слушал со вниманием, чуя горячую руку Подтелкова на своем плечо. Пальцы сжались плотнее, даже больно стало, но Арон не шевельнулся.
– Я это понял еще вчера... – сказал Подтелков. – Дело-то невеселое, особо для тебя, Арон Аврамович, тебя они уже рядом со мной до разу определят. А потому я тебе поручаю особое задание! сейчас же скрыться где-нибудь в крайней хате, какая победней! Ага, выбери, какая у балочки, поближе к тернам. И, чуть стемнеет, беги, Ароша, в Карпово-Обрывскую или в Саринову волость, там есть почта... Надо же дать знать по окружности, в какое положение мы попали!
И у самой двери еще посоветовал:
– Тут некоторые сметливые казачки уже поняли, что надо тикать. Да не насмеливаются, стыдно. Так ты скажи Алексею Фролову: мол, сам Федор Григорьич такое дело поручает вам... Тебе и ему – сообчить своим про нашу беду. Вот, – и обнял Френкеля. – Давай поцелуемся на прощание, дорогой мой товарищ Арон. А то – мало ли...
Каждый понимал, что свидеться вряд ли удастся, да и ускользнуть в этих условиях было почти что невозможно.
На дальнем проулке хутора меж тем появилась группа всадников с белым флагом, парламентеры с той стороны. Подтелков пошел к ним навстречу.
И с этой минуты он как бы отъединился душой от всего того, что происходило с ним и вокруг него, отдавшись одному чувству – чувству тупого, тягостного и безнадежного ожидания. Как удастся Френкелю и Фролову выбраться из окруженного хутора, он не думал. Он просто верил, что помощь должна подойти. Многие не узнавали его, настолько он стал сговорчив и покладист с противной стороной.
Парламентеры доставили Подтелкову личную записку от его сослуживца по германской войне, есаула Спиридонова. Офицер предлагал сдать оружие, потому что-де население боится и не доверяет красному отряду, потому что были уже случаи по хуторам... А за это доверие и фронтовое братство он, Спиридонов, клянется проводить отряд Подтелкова без всякого ущерба до границ Усть-Медведицкой станицы, то есть до расположения красных сил...
Записка была подлая, отчасти льстивая, доверия не вызывала, но Подтелков посмотрел на Лагутина и Кривошлыкова и покорно сказал:
– Чего ж... Надо подумать. Он хотя и беспартийный был, но вояка хороший и слово всегда держал крепко.
– За-ради пасхального дня-то! Не будут ж одни фронтовики других казнить! – закричал Мрыхин. – Надо соглашаться, Федор Григорьевич, да раскрыть казакам глаза!
Выхода не было, и Подтелков пошел на переговоры с есаулом Спиридоновым, полагая, что на этом выиграет хотя бы одни сутки – время, достаточное для оповещения какой-либо ближайшей станции на железной дороге, ближайшей красной части.
...Разоруженный отряд повстанцы пригнали пешком в соседний хутор Пономарев и на ночь заперли в большом сарае-каретнике. Стены были забраны толстым горбылем и плохо пригнанными пластинами, всю ночь в щели проливался мертвенный лунный свет. Избитые в дороге прикладами, уже полуживые казаки-подтелковцы тщетно просили воды, пищи. Слышно было, как неподалеку с первой зарницей загомонили и зазвякали лопатами конвойные, начали копать большую, общую могилу.
Лунный свет истаивал в рассветной зыби, таяли надежды людей. Подтелков сидел на истертой соломенной трухе спиной к стене, уперев локти в колени, и сдавливал руками виски, будто боялся, что его череп лопнет от непомерного внутреннего усилия. Человек не мог понять, что же такое произошло в жизни за последние четыре месяца – всего четыре! – что его родные фронтовики откачнулись от избранной ими власти, пошли овечьим гуртом за козлищами в золотых погонах. Или мирское море подвержено такому же беспорядочному волнению, как и море природное, открытое всем ветрам? Почему они подняли его тысячью рук, Подтелкова, дали ему едва ли не верховную власть на Дону и тут же отступились, будто он подвел их в чем-то, не оправдал надежд? Но разве он предавал их, обманул в чем-нибудь?..
В углу кто-то неразборчиво ругал его и Лагутина за опрометчивое решение отдаляться от линии железной дороги, поминал станцию Грачи. Другой сетовал, что в отряде не нашлось ни одного путного строевого командира, который бы взял на себя дерзкую задачу уходить от повстанцев под прикрытием тачанки с пулеметом, цинков-то было достаточно, а на пулемет нынешние вояки с ближних хуторов вряд ли пошли бы, недаром они так подло склоняли экспедицию к перемирию и сдаче оружия. Третий матерно ругал самого бога спасителя и отрекался от веры, ибо ничего более вероломного не совершалось в этот день – светлого Христова воскресенья – с самого Ноева потопа... Кто-то всхлипывал и, прерываемый соседями, упреками ближних, сморкался и тяжко вздыхал. Метр Алаев, израсходовавший все силы в бесплодных попытках разубедить казаков оцепления, растолковать им истину и символ веры новой власти, полулежал на раскинутой шинели, держал на руке голову избитого до потери сознания михайловского председателя Гаврилы Ткачева. Весь лик его превратился в один сплошной кровоподтек, запекшийся рот то и дело издавал какие-то хрипящие, неясные звуки, но Алаеву было не до него, он, как и Подтелков, вслушивался в ночь, ждал неведомой помощи со стороны, хотя и понимал, что никакой выручки ждать в этих условиях не приходилось... Ткачев забылся на время, потом ворохнулся и застонал, и Алаев, склонясь, начал его успокаивать.
– Пивка бы... – наконец удалось Ткачеву произвести одеревенелыми, чужими губами, и он опять замолчал, давясь загустевшей, кровавой слюной.
– Немного ж тебе надо напоследок, Гаврюша!.. Совсем немного! – хриплым шепотом сказал Алаев, чувствуя в горле спазму сладостного, горького и отчаянного рыдания. Отпустил голову Ткачева, скорчившись и закручивая голову шинельной тужуркой, боролся сам с собой, с готовым вырваться из души рыданием, обезоруживающим страхом и паникой перед близким уже рассветом.
Но люди, как много и как ничтожно мало надо каждому из них в жизни, можно ли подумать об этом было еще неделю, день, час тому назад?..
Около широкой щели в сарае, в полосе бледного света, гнулся Михаил Кривошлыков. Сильно мусоля огрызок химического карандаша, он писал на клочке бумаги последнюю весточку домой, отцу и матери, на хутор Горбатов Еланской станицы на той стороне Дона. Верил, что удастся передать из рук в руки какому-нибудь сговорчивому казаку из конвоиров. Писал долго, часто отрывая карандаш от мятой бумажки и вздыхая:
«Папаша, мама, дедушка, бабуня, Наташа, Ваня и все родные. Я пошел бороться за правду до конца. Беря в плен, нас обманули и убивают обезоруженных. Но вы не горюйте, не плачьте. Я умираю и верю, что правду не убьют, а наши страдания искупятся кровью... Прощайте навсегда. Любящий вас Миша.
Папаша, когда все утишится, то напишите письмо моей невесте: село Волки Полтавской губернии, Степаниде Степановне Самойленко. Напишите, что я не мог выполнить обещание встретиться с ней».
К яме, вырытой перед рассветом, выводили из сарая по десять человек. Первыми вышли Подтелков и Кривошлыков, врач-казак станицы Казанской Какурин, а за ними Алексей Орлов, комиссар отряда, и молодой Костя Кирста в вышитой рубашке.
Скоро подошла очередь Алаева и Ткачева, они обнялись напоследок, члены одного, Усть-Медведицкого ревкома, – бывший учитель, офицер, нарком Донской республики, простодушный от рождения и доверчивый через край Петр и мастеровой Михайловской слободы из обедневших казаков, жестокий ликом и душою Гаврил Ткачев... Их развели, растолкали прикладами, какой-то казак-конвоир больно ткнул Алаева в плечо, направляя к выходу.
Не заметили они мостика через грязную канавку, но заметили оба, какое было небо в этот прощальный час. Над хуторским выгоном меркло, зыбилось нечто хмарное и непроглядное. Солнце покинуло небосвод, и мир будто съежился в час великого и необратимого затмения. А на ближнем изволоке, близ виселичной перекладины, пристроенной концами в развилках сухих тополей, маячили неподвижные фигуры Подтелкова и Кривошлыкова. Их еще не расстреляли. Один был в распахнутой тужурке, другой в неизменной длинной шинели... Им разрешили, видно, стоять до тех пор, пока управятся с другими.
Алаев и Ткачев стали у края ямы, как и другие в их группе, в одном белье. Перед ними выравнивались конвойные с винтовками наперевес. Толпа хуторян за спинами конвоя расступалась и редела, какая-то бабенка с воплем бежала к хутору, прижимая к груди дитя и закрывая ладонью ему глаза...
Петр нашел глазами высокую фигуру есаула Спиридонова, обманувшего его и Подтелкова и теперь возглавлявшего всю группу карателей. Ждал с жадностью и прямотой встретиться с ним взглядом... Обвиняли они, старые, заслуженные якобы офицеры, в недостатке культуры и в грубости Федора Подтелкова и многих рядовых казаков, но с чем сравнить подлое вероломство самих, вчерашний и нынешний кровавый торг с совестью?
Спазма горечи и негодования вновь стискивала ему горло, сбивала дыхание. Крикнуть было нечем, да и стоял Спиридонов далековато, не обращая никакого внимания на лица и взгляды обреченных. И тут стоявший рядом Ткачев крепко выругался и толкнул Петра локтем, кивнул своим грубым, обросшим подбородком вперед: