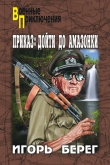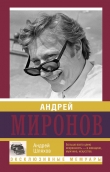Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 44 страниц)
19
Раненых в последнем рейде было немного. И фельдшерица Татьяна, которую определили в санитарную часть при штабе, понимала, что главная причина тому: стремительность мироновского набега, умелое использование пулеметных тачанок, неожиданность в действиях и планах очень талантливого командира бригады. То, что он якобы заговорен от пули, было, конечно, чистым предрассудком. Но то, что Миронову иногда просто везло, Татьяна поняла в тот самый миг, когда бросилась с перевязочной сумкой к нему в прошлом бою, после легкого ранения.
Комбриг зажимал висок носовым платком и готов был довериться с перевивкой любому санитару, но тут вывернулась с другой стороны Надежда, ставший у него чуть ли не ординарцем, и диким голосом закричала: «Прочь!» – заслонила собой Миронова. И уже после перевязки нашла Татьяну, сказала без обиняков:
– Теперь так: уважу еще раз около Миронова, пристрелю сразу. Вез предупреждения. Вот, – и положила руку на кобуру с маленьким наганом-самовзводом.
По загоревшимся глазам ее Татьяна поняла: убьет, даже не моргнет глазом. Какая-то у нее дикая, кошачья любовь к этому моложавому старику. И ничего уж тут не поделать, придется долго ждать своего часа, чтобы не промахнуться, исполнить приговор белого штаба и как-то спастись самой... Да и хватит ли сил, хватит ли воли после того, что произошло в ее жизни за последний год? Ведь она вначале приняла революцию, как выражались в интеллигентных кругах, вместе со своим возлюбленным «шла под красным знаменем», любовалась красными сотнями казаков в Екатеринодаре, и кто бы мог подумать, что в течение каких-то недель, одного-двух месяцев произойдет такой слом в жизни, такая трансформация?
Татьяна ухаживала за ранеными в походе, устраивала вместе с санитарами банные дни для легкораненых, старалась как-то забыться в тяжелых буднях войны, но душа ее была в глубоком упадке, она попросту не знала, что ей делать с собой, куда прислониться, не отказаться ли вообще от задания Щегловитова в этих условиях...
Она искрение страдала, и санитары часто видели ее плачущей за стиркой бинтов, другой мелкой работой.
Ее звали от рождения Верой, она родилась в учительской семье в маленькой приморской Анапе и теперь часто, со слезами, вспоминала этот тихий городок своего детства, взбалмошную и отчаянную подружку свою Лизу Пиленко, генеральскую дочь, ставшую после в Петербурге поэтессой Кузьминой-Караваевой, бегавшую с вечеринки на вечеринку...
Боже мой, они росли баловнями жизни, они решительно ничего не понимали в окружающем. Романтический розовый туман, какой бывает на закате солнца над морем, переполнял их мир, любимыми книжными героями их были Овод и Гарибальди, они грезили сказкой революции, символами будущего счастья! Лиза писала стишки под декадентов, у нее даже вышел целый сборник этих стихов под странным названием «Скифские черепки» – лучше бы уж назвать теперь все это «Черепки нашей былой жизни», господи. Страшно подумать, что все именно шло с такой ужасающей последовательностью к нынешнему, к расплате.
Милая Анапа, улица графа Гудовича, дом Лопаревых на Пушкинской, улица Крепостная – где вы? Переулок Пиленко, где стояли дома бывшего генерала, начальника Черноморского округа, и его многочисленной семьи, отрезал угол между пристанью и набережной, заканчивался обрывом, по которому можно было спуститься извилистой тропинкой-лесенкой к морю... А больше всего они любили играть и прятаться на старом городском кладбище, между таинственных надгробий, кованых могильных решеток, в кустах пыльного, усохшего жасмина и желтой акации, слушать в накаленном жарою воздухе тончайший звон цикад. Потом выбирались на самый край высоченного обрыва, откуда открывалось неоглядное море и где захватывало дух. Лиза-сумасбродка (с виду удивительно здоровая, розовощекая, земная) вдруг распахивала руки над морем, шептала с ужасающей решительностью: «Так хочется полета и смерти, Верка, что... Ах! Ну хочешь – прыгну?!»
Вера испуганно хватала ее за руки, умоляла не мучить ее этими припадками глупости... «В тебе очень много темного, еврейского, от мамы, – увещевала Вера, – ради бога, приди в себя, вспомни, что ты крещеная и мама крещеная». – «Ах, полно, помнишь, у Чехова: конь леченый, вор прощеный, жид крещеный, все равно – жизнь пропащая!»
Потом Лиза искала себя в петербургском свете, готовила новый сборник стихов «Ключ к тайне», бегала навязываться даже к столичному поэту с мраморным лицом и отрешенным, надменным взором, но поэт был намного старше ее, имел совесть и не принял этой жертвы. В семнадцать лет выпорхнула замуж за присяжного поверенного Кузьмина-Караваева (сына известного думского деятеля) и с первого дня революции разошлась со своим адвокатом, чтобы броситься в объятия председателя Анапского ревкома большевика Протанова.
Боже мой, после Петербурга, встреч с Блоком, Алексеем Толстым, поездок через морской пролив в Коктебель к Волошину – прильнуть к черной сатиновой рубашке матроса-большевика?..
Впрочем, обо всем этом Вера узнала много позже, а пока что и она, воспламененная революционным пожаром, влюбилась в юного художника при Екатеринодарском ревкоме Вадима Саковича, Вадика, Вадю, мыслителя и теоретика искусства, который был всего на два года старше ее, Веры.
Они ходили в атаки под городом, когда отряды Автономова и Сорокина отбивались от корниловцев, и близ сенного рынка Вадик даже учил ее стрелять из кавалерийского карабина по белым, просочившимся в город... Потом с балкона багарсуковского дома они приветствовали красочный и впечатляющий на рад войск после победы над «добровольцами» Корнилова, и Вадим нервно и больно сжимал ее руку, шептал зачарованно: «Смотри: это грядет будущее мира! Смотри, смотри, это же прекрасно, это – на всю жизнь!..»
И было на что посмотреть. Вся Красная была запружена кавалерией, блестели медные трубы огромного военного оркестра, красное знамя с золотыми позументами в окружении конвойных медленно проплывало по улице и полыхало под солнцем. За ним ехал Сорокин, бронзоволицый герой этих полков, в темно-синей черкеске с красным башлыком, и держал перед собой обнаженную шашку, салютуя перед всем народом.
Что за красота эти всадники в серых черкесках, с золотым шитьем на газырях, в ухарски сбитых на затылок кубанках! Какие загорелые, дубленые, ражие лица, какая вынимающая душу строевая песня у них! Под гармонь и рявкающие трубы дружно, в несколько сот глоток, озорно и разухабисто рвали по слогам лихой припев «Крыниченки»:
Мар-р-руся, раз —
два – три – калина,
чор-нявая дивчина,
В саду ягоду рва-ла!..
Рядом с Вадимом и Верой стояла, тихо и загадочно улыбаясь, чернявая их подружка Роза Голобородько. Они переглядывались с Вадей и хохотали, принимая весь праздник и разухабистую песню сорокинской гвардии на свой счет, в актив своей молодости и красоты и даже своего будущего. За ними, на балконе дома, заменявшем трибуну, стояли со строгими, важными лицами, как бы присягая новым битвам и победам, председатель совнаркома Ян Полуян и главком Кубани Автономов. Много комиссаров, много веселых глаз, солнца и света.
Вадим начал писать свою, как он говорил, главную картину «Разгром белой гвардии на подступах к Екатеринодару» – настолько все казалось устойчивым и, уж конечно, необратимым. И вдруг как снег на голову – измена и бунт Автономова! Статьи в газетах, шум в политпросвете и наробразе, где работала Вера. Настоящая война со штабом в Тихорецкой, перспектива общего разлада и расстрелов... Вера не понимала, в чем дело, допытывалась от Вадима правды. Он успокаивал и даже горячился: «Автономов не прав, он не хочет наступать на Батайск и Ростов, он боится немцев! Отвергает мировую революцию из-за нехватки средств якобы. И потом, Вера, он вообще областной бонапартик, это для нас очень опасно... Так прямо сказал на исполкоме председатель Рубин, и его поддержал товарищ Крайний. На место Автономова назначен товарищ Калнин, командир 3-го латышского полка. Скоро мы начнем громить оккупантов так, что с них перо полетит!»
Вадим добивался, чтобы его отправили в Ейск, в передовой десантный отряд морской пехоты... «А ты все обдумал, Вадик, не подведут эти новые товарищи, ну, Рубин, Крайний-Шнейдерман, Рожанский? Ведь им каждому – по двадцать лет, мы с тобой и то старше...» Вадим отвечал серьезно, с пониманием дела: «Ну что ты, Вера, они – серьезные люди, интеллигенты в помыслах и борцы за идею!..»
Сводной десантной дивизией в Ейске командовал юный Сигизмунд Клово, друг нового главкома Калнина, в штабе царствовал щеголеватый и пронзительный австрияк Прусс, в политотделе сидел юноша Гернштейн, немного рыхловатый в движениях, но вдумчивый работник.
Более шести тысяч красноармейцев высадились с катеров и барж на июньском рассвете под Таганрогом, в тылу немцев. Вадим и Вера, сопровождавшая его в этом творческом вояже к «средоточию битвы», шли в передних рядах атакующих, около самого знамени... Но немцев кто-то заранее предупредил – весь десант сразу же попал под прицельный пулеметно-орудийный огонь. Орудия били прямой наводкой, засыпали красных бойцов шрапнелью.
Это был ад, какое-то нелепое убийство целой дивизии. Сразу же раздались крики об измене (наверное, потому, что штаб вместе с командующим Клово и Гернштейном не успели высадиться на берег и теперь с баржи наблюдали в бинокли гибель своего войска). Бойцы метались на гладкой, лишенной укрытий местности, словно на горячей сковороде... Вадим потерял человеческий облик и плакал, не зная, как спасти себя и ее, свою молодую спутницу. Пропадал, главное, художественный замысел его картины! Немецкие пушки были в версте, но никто но думал их атаковать, нелепое избиение продолжалось бесконечно долго. Вера не видела крупного осколка, который снес Вадиму полчерепа, но красно-белесая мозговая жижа плеснула ей в лицо, она вскрикнула а ужасе и потеряла сознание.
После говорили, что была у нее и контузия от близкого разрыва.
Всех раненых, оглушенных, смятых душевно, разоруженных бойцов немцы передали по соглашению карателям генерала Краснова. И началась другая кровавая оргия, стыд и позор всей нации, когда одни люди творят немыслимо жестокую расправу над другими, сломленными и безоружными...
Возможно, ее бы расстреляли, после того как она прямо высказала все это Персиянову, зверю в погонах полковника. Но ее не расстреляли, почему-то вступился есаул Скобцов, член Донского правительства, близкий самому атаману, и взял Веру на поруки...
После все разъяснилось.
Этот Скобцов был назначен раньше председателем трибунала в Анапе, когда судили весь большевистский ревком, захваченный белыми. Он-то и спас от казни Лизу Пиленко (точнее, Кузьмину-Караваеву) и женился на ней. И теперь случай, вмешательство старой девической дружбы помогли Вере вырваться из лап карателей.
Но – ненадолго.
С Лизой виделись только один раз, поплакали, есаул Скобцов отправлял уже свою семью подальше в тыл, в Поти, затем в Тифлис, а Верой занялась «по-доброму» контрразведка, поручик Щегловитов. Ей предложили, во искупление прежнего «греха с красными», сложную работу, ради которой пришлось переменить имя. Лиза Кузьмина-Караваева, кажется, не писала больше декадентских стихов, оставались от всей их жизни одни «скифские черепки»...
Боже, где ты, тихая Анапа, серые от пыли акации и кусты вокруг кладбищенских плит, улица генерала Гудовича, памятная скамья у дома на Крепостной?
Но мужчины, дряни, куда же завели они своих женщин?.. Самым порядочным человеком был пока что есаул Данила Скобцов: он, по крайности, семью свою не подвергал прямой опасности, отправил в глухой тыл... О чем все они думали, когда полагались на двадцатилетних авантюристов, борцов «за идею мировой революции» за чужой счет, да еще «интеллигентных с виду»?
Поздно вечером, при керосиновой лампе с бумажным абажуром, у которого медленно выгорала серединная кромка, обугливалась на глазах, Татьяна-Вера дежурила в полевом лазарете, размещенном в каком-то заброшенном доме. Грустила у столика с лекарствами в небольшой комнатке-боковушке. И тут вошел хорошо побритый, статный и чем-то опечаленный начальник штаба Сдобнов. Она знала, что он бывший казачий есаул, да это и с виду можно было определить – по выправке и поставу головы, развороту плеч. За окнами было темно, где-то на другом конце хутора взлаивала собака, вечор был почему-то знойный, как в июле.
– О чем грустите, Таня? – спросил Сдобнов, сразу определив по ее виду некую минорность настроения.
– У вас дело ко мне? – сухо спросила она, отталкивая глазами его слишком пристрастный взгляд.
– Как же без дела. Пришел на прием, по нездоровию души. Сердце что-то расшалилось, как на непогоду. В самом деле, саднит как-то...
– Это бывает...
– Так не поставите ли, право, горчичник? Это – рядом, – скосил Илларион Сдобнов смеющиеся глаза на дверь.
– Какие уж тут горчичники, когда и марганцовки нету. Какой-то дрянью обеззараживаем раны...
– Тогда, может... водочный компресс? – пошутил Сдобнов настойчиво.
Татьяна взглянула исподлобья с настороженностью пленницы и вдруг сдалась:
– Отчего же. Если есть... водка.
– Вообще-то у нас запрещено приказом. Но на этот случаи найдется.
Илларион Сдобнов взял сестру милосердия под руку, взял мягко и ласково, и вывел из лазаретной на улицу.
Когда подошли к неярко освещенному окну его комнаты, за плетневой изгородью палисадника, она остановилась вдруг и сказала тоном заговорщицы:
– Послушайте... Все говорят, что при чересчур живом и стремительном комбриге Миронове специально держат мягкого и сверхосторожного начштаба Сдобнова... А про нас с Надеждой прямо говорят, что мы-де вражеские шпионки. Как же это... нынешнее вот... совместить?
Илларион ваял ее твердо и бесповоротно за слабые плечи и повернул лицом к молодой луне. Сказал вполушепот, глаза – в глаза, сразу перейдя на «ты»:
– Ну какая ты шпионка, Таня! Ты... просто молодая, черненькая ласточка-касатушка со сломанным крылышком... Завтра... – Тут Илларион обнял ее плотнее и поцеловал в горячие, горьковатые от пота губы. Договорил уже после, когда входили в темный чулан дома: – Завтра почистишь перышки и... снова взлетишь, как новая.
В комнате горела пригашенная лампа-десятилинейка, белая занавеска колыхнулась в раскрытом окне, когда закрывали дверь, и вновь повисла от безветрия и духоты.
Татьяна села на мягкую кровать с лоскутным одеялом, разведя руки и упираясь ими в мягкое. В темных глазах ее застыло тревожное любопытство. Смотрела снизу вверх на Сдобнова, снимавшего портупею с шашкой.
– В самом деле?.. Так-таки и суждено было... встретиться?
– Суждено, – сказал Илларион и поднял ее за тонкие руки, прижал к себе...
Проснулась Татьяна в его комнате очень рано, почти на рассвете, чтобы уйти незаметно, минуя чужие глаза. Но Сдобнова уже не было, а на церковной площади трубач играл сбор.
Летучий рейд мироновской конницы успешно продолжался, шли к станции Себряково.
ДОКУМЕНТЫ
Из воспоминаний комиссара Е. А. Трифонова
Сухим костром полыхают боевые действия Миронова на нашем восточном фланге – вспыхивают и прогорают. Там, под Еланью, ведет свои странные операции Миронов, командир красной казачьей дивизии. Он бывший донской войсковой старшина, и кочевой романтизм бродит в его угарной крови. Непостижима степная стратегия красного атамана... Непостижима и кажется безумной.
Безумными кажутся и войска Миронова, его конные таборы. То рассеиваются, как дым, ряды мироновцев – бойцы, закинув пику за плечо и гнусавя заунывную песню, разъезжаются по своим хуторам и станицам, оставляя одинокого начдива со штабом на открытых позициях. То вновь толпы конных наползают по всем балкам к мироновскому дивизионному значку[40]40
Бражнев (Трифонов) Е. Каленая тропа. – М.; Л., 1932. – С. 5.
[Закрыть].
20
Бывший уездный городок Балашов, удобно расположенный на скрещении железных дорог Тамбов – Камышин и Поворино – Ртищево, приказом РВС Южного фронта был определен местом формирования штабов только что образованной 9-й Красной армии. Носович временно задержипался здесь для передачи дел начальнику штаба армии и заодно, как вновь назначенный начштаба фронта, познакомиться с ожидавшимся со дня на день новым командармом 9-й, бывшим председателем Высшей аттестационной комиссии РККА Егоровым.
В первых числах октября золотилось над прихоперскими тополевыми займищами тихое бабье лето. В осеннем безветрии оседали на порыжевшую траву, на иссохшие цветники обывательских палисадников паутина и огненно-краевые листья осин. Окна штаба распахнуты, одни работники – военной инспекции Подвойского – свою работу окончательно свернули, готовились выезжать вслед за своим начальником, другие – прибывающие сотрудники армейского штаба – еще никакой работы не начали, царил в полупустых комнатах необычный для военной поры умиротворяющий покой.
Носович сидел в своем кабинете, у раскрытого окна, в последний раз просматривал немногие бумажки, сохранившиеся в сейфе, вздыхал, шевелил большими щетинистыми усами, усмехался, думал... Спешить с отъездом в Козлов не следовало, судьба всей нынешней схватки должна решиться в ближайшие месяцы именно здесь, между Борисоглебском и Царицыном, на стыке фронтов 8-й и 9-й армий. Только отсюда можно было начинать главный поход объединенных армий Краснова и Деникина на Москву...
На крыльце громко протопали кованые каблуки, открылась дверь, вошел небольшой стремительный человек в черной куртке и кожаной, так называемой комиссарской, фуражке с красноэмалевой звездочкой, с сухощавым лицом и дерзкими глазами. Козырнул и резко шагнул от двери, протягивая руку для пожатия... Носович близоруко щурился, не доверяя глазам. Затем согнутой в локте рукой, вывернутой ладонью, словно от света, загородился от вошедшего и, сказав: «Подождите минуту», притянул створки окна, опустил шпингалеты.
Вошедший откровенно рассмеялся, и тогда только Носович пожал протянутую руку. Сказал с холодком, подчеркивая некоторое свое превосходство:
– Как вижу... делаете определенные успехи, поручик? Но... не следовало бы рисковать именно сейчас, когда я должен отбыть и Козлов. Переходный момент, знаете, – всяческие анкеты и прочее!
Перед ним стоял и улыбался контрразведчик Щегловитов.
– Мне казалось, что вы не особенно торопились в том направлении, ваше превосходительство, – как-то витиевато, наскучав по салону и белому штабу, объяснился Щегловитов. – Мне казалось, что вы ждали Егорова и... меня?
– Вас-то я никак не мог ждать, – прогудел Носович. – Были слухи, что вы угодили прямо в лапы мироновских янычаров, уж и не чаял, как это у них говорится, увидеть! Но рад, искренне рад! И в столь импозантном обличье?
– Делаю, как вы сказали, успехи... Сейчас многие стараются, так сказать, врастать! Борьба, как видим, предстоит долгая и упорная, приходится менять форму и даже кожу. Хочу особо упредить: даже в аппарате Донбюро РКП, который формируется где-то в Курске, имеются уже наши люди. Некто Мусиенко... Му-си-енко, явный «аристократ», даже по фамилии видно... И тем не менее возьмите на заметочку, чтобы ненароком не расстрелять вместе с прочей сволочью, когда займем Курск. Это все, что я намерен вам сказать. Обретаясь в толпе и всяких низменных «комитетах», отчасти потерял ориентировку... Не проинформируете, генерал?
Носович засопел от бестактности преуспевающего шпиона.
– Ну, какие же новости, поручик... Ленин – болен, ему теперь только некоторые бумажки текущего порядка дают подписывать. Вот, например... – Носович протянул свежую телеграмму Царицынскому фронту, одержавшему ряд тактических успехов под Зимовниками и у донской излучины. Щегловитов мельком, глазами пробежал бумажку:
Царицын. Штаб обороны
19 сентября 1918 е.
...Советская Россия с восхищением отмечает геройские подвиги коммунистических и революционных полков Худякова, Харченко и Колпакова, кавалерии Думенко и Булаткина, броневых поездов Алябьева...
Держите Красные Знамена высоко, несите их вперед бесстрашно, искореняйте помещичье-генеральскую и кулацкую контрреволюцию и покажите всему миру, что Социалистическая Россия непобедима.
Председатель СНК Л. Ульянов-Ленин [41]41
Ленин В. И. Военная переписка. – М., 1857. – С. 73 – 74.
[Закрыть] .
– А этого авантюриста Миронова... разве не поздравили? – с усмешкой спросил Щегловитов, возвращая документ Носовичу, – Он-то, пожалуй, заслуживает этих горячих похвал в первую очередь. Даже понять трудно такое бешеное рвение, откровенно говоря...
– Миронова командование представило к награде, но к какой – еще не ясно. Не так давно послали бумагу в Москву... Кроме того, штаб постановил наградить его золотыми часами.
– Мы говорили о Москве, ваше превосходительство... – напомнил Щегловитов,
– Я уже сказал: Ленин – болен, практически всеми делами вершит председатель Реввоенсовета. Недавно разгромил наших красных казачков, затеявших игру в староказачий круг на базе, так сказать, социалистической системы! Хотели противопоставить себя красновскому кругу, уже начали созывать делегатов в Воронеж... Никак не поймут, идиоты, что вся эта игра в демократию не соответствует целям и намерениям всей линии Троцкого в партии... В общем, декрет, заготовленный при Ленине, провалили.
– Трудно, действительно, понять некоторых вождей, – серьезно сказал Щегловитов. – Иной раз кажется, что они вообще собираются обойтись без тех самых «широких масс», на которые чуть ли не вчера делали основную ставку! Странно.
– Ничего странного, – рассудительно сказал Носович. – Некоторые люди, типа Троцкого, не хотят допустить усиления так называемых народных вожаков, которые в дальнейшем могут оказаться камнями преткновения... Вам, должно быть, ясны дальние цели Троцкого?
– Отчасти – да...
– Ну так за каким чертом, простите, укреплять тогда позиции разных Автономовых, Ковалевых, Мироновых, Буденных и иже с ними? Все эти люди должны ходить под богом и потихоньку сходить на нет. Иначе им будет плохо... Именно исходя из этих соображении, он и приближает к себе нас, военспецов, людей, которые помогут выиграть ему войну, но – политически – ничего из себя не представляют и в конце концов удовольствуются более или менее приличными пенсиями. Что касается тех, то они могут заговорить с ним от имени народа. А этого он, конечно, не допустит. Смею вас уверить, поручик. Система волчьих ям уже получили кое-где проверку действием...
– Да, но в таком случае не только усложняются отношения, но и сама война затянется, мягко выражаясь, на неопределенное время, а вообще говоря, до полного взаимоистощения. Что получилось на Кубани после смещения Автономова?
Носович курил, помахивая папироской, разгоняя легкие кольца дыма. И по ого эпикурейскому виду всякий проницательный человек мог догадаться, что за сносную пенсию в будущем он работать не будет.
– А кому это важно? – усмехнулся Носович. – Разве в политической игре кто-нибудь и когда-нибудь считался с потерями и затратами? Кровь, которая льется, нимало не занимает этих людей... Люди Троцкого, возможно, считают даже, что Россия, порядочно обескровленная, для них больше подходит, чем Россия, мгновенно преображенная и стоящая еще на ногах, без подпорок, как она была в январе, марте, до гражданской войны... Вы спросили, что получилось на Кубани после Автономова? Вот посмотрим, что там будет после смещения Сорокина! Край-то самый дальний, почти туземный, там не то еще будет!.. Очень хотелось бы посмотреть!
Носович мстительно бросил окурок в бронзовую темную пепельницу, прошелся по кабинету. Вежливость напомнила о себе, и он как бы спохватился:
– Перекусить... не время?
– Не откажусь, – сказал Щегловитов. – И вообще... лучше отпереть дверь. Здесь, как я вижу, полное спокойствие, как и следует перед большой бедой на Руси... Форма моя никого не насторожит, тем более что разного рода вестовых сейчас здесь до беса. Простите за выражение...
Ключ невнятно повернулся в дверной скважине, распахнули обе створки окна. Носович что-то приказал в приемной, и через несколько минут принесли обед. Какой-то суп-кулеш со свиным салом и несколько вареных картофелин. Зато помидоры были свежие, словно с грядки, и бутылочка с постным маслом. Роскошь по нынешним временам даже и для крупного советского штаба необыкновенная!..
Щегловитов вышел в угловую комнату вымыть руки. Когда он вернулся, в комнате был третий – высокий красивый блондин с аккуратным пробором, по виду полковник-штабист.
Носович коротко взглянул на Щегловитова и представил его незнакомому военному:
– Вот, дорогой товарищ Всеволодов... имею честь представить вам офицера для особых поручений Щегловитова. Прежнее его звание – поручик, но полагаю, что теперь оно уже значительно выросло, если учитывать немалые успехи его в службе контрразведки. С моим, отъездом – впрочем, это случится не так скоро – вы будете держать связь через него.
Щегловитов сдержанно поклонился. Судя по выражению лица Всеволодова, он остался доволен впечатлением, которое произвели на него как сам поручик, так и его кожаная комиссарская форма и маленькая, но яркая звездочка над козырьком фуражки.
Носович на правах хозяина пригласил обоих «красных офицеров» к столу.
ДОКУМЕНТЫ
28 сентября 1918 года Президиум ВЦИК в составе Я. М. Свердлова (председатель) и членов тт. Теодоровича, Сосновского, Митрофанова, Розина и Енукидзе учредил высшую военную награду Республики – орден Красного Знамени.
На том же заседании рассмотрены первые представления к награде – на помощника командира красных отрядов на Урале тов. Блюхера, сотрудника ВЧК тов. Панюшкина и командира Усть-Медведицкой бригады тов. Филиппа Кузьмича...[42]42
Фамилия Миронова пропущена в делопроизводстве.
[Закрыть].
ВЦИК постановил:
Первый по времени знак отличия присудить тов. Блюхеру, второй – тов. Панюшкину, третий – тов. Кузьмичу и сделать соответствующий доклад на заседании ВЦИК[43]43
Душенькин В. Награда Родины //Вопр. истории.– 1963.– № 9.
[Закрыть].