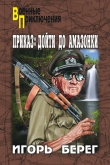Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 44 страниц)
– Хозяинуем? – спросил Ковалев с порога, держа на плече новый полушубок с чистейшей белой овчиной на отворотах. – Сами-то хоть живы, работнички и хозяева?
Подтелков что-то объяснял худому и тонкому, неприступно-строгому Кривошлыкову и замолчал, увидя входившего Ковалева. В стороне, на венском диванчике с гнутыми ножками, сидел, положив ногу на ногу, красивый и с виду очень молодой Ипполит Дорошев. Бывший студент-медик, затем доброволец и офицер, избранный казаками председателем комитета 5-й Донской дивизии, он сыграл не последнюю роль в организации в Каменской, ибо там дислоцировалась в то время его дивизия. Большевики Щаденко и Дорошев стояли у колыбели Донского ревкома, выдвинув по тактическим соображениям на первые роли беспартийных вожаков казачества – Подтелкова и Кривошлыкова. Теперь Дорошев смотрел с покровительственной усмешкой на вечно пререкавшихся своих друзей, не считая нужным вступать в споры. Речь у них шла о методах, а методы, как известно, постоянно меняются по обстановке... Увидя Ковалева, Дорошев встал и протянул руку, знакомясь.
– Почему шпана окна бьет? – круто и отчасти даже грубовато спросил Ковалев, пожав протянутую руку. – У нас, в Гукове, не раз говорилось: Советская власть – это порядок! А у вас тут – разгул, веселье?
– Так и мы ж за порядок, дорогой Виктор Семенович! – радостно согласился Подтелков. – Тут у нас спору нету. А вот ростовские товарищи, Сырцов особо, не велят трогать анархистов. Грит: должен быть с ими единый подход к буржую и, как его, па-ри-тет!
– Так это «в подходе к буржую», – усмехнулся Ковалев под улыбчивым и понимающим взглядом Дорошева. – С буржуем ясно: напугать так, чтобы и носа не высовывал, сидел под лавкой. А ежели они по самому ревкому бьют кирпичами, эти шаромыги?
– Кгм... – Подтелков тяготился сложностями политики, сказал, чуть ли не жалуясь: – Кгм... Я бы их, чертей суконных, доразу успокоил. Тюрьма по ним плачет. Да ведь бить-то по ним надо не левой, а правой рукой, а правая моя рука – обратно Сырцов! Казачьи патрули по городу не велит пускать, чтоб у рабочих и мещан какая мысля не закралась. Опять, скажут, эти околоточные надзиратели в лампасах!
– Слезай – приехали! – присвистнул Ковалев. – Значит, посылай без лампасов! Должны же быть патрули в такое время!
Дорошев опять засмеялся и встал, распрямляя под ремешком стянутую гимнастерку. Потягивался беспечно, качаясь с каблуков на носки. Сапожки на нем были новые и хорошо почищенные. И сам он был удивительно ладен, и красив, и душевно невозмутим даже в этот бессонный час.
– Ты как, Ипполит Антонович, считаешь? – спросил Ковалев.
– Считать нечего, – развел Дорошев руками. – До съезда вряд ли до чего хорошего договоримся: ростовские в непонятную дурочку играют! То давай им «тактическое объединение» с меньшевиками и бундом, то не трогай анархистов, то не пускай военные патрули по городу! Желают как можно больше обострить положение на страх Европе, мол, и во имя мировой революции! Вся беда, что твердых большевиков у них – по пальцам перечесть, а все больше «левые», да «центр» какой-то, а как голоса начнем считать, так наших меньше. Надо бы кому-нито в Петроград смотаться, в ЦК и Казачий отдел. Директивы по всем этим делам запросить. Дело-то у нас новое!
– Новое дело, да одно ли... – с великой заботой вздохнул Подтелков. – Сейчас бы поехал сам в Питер, да прямо – к Ленину! А где время взять?
Ковалев сидел, повесив кожаную фуражку на острое колено, слушал. Кривошлыков стоял у окна в длинной шинели до пят, сам длинный, сухой, мстительно глядя на всех и заложив правую руку за борт, в какой-то отстраненной позе. Дорошев мягко, по-дружески усмехался толстыми, чувственными губами.
– А не сробел бы? – спросил он Подтелкова. – К Ленину?
И начал рассказывать, как делегация каменских фронтовиков еще в январе попала на прием к Ленину и что из этого получилось.
– Кулинов-то! Бывалый же служака, а и тот, говорит, как увидал Ильича, так руки по швам, пальцы сами собой растопырились, вроде как у новобранца! Глотаю, говорит, ртом воздух, слова из памяти вышибло. Слава богу, престарелый казак Захаров справился с собой, отдал честь Ленину как положено и на полный голос рапортует: «От имени донского революционного казачества приветствую Председателя Совнаркома Советской России Ленина!» И так это у него зычно получилось, что все чуть не попадали! – смешливый Дорошев закатывался, а Подтелков смотрел на него с напряжением и как бы взвешивал свое возможное состояние в том кабинете в Смольном, перед Лениным. Каменное лицо Кривошлыкова смягчилось, на нем забродило некое подобие улыбки.
– Были у Ленина, верно? – с жадностью переспросил Ковалев.
– А то! Их, брат, и на самом съезде неплохо встречали! Когда Свердлов объявил, что на III съезд Советов прибыли представители от сорока шести донских полков, стоящих на платформе Советов, так все делегаты встали как один! Овация была! Шутка ли! А Кудинов, не будь промах, взошел на трибуну и свое: предлагаю, говорит, ввести в оборот слова: не только «рабочих, крестьянских, солдатских», но и «казачьих депутатов»! И съезд это сразу же затвердил, – рассказывал Подтелков. – Да и справедливо ведь: казачьих войск по России двенадцать, и все по разным краям раскиданы...
Ковалев встал и от волнения натянул холодную фуражку на потный, горячий лоб. Сказал взволнованно, разом позабыв про ночные бесчинства на улицах и битые стекла в гостиничных номерах:
– Ну, братцы, обрадовали! Ну, обрадовали вы меня нынче! Я ведь ничего этого не знал, сидя в Новочеркасске! И Федор Григорьич утром тоже ничего не успел сказать за делами-то. А оно вон как хорошо идет, путем! Теперь – за работу, к весновспашке землю по справедливости переделить да съезд Советов хорошенько подготовить, и, считай, мы – на коне! Спасибо, ребяты, за добрые вести!
Подумал еще, с хладнокровием оценивая сложность момента, и сказал, вроде советуясь с друзьями накоротке:
– Главное, накормить Республику. Голода избежать. А с этой бандитской анархией тоже помалу управимся, ничего!..
Утром он уезжал в Каменскую готовить съезд.
16
В марте Советское правительство переехало из Петрограда в Москву. В Кремле проводились первые ремонтные работы, убирался битый кирпич после недавних боев с юнкерами.
Вблизи от Кремля над гостиницей «Метрополь» и торговым помещением «Нью-Йорк Сити Банк» появилась деревянная бирка «Первый Дом Советов».
... Комендант Кремля Павел Мальков, молодой балтиец в кожаной тужурке и бескозырке без ленточек, привел казачьих комиссаров – Макарова, Степанова, Шевченко и временно исполняющего должность председателя Казачьего отдела ВЦП К Михаила Мошкарова в самый конец полутемного коридора на втором этаже здания Судебных установлений и, позвенев связкой ключей, снял с общего кольца небольшой трубчатый ключик. Отпер узкую дверь. За дверью оказались две небольшие смежные комнатушки со старомодными, узкими и высокими переплетами окон. Мальков передал ключик Мошкарову и сказал с каким-то не очень понятным для него значением:
– Вот тут и будете жить, Казачий отдел. И приглядывайте за порядком. По коридору, за окнами и вообще... Так мы договоримся. Народу у вас бывает не так чтобы много, площади, думаю, хватит.
Михаил Мошкаров, бывший связист 4-го Донского казачьего полка, агитатор-большевик, принимавший участие в разоружении генерала Краснова под Гатчиной, а к тому еще – поэт и романтик, огорченно обвел глазами по стенам и начал вертеть в пальцах дверной ключ, не понимая, чем и когда его отдел прогневил этого Малькова и самого Бонч-Бруевича, за какие грехи выделили им столь незавидное помещение? Да еще в каком-то закоулке длиннющего коридора?
– Лучше-то... ничего не было? – осмелел он. Юное, гордое лицо Мошкарова было напряжено до крайности и отчасти даже побледнело от волнения.
– Лучшего помещения, брат, во всем Кремле не найти! – опять с каким-то значением и непроницаемостью в глазах сказал комендант и встряхнул крепенько локоть Мошкарова. – Уж поверь на слово, казак!
Тут матрос переглянулся с Матвеем Макаровым, а Макаров весело подмигнул товарищам, стал маячить глазами, то есть водить ими по окружности комнат и высоким потолкам, а потом сказал тоже с каким-то значением:
– Надо согласиться, Миша. Ага. Я тоже считаю, что комнаты эти для нас самые подходящие. Ты пойми, брат, что там вот, на третьем-то этаже, над нами... Ну, понял?
Тут председатель отдела Миша Мошкаров что-то вдруг уяснил и осознал, немудрую его душу прямо-таки пронзило горячее и волнующее чувство от внезапной догадки – там, наверху, была квартира Ленина! – и он от смущения и стыда весь покрылся испариной. Заморгал карими, почти женскими глазами и схватил коменданта за локоть.
– Ты меня извини, товарищ Мальков! Не дошло сразу-то... Извини. И спасибо от всех нас! Спасибо за такое доверие!
– Ну вот, так-то лучше, – с усмешкой сказал Мальков и еще раз обвел глазами потолки двух комнатушек. – Живите и смотрите, чтобы порядок был образцовый! И вообще...
Щелкнул пальцами, выражая этим нечто свое, и ушел. А казаки долго стояли посреди небольшой комнаты и разговаривали вполголоса. Потом вышли в коридор и увидели в трех шагах деревянную лесенку в два марша, наверх, к той самой квартире... И никакой особой охраны кругом!
– Такие вот дела, Миша, – сказал Матвей Макаров, ероша свой огромный, какой-то отчасти бутафорский чуб и блестя глазами. – Доверие! Может, от самого Владимира Ильича. И об этом помнить надо всем и каждому из нас днем и ночью. А?
Краска смущения медленно сходила с лица Михаила Мошкарова. Он засмеялся с какой-то детско-хвастливой радостью:
– А когда мы подводили-то?! И Корнилова, и Краснова не мы, что ль, по миру пустили с пеньковой сумой?
– Теперь вопрос не о прошлом, Миша, а наперед, на будущее, – сказал сибиряк Степанов, пожилой казак из-под Омска. – На дворе время бурное, Россия на новую дорогу выходит, тут, братки, нам тоже работенки хватит!
К полудню секретарь отдела Тегелешкин привез грузовик со шкафами и документами, рабочие вносили из других помещений столы и стулья. Появилась пишущая машинка и при ней стриженая девушка в матросском костюмчике и узкой черной юбке. Перед обеденным перерывом зашел к казакам секретарь Совнаркома Николай Петрович Горбунов, бородатый юноша в крагах, осведомился, как устраивается отдел на новом месте, и вручил ордер еще на одну комнату в гостинице «Националь» (втором Доме Советов) – под редакцию новой газеты «Трудовое казачество».
– Вот. Свяжитесь с газетой «Беднота», там должны вам помочь по части бумаги, а потом надо подыскать свободную типографию и заключить с владельцами договор, – сказал Горбунов. – Владимир Ильич очень доволен, что надежды всей русской буржуазной контрреволюции на казачество не оправдались. Все ждали по образцу французской революции какой-то Вандеи, но ничего подобного в наших, русских условиях не произошло. Могу пожелать от себя лично вам новых успехов, товарищи! Кстати, у Бонч-Бруевича для вас заготовлены пять мандатов на съезд Советов. Имейте в виду, что борьба с «левыми» предстоит жестокая, они по-прежнему собираются давать бой по Бресту. Надо иметь это в виду.
Макаров тут же ушел, за мандатами, а Горбунов еще посидел в гостях, знакомясь с каждым, привыкая, интересуясь вестями с Дона, Кубани, Положение Советов на Дону было прочным, вся Кубань тоже была, в общем, красной, лишь в самом Екатеринодаре доживала последние дни краевая рада. Но тревожно было оттого, что через Украину чуть ли не церемониальным маршем продвигались к Донской области немецкие войска, а из манычской степи ужом переползала на Кубань, обрастая по пути новыми офицерскими отрядами, армия генерала Корнилова – «добровольцы»...
Смотрели на карту, советовались, обсуждали положение. Горбунов сказал:
– Если немцам и белогвардейцам удастся отрезать этот край, то... совсем плохо станет с хлебом. А до нового урожая далеко.
Казаки помолчали. Каждому известно было: в отличие от питерской нормы (по пятому купону продовольственной карточки – полфунта солонины, по второму купону – четверть фунта постного масла) здесь, в Москве, за все отвечала вяленая вобла, две тощих рыбины к хлебной краюшке в ладонь величиной... Но на то и борьба, на то и революция, что ж тут много говорить! До нового урожая надо держаться!
– Да. Если бы не проклятый кайзер, то к осени мы бы всякую контру задавили и зажили б хозяевами, – вздохнул Мошкаров.
– В том-то и беда, что не одни мы на этом свете живем, со всех сторон поджимают – то враги, то разного рода радетели... – сурово усмехнулся Горбунов.
... Когда стемнело и уже зажглись электрические лампочки по коридору, шел в свою квартиру на отдых Ленин. Он выглядел несколько усталым, и на лице в желтом свете лампочек копилась глубокая озабоченность. Перед съездом, неизбежной схваткой по Бресту с эсеровскими лидерами, «левыми коммунистами» из когорты Троцкого и теми, кто не понимал сути Брестского мира даже в своей, большевистской среде.
Двери в Казачий отдел были как будто умышленно распахнуты, и оттуда ложился на пол коридора яркий свет. Ленин задержался на яркой полосе, вскользь оглядел сотрудников, три чубатых головы, и, заметив знакомое лицо кубанца Николая Шевченко, вдруг стряхнул с лица внутреннюю сосредоточенность, кивнул с обычной своей доброжелательной веселостью:
– Здравствуйте, товарищи казаки!
И пошел. Слышно было – заскрипела деревянная лесенка под старыми ботинками «бульдо» с загнутыми носками. Почти неслышно открылась и хлопнула дверь наверху. Макаров переглянулся с Михаилом и секретарем Тегелешкиным, который сидел спиною к двери и, по сути, не успел даже увидеть Ильича, только слышал его голос. Сказал Макаров, будто прикидывая что-то на будущее:
– Сейчас и нам пора бы по домам... Но ежели рассудить здраво, то с нынешнего дня надо нам учредить, братцы, ночное дежурство в отделе. И по самому строгому уставу, поскольку помещение-то у нас, прямо скажу, самой первой категории! Окна у нас без решеток, кто угодно может ночью проникнуть, а тут вот он, потолок... Какая-нибудь сволочь... Для начала сам подежурю ночь, а уж завтра составим список дежурства. А? – И, глянув на Мошкарова, засмеялся: – А тебе вроде поначалу и комнаты не показались?
– Спать-то как будешь? На газетных подшивках? Может, хоть подушку принести? – спросил Мошкаров.
– А как на посту спят: один глаз дремлет, другой жмурится! Перележу и на подшивках, не вечно ж эта гражданская будет тянуться?
– Лады, завтра сменим, – кивнул Мошкаров. – Спокойного тебе дежурства, брат!
Коридоры здания были уже пусты, только в кубовой еще гремел жестяной посудой истопник, да у входа по хрусткому подмерзшему снегу прохаживался солдат-латыш из охраны. Слабый ветерок мешал прикурить, Мошкаров горбился, охраняя в пригоршнях трепетавшее пламя бензинки. Жадно, едва ли не за весь день, затянулся. К нему склонились Шевченко и Тегелешкин, заплямкали губами. Постояли у порожков, раскуривая цигарки, определяя направление влажного ветра.
– Какой-то он и зимний, а вроде бы и талый, ветерок-то... Талым уже потягивает, – сказал Шевченко. – От нас, с юга, вроде бы!
– Точно, браток. С самых донских и кубанских вершин, к провесням дело! – мечтательно, с думой о теплом, хлебородном лоте и родной станице вздохнул Михаил.
17
Под давлением 350-тысячной немецкой армии советские отряды Украины откатывались к востоку. Во всех пяти ее так называемых «армиях» в это время насчитывалось едва ли 40 тысяч штыков, да и то по условиям Брестского мира на границе с РСФСР подлежали они демобилизации и разоружению. Наиболее боеспособными до конца оставались 4-я армия Киквидзе, державшая направление на Воронеж – Тамбов, и 5-я – Ворошилова, отходившая с непрерывными боями к Царицынской ветке железной дороги. Остатки 1, 2 и 3-й армий в беспорядке заполонили донские шляхи, скатывались к Ростову.
Все эти армии и отряды назывались «социалистическими» и «красными», но, лишенные дисциплины, форменного обмундирования, надлежащего политического руководства и догляда, разбавленные к тому же анархистами и бывшими уголовниками, они наводили страх на степные хутора и отдаленные станицы открытым грабежом, насилиями и бандитизмом. Посыпались жалобы с малых и больших станций железной дороги, от ревкомов и крестьянских обществ, но кто бы мог в такое время остановить дикий разгул анархии, когда вся жизнь края, казалось, держалась на волоске? Даже приехавшего в Ростов Чрезвычайного комиссара Украины и Юга Орджоникидзе (он эвакуировал из Харькова ценности банка и документы) встретила в Ростове шумная орава, несущая черные знамена и хоругви с надписями: «Срывайте замки!», «Анархия – цель человечества!» и «Дух разрушающий есть дух созидающий!».
Орджоникидзе обосновался в «Палас-отеле», созвал срочное совещание объединенного Донревкома. Он уже ознакомился с положением в городе, принял многочисленных жалобщиков от городской думы, знал о некотором «двоевластии» при внешнем объединении двух ревкомов, Ростово-Нахичеванского и Донского. Не тратя времени попусту, Орджоникидзе тут же приказал командиру сводного красногвардейского отряда Трифонову и начальнику казачьего комендантского взвода Тулаку немедля разоружить бандитский отряд самозваного военкома Бронницкого, творившего самочинные расстрелы и реквизиции, найти способ управиться с анархистами (их насчитывалось не менее тысячи!) и лишь после этого заговорил о предстоящем съезде Советов Дона.
Подтелков и его заместитель Сырцов, двадцатипятилетний человек с одутловатым, холеным лицом юноши и жесткими глазами боевика, тут же схватились, по привычке, на остром вопросе: кому открывать съезд и быть председателем. Эти споры начались, собственно, с того самого момента, когда Москва перевела председателя большевистского комитета Васильченко в Донбасс, на помощь Сергееву-Артему, а юный Сырцов начал склоняться к «левым», по всем вопросам придерживался крайних позиций, без конца муссируя идею немедленной мировой революции...
– Наше большинство, – сказал Сергей Сырцов, – рекомендует в почетные председатели Донского съезда старейшего члена совдепа товарища Бруно.
– А Галилея – в секретари! – засмеялся начитанный и колкий на слово Ипполит Дорошев. – Вот с Коперником, правда, незадача выйдет... – Он смотрел на приезжего кавказца в темно-коричневой суконной гимнастерке под тонкий поясок, с шапкой тяжелых, жестковатых кудрей и пушистыми усами и, посмеиваясь, почему-то ожидал непременной поддержки с его стороны.
– А вы что предлагаете? – не принял Орджоникидзе расхожей и отчасти двусмысленной шутки.
– Я предлагаю вопрос пока оставить открытым, – сказал Дорошев спокойным, но властным голосом, и Серго поверил, что этот юный красавец с замашками казачьего офицера мог повернуть в Каменской свой дивизионный комитет, а за ним и всю дивизию в сторону революционного съезда, против Каледина. – Вам, товарищ, стоило бы предварительно встретиться с каменскими работниками Щаденко и Ковалевым. Они – старые члены партии, большевики.
– А здешним... вы что же, отказываете в... большевизме? – заинтересовался Орджоникидзе.
– В Ростове слишком много фракций и оттенков, постоянно ощущается давление сильного меньшевистского крыла Гроссмана. И вообще...
– Они хотят выдвинуть Ковалева, – несогласно пожал плечами Сырцов; поясняя точку зрения Дорошева и Подтел кова.
– Он из казаков? – уточнил Орджоникидзе.
– Да. Бывший урядник Атаманского полка. – Подтелков с достоинством расправил плечи. – Его и в Казачьем комитете ВЦИК знают, Зимний дворец брал. Дельный человечище!
Несмотря на сумятицу мнений, Орджоникидзе хватал в разговоре главное, склонился к Сырцову:
– А что, Сергей Иванович, стоит над этой кандидатурой подумать, а?
– Но у нас было уже решение, и потом надо считаться именно с городским пролетарьятом...
– А с казачьим населением области, и тем более на съезде? – спросил Дорошев и вдруг рассмеялся: – Рассказать, как у нас в Каменском ревкоме прятали по углам Щаденко и Френкеля от Агеевской миссии?
– А что? – мгновенно насторожился Орджоникидзе, схватывая каверзные противоречия, с которыми приходилось иметь дело почти повсеместно. – Какой миссии?
– Из Новочеркасска приезжала на переговоры к нам группа от Калединского правительства во главе с Агеевым... – неохотно сказал Подтелков. – Все миром хотелось разрешить спор... А он, Агеев-то, еще на станции заявил: у вас тут, мол, казаки перевелись, одни мастеровые да местечковые евреи политикой заправляют! Ну... пришлось, конешно, на это время из ревкома кое-кого удалить, чтоб в глаза им не бросались!
– Если будет полный президиум горожан в крахмалках, то рядовые казаки с такого съезда разойдутся по пивным, – сказал Дорошев. – Это не каприз темной массы, а вопрос доверия. Момент очень острый! Есть к тому же письмо Ленина, он там говорит не о городском, а именно областном съезде Советов!
Орджоникидзе попросил показать ему телеграмму Ленина, посидел над ней вдумчиво и вновь склонился к Сырцову, обнял за плечи. Голос Серго упал до тихой товарищеской беседы:
– Понимаешь, Сергей, проводили б мы с тобой съезд в... Житомире, даже в Тифлисе, я бы тебя поддержал! Во как! Обеими руками. А тут, понимаешь ли, собирается съезд не где-нибудь, а в Донской р-рэспублике. Надо же учитывать обстановку, дорогой... Дорошев прав безусловно, тем более что его 5-я казачья дивизия пошла за большевиками и требует к себе ответного внимания... Ну вот. Кстати, еще один вопрос надо обсудить – о Брестском мире. Говорят, к вам уже пожаловали лидеры эсеров Камков и Карелин, с ними заодно меньшевистское крыло Гроссмана? Вы к этому готовы?
Сырцов, сам противник Брестского мира, замялся, а Подтелков бухнул басовито, с усмешкой, даром что был беспартийный:
– А они – «левые»! Свою особую линию держат: против перемирия! Всю Расею сжечь горазды за-ради мировой революции! И что за народ пошел, прям в удивление! Ведь говорят же с Москвы правильно: давайте дух переведем, это самое, закрепимся, потом уж можно, штаны подтянув, и хватануть с шашкой наголо до самой ихней буржуйской Европии, да и то – подумав сначала, на трезвую голову. Так нет, подай новую войну немедля! Хоть вы им растолкуйте, товарищ Ржэникидзе!
Серго внимательно посмотрел на шумного председателя Дон ревкома, потом – с тем же пристрастием – на юного партийца Сырцова.
– В чем дело? Верно товарищ Подтелков говорит?
– У нас было решение, – кивнул Сырцов. – Большинство склонилось против перемирия...
Подтелков вновь перебил его:
– Верно Дорошев говорит: у нас тут чистых большевиков – по пальцам пересчитать, а соглашателей и «левых» хоть пруд пруди, товарищ Ржэникидзе. Оттого и разногласия вскипают! Из Москвы – одни директивы, от наших политических товарищей – другие. Вот и так и варимся в собственном соку. Васильченку забрали в Харьков, считаем, не ко времени!
Орджоникидзе начал ходить из угла в угол, поигрывая серебряным наконечником тонкого кавказского пояса. Сказал, ни к кому в отдельности не обращаясь, в пространство:
– Вызовите, пожалуйста, на завтра партийных товарищей из Каменской и Новочеркасска. Придется загодя собрать партийную группу съезда и прибегнуть к партийной дисциплине. У вас тут, оказывается, дикий лес, в котором «чудеса и леший бродит», а возможно, и «русалка на ветвях сидит»... Русалок теперь развелось в преизбытке... Да. Созвать партийную группу, иначе провалим важнейший вопрос всей нынешней политики!
...На следующий день, вечером, Виктор Ковалев сидел за столом в номере Серго Орджоникидзе, пил чай с мелко наколотым рафинадом, рассказывал о положении в верхних донских округах, своей работе в шахтерских поселках и на железнодорожных станциях. Он по-прежнему считал, что белое движение широкой основы в народе не имеет. Первые же декреты Советской власти, в том числе и декрет по казачьему вопросу, подействовали на массы необратимо. Весь вопрос теперь – немцы, интервенция.
Чай разливала жена Серго, Зинаида Гавриловна, миловидная женщина из сельских учительниц, которую, по словам Серго, он «нашел совершенно случайно в якутской ссылке, и не жалеет...». Ковалев дивился молодости, открытости и доброжелательности обоих, разговор скоро перекинулся на воспоминания о ссылке, первых днях революции в якутской и сибирской глуши, и Ковалев, огрубевший сердцем в своем холостяцком положении, как-то даже и позавидовал такому теплому семейному очажку, с которым путешествовал по Югу России Чрезвычайный комиссар и старый подпольщик Орджоникидзе.
Уходить не хотелось, и тут вломились в номер возбужденные и встревоженные Подтелков и Кривошлыков. По их виду можно было понять, что стряслось нечто из ряда вон выходящее. Ковалев поднялся, не допив чая, а Серго машинально подтянул свой кавказский ремешок туже, собрался слушать.
– Ларин телеграфирует из Новочеркасска: началась катавасия, Голубов поднял мятеж! – скороговоркой доложил Подтелков. Он был огромен, силен, и портупеи, крест-накрест стягивающие всю его огромную телесность, лишь подчеркивали заматеревшую силу бывшего батарейца. Непонятно, как мог такой человек падать духом и горячиться.
– Спокойно, – сказал Орджоникидзе, снимая все же с вешалки свою кавалерийскую, длинную шинель. – Кто такой Ларин и кто такой Голубов?
– Ларин – наш комиссар в Новочеркасске, верить можно. А Голубов – бывший войсковой старшина и командир казачьего полка... Он примкнул к ревкому, активно бился с калединцами, но вот... Черт его взбесил!
– Идемте к аппарату, – сказал Орджоникидзе.
– В Новочеркасск выехал Дорошев с полком верных казаков, – сказал Подтелков. – Но если Голубов забунтовал, так это плохо... Умелый, гад, такого стреножить трудно!
Пока спускались в комнаты ревкома, Серго вкратце уже понял суть и причины возможного бунта.
Командиру ревкомовского отряда Голубову – тому самому, что два месяца назад пленил под Глубокой карателя Чернецова, – удалось поймать в Сальской степи, под носом у бело-партизанского атамана Попова, претендента в новые атаманы Митрофана Богаевского. Он привез его в Новочеркасск, требуя открытого и всенародного суда над арестованным. Голубов имел отважную душу, но был тщеславен и любил всякие театральные эффекты... А в объединенном ревкоме мнения о дальнейшей судьбе Богаевского разделились. Сергей Сырцов и другие «горожане» требовали немедленного, бессудного расстрела: контрреволюцию надо карать беспощадно! Донцы же поддерживали идею суда, при хорошей подготовке общественных обвинителей из числа рядовых казаков. В этом был смысл. Сам Подтелков хотя и рад был в душе согласиться с Сырцовым – убрать врага без лишних проволочек, и точка! – но наученный горьким опытом своей расправы с Чернецовым, из-за чего отчасти поколебался его же собственный авторитет в рядовой массе, уступил нажиму Кривошлыкова. «Не один черт, как его расстрелять – по суду или по революционной совести?» – успокаивал он горожан – противников этой идеи.
Что касается Голубова, то теперь уж решительно нельзя было понять, какие идеи бродили в его буйной голове, когда он устраивал громогласное представление в присутствии тысячи казаков в рекреационном зале бывшего юнкерского училища. Хотел ли он полученного в конце концов скандала или просто просчитался. Богаевский, один из самых образованных людей старого Дона, бывший директор гимназии, говорил речь в свою защиту четыре часа и в конце концов склонил слушателей на свою сторону, в том смысле, конечно, что народ сам должен определить свою судьбу, без лишнего кровопролития, полюбовно и мирно... Внутренние распри, говорил Богаевский, только обессилят русский народ, и тогда к власти могут прийти чуждые силы... Он умело обходил острые политические углы, социальные причины, прибегал к заведомой демагогии, но с необходимой тонкостью и знанием рядовой казацкой души, и суд был посрамлен. Нелепыми казались речи обвинителя Ларина в том смысле, что «революция всегда требует жертв» и что по этой причине товарищ войскового атамана и носитель белой идеи должен быть немедленно казнен, как враг трудового народа. Голубов, похоже, прослезился, а рядовые казаки единодушно потребовали отпустить Богаевского и «не неволить впредь, если он не выступит открыто на стороне контрреволюции». С этим архинаивным решением до поры до времени, по мнению Кривошлыкова, надо было считаться. Советская власть для этих темных рядовых казаков – символ некой высшей справедливости и высшего милосердия, по которым так истосковался народ за тысячу лет, и лучше, мол, пощадить одного врага, чем поколебать пусть и наивную, но горячую веру тысяч людей... Сам-то Кривошлыков был не такой уж либерал. Еще в годы учения в Донской сельскохозяйственной школе (в Персиановке) подарил Михаил свою фотокарточку другу Алеше Лавлинскому с надписью: «Товарищ, верь, я не положу оружия до тех нор, пока не останется на нашей земле ни одного врага родного мне народа. Если я не выполню свое обещание, ты можешь публично назвать меня подлецом». И у него не дрожал голос, когда судили наиболее отъявленных офицеров из отряда Чернецова. Но он не мог простить комиссару Ларину и начальнику милиции в Ростове Федору Зявкину, которые тайно перевезли Богаевского сюда и расстреляли в Балабановской роще – по «революционной совести».
Двадцати четырехлетний Кривошлыков кричал на Подтелкина:
– Этак вот всякие безответственные люди, которые понятия не имеют о политическом такте и политической линии, расстроют нам всю обедню! Чернецова рубанул ты сгоряча, а Богаевского прикончили в трезвой памяти, да еще по ночному времени, а казаки ропщут, что больно много сразу расстрелов! А нам с ними жить, да еще и хлеб по станицам брать, надо же учитывать эти тонкости!
Серго переводил черные, внимательные глаза с одного на другого, приценивался к этим сырым в политике людям, делал заметы к съезду. Подтелков, чувствуя по-прежнему свою вину за Чернецова, пытался унять гнев друга:
– Погоди, Михаил, – говорил он отечески наставительно и чуть-чуть свысока. – Ларина мы брать не будем, одно – что молодой, а другое – учителев сын из Арженовской, чего с него взять-то? А что касаемо Федора Зявкина, то тут я целиком его понимаю. Он в темерницком подполье юшки кровавой наглотался по самый кадык, за ним петля калединская цельный год гонялась!..
– Полгода! – в горячности перебил Кривошлыков.
– Да и, сказать, когда пошли войска Сиверса нам на выручку, то повешенные рабочие тут маячили чуть не на каждом углу, и многих из них Зявкин знал раньше за своих знакомых, а то и друзей! Тут, Миша, на аптекарских весах человечью ярость не увесишь.