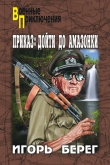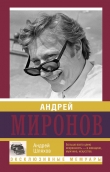Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 44 страниц)
12
Сокрушительный удар Особой группы войск Миронова во фланг и тыл трех белоказачьих дивизий в районе Провоторовской – Тишанской – Алексеевской потряс до основании фронт Краснова. Генералы Алексеев, Гусельщиков, Абрамов потеряли управление своими войсками. Наиболее верные Краснову полки и сотни, состоящие преимущественно из карателей и кулацкого элемента, в беспорядке устремились к югу, через Кузулук, на Кумылгу и низовья Медведицы. Другие замитинговали, выслали депутации для переговоров с Мироновым о добровольном переходе в его войска.
Пока блиновская бригада на рысях продвигалась к югу по снежным степным дорогам от станицы к станице, а пехотные полки не поспевали закреплять за собой все новые и новые слободы и хутора, Миронов и Ковалев проводили митинги и собрания в новых, наскоро формируемых частях... Всем в прошлом мобилизованным в Донскую армию генерала Краснова отпускались грехи словом и авторитетом начдива и комиссара Особой мироновской группы войск. Ошибки не было, потому что ни один доброволец белой армии в плен не сдался, сдавались лишь мобилизованные.
Казачий отдел ВЦИК в эти дни направлял на север Донской области большие группы красных агитаторов-казаков, прошедших краткие курсы при ВЦИКе.
Прямо на митинг в Михайловку, где у собора сошлось и съехалось более трех тысяч пеших и конных казаков – у всех на околышах еще светились свежие ранки от вырванных с мясом кокард, – прибыл спешной командировкой с Верхнего Дона член Казачьего отдела Михаил Данилов, немолодой, беззаботно-веселый казак в огромной бараньей папахе под текинца и в верблюжьем башлыке, замерзший на степном ветру, но неунывающий и распахнутый, как говорится, на все пуговицы. Поднялся на церковную паперть, где стояло все воинское начальство – Миронов, Сдобнов, Степанятов, Блинов, Кувшинов, разыскал Ковалева, как знакомого по встречам в Казачьем отделе, и предъявил документ.
– Добрые вести привез я, товарищ Ковалев, – сказал Данилов, с трудом владея нахолодавшими от степного зазимка губами и все же улыбаясь. – Слово мне дайте одному из первых, для сообщения...
– Какое сообщение? – на всякий случай справился Ковалев.
Данилов откинул на плечи концы башлыка, показал ему бумагу, большой лист, залапанный десятками рук, исписанный крупными беглыми буквами.
– Приговор казанцев и вешенцев относительно признания Советской власти отныне и довеку! – снова засмеялся Данилов, предоставляя возможность Ковалеву пробежать глазами всю бумагу из его рук. – Кстати, поклон вам, товарищ Ковалев, от товарища Дорошева. Мы с ним этот митинг в Казанке проводили. Еще и Миша Мошкаров был – от нашего отдела! Поклон всем вам от знакомых и незнакомых!
Подошел Миронов, сдвинул с горячего, парного лба на затылок свою белую полковничью папаху, поздоровался. Приценился взглядом к партийному человеку из самой Москвы.
– Очень ко времени прибыли, товарищ Данилов, спасибо, – сказал внятно и тоже ознакомился с содержанием приговора. Со стороны было видно, как молодеет и как-то распускается, теряет обычно напряженное выражение лицо Миронова. Он даже по виду внешнему был счастлив тем, что свершилось на всем Верхнем Дону: донское казачество, чуть ли не поголовно, отошло от генералов, повернулось лицом к Советам, к ленинской идее равенства и правды.
Сначала говорил Ковалев, румянея бледным лицом, надрывая слабый, болезненный голос, бросая в напряженную, ждущую толпу слова мира и понимания, призывал забыть старые распри и обиды, объединиться вокруг Советов и Ленина с его большевистской программой, чтобы к весне и началу полевых работ добить белых генералов, скорее обратиться к радостному и свободному труду на общей земле! Объединиться всем вместе – казакам, и иногородним, и новопришлым крестьянам, и рабочим с донецких рудников, путейцам железных дорог, всему народу стать воедино за правду и народную волю!
Над кубанками, папахами, краснооколышными фуражками, островерхими верблюжьими башлыками поднимался горячий парок дыхания. Низавший по-над площадью колючий ветер сдувал этот легкий туманец, словно с теплого озера, приносил стужу. Народ топтался, скрипел валенками и сапогами по насту, те, что форсили еще в фуражках, прикрывали перчатками покрасневшие, охватанные морозом раковинки ушей. Но никто не уходил, к паперти протискивались все новые и новые люди, желали поближе увидеть Миронова и Ковалева. На призывы комиссара откликались дружно и охотно:
– Конешно, пора приканчивать войну! Сеять скоро, какая война! Опять одним бабам корячиться?.. Верна-а!
– Осточертела проклятая стрельба, к одному краю ведитя!..
– А то Декрет о мире приняли, а сами за шашки и ружья как полоумные!..
Ковалов отдышался, представил на общее обозрение улыбавшегося гостя с Верхнего Дона и члена Казачьего отдела ВЦИК. Михаил Данилов сразу пришелся всем по душе именно этой своей открыто-зубастой физиономией, веселостью в глазах, занятной текинской папахой, которую он тут же и скинул резким замахом с головы. Отвел руку назад, как будто собирался с шашкой в атаку идти.
– Станичники!
Глотка будто луженая. Таких вот там и подбирают, в Казачьем отделе ВЦИК, чтобы любого мог переголосить...
– Станичники! Как мы и думали с вами... 8 января – всего-то три недельки назад, значит!.. – съехались в Сельской степи, на станции Торговой, наш всевеликий атаман-разбойник Краснов и сам главковерх белогвардейский Антон Деникин, царский затрапезник, и волей-неволей пришлось нашему донскому блудню признать, значитца, единое деникинское командование! И теперь Донская армия, станичники, в холуях у «добровольцев»! Тех самых, что мы в январе ишо с Дона вежливо попросили, тех, каво наш красный хорунжий и главком Кубани Автономов не раз бивал до кровавой икоты, теперь, под прикрытием Антанты, чужих пушек, танков и пулеметов, отблевались, откашлялись и нам же опять на шею садятся, по рукам и ногам связывают! Хотя нам, донцам, ничего этого, понятно, никаким лыком и ни с какой стороны не привяжешь!.. А? Ну, как это вам покажется?
Взвыла вся площадь диким воем и гулом, белая поземка дыхания пошла над головами гуще, к порожкам начали пробираться желающие сказать слово. Данилов это понял, не стал особо затягивать речь. Снова взмахнул зажатой в пятерне бараньей папахой:
– А зараз я, станичники, прибыл к вам от вешенских и казанских казаков, какие открыли фронт перед красноармией, арестовали всех офицеров-кадетов, строят Советскую власть на местах, а с генералом Красновым растолкались на веки вечные... Был у казаков митинг! Приняли они единогласно такую важную резолюцию, станичники, какую я и уполномочен вам зачитать с этого высокого амвона! Вот, слухайте!
Начал читать чуть ли не по складам, медленно, выделяя особо важные слова и фразы:
Резолюция
Поняв всю преступность замыслов сбежавшегося на Дон черного воронья – капиталистов, офицеров во главе с противным изменником Красновым, мы требуем полной очистки Дона от них.
Советская власть показала себя при всех тяжестях положения в стране ЧЕСТНОЙ И БОЕВОЙ ЗАЩИТНИЦЕЙ интересов всего трудящегося народа России: и рабочих, и крестьян, и казаков! ПУСТЬ ЭТА ВЛАСТЬ ОБЪЕДИНИТ НАС с остальной социалистической Россией для мирной, братской, трудовой жизни. На страже этой власти становимся мы с клятвой дать беспощадный отпор приспешникам русских и союзнических капиталистов, на нашей крови поставивших восстановить свое зловредное богатейское житье!
Долой белых кровопийц с нашего Дона. Мы твердо берем винтовку и говорим: «Смерть вам, предатели!»
Привет, горячий привет тебе, Владимир Ильич, непреклонный борец за интересы трудящегося народа. Мы становимся бесповоротно под Красное знамя, находящееся в твоих руках.
Да здравствует полное осуществление идей, за которые выступил пролетариат в Октябре![49]49
Борьба за Советскую власть на Дону. – С, 405.
[Закрыть]
Данилов выдохнул последние слова на высоком крике и осушил вспотевший лоб овчиной папахи. А митинг одобрительно перекипал голосами, нестройным хлопаньем ладошек, перчаток и рукавиц.
Миронов, выступивший следом, ничего на этот раз не растолковывал казакам, никуда особо не призывал. Настроение было уже создано. Сбив папаху на затылок для лихости, говорил уже не рядовым на митинге, а как командир, заслуживший право распоряжаться и командовать не только в строю:
– Так что ж, донцы! Решаем единогласно: к вешним паводкам добить на Дону и по всему Югу белогвардейские полчища и банды, загнать их за Можай! С тем чтобы спокойно отсеяться в этом году, девятнадцатом! Вспахать и посеять на общественной земле и урожай собрать, а?!
В этом была его сила как оратора. Он знал, какой единой мыслью маялся нынче каждый трудовой казак и крестьянин, весь его народ. Города голодали, в деревне запасы уже, считай, подошли к концу – как будем жить на будущую зиму?
Аж взвыли хлеборобы от радости, аж заколыхалась площадь, лица у ближних стали праздничными, и казалось, все враги уже разгромлены, дорога домой открыта, и счастье, простое крестьянское счастье около земли, около быков и телят, у железного плуга, в покойной работе никем но отобрано, никем не заказано...
– Правильно, товарищ Миронов! Давай кончать Краснова, да по домам! Тифом вон хворать начал народ с тоски, вша заела! Все пойдем за тобой!
Миронов заверил митинг, что к весне всю войну на Дону закончит. Приказал разойтись, выстроиться у писарей, там каждого зачислят по роду оружия и специальности: конных по эскадронам, пластунов в роты, батарейцев к орудиям, больных в санбат.
– Конные сотни, товарищи бойцы, остаются в прежнем виде, переформировывать не будем. Нехай хуторяне посматривают друг за другом, кто и как воюет! Чтобы с войны вертались по домам со строевой песней «Из-за лесу, лесу копий и мечей!». Офицеров прошу регистрироваться отдельно!
Смеялись, расходились по шеренгам, группам, расчетам. Стояли, перекуривали у коновязей, о чем-то советовались. Войско не войско, цыганский табор... Удивляла «веротерпимость» Миронова, берущего всех без разбору в войско.
Он обходил толпу, встречая знакомых казаков из давней 4-й Маньчжурской дивизии, 1-го сводного полка, а также и родного 32-го, обязательно здоровался уважительно за руку, а то и обнимал, христосовался крест-накрест. Расслабленно и нервно взбивал пальцами обвисавшие усы и, не стесняясь, вытирал иной раз глаза, слепнущие от внезапно набегавшей слезы.
От горя и напасти Мироновы не плачут, а большая радость, сочувствие или такое вот исполнение надежд и всех его желаний, когда все рядовые казаки поверили ему, качнулись необратимо за Советы, – все это и выжимало расслабляющую влагу из глаз, и ничего с этим не поделаешь! Ведь и вся война-то, по сути, к концу пошла!
Около штабного крыльца кучилась небольшая группа офицеров – человек восемь. Погоны уже давно поснимали, но по лицам, выправке, другим неуловимым чертам определил он их, подошел в сопровождении ординарцев и Николая Степанятова. Начал здороваться с каждым за руку, коротко спрашивал старое звание, фамилию, номер полка... В самом конце, когда уже почти со всеми познакомился, пришлось вдруг сдержать шаг и рукопожатие. Небрежно кинул пальцы к белой папахе, посуровел глазами:
– Хорунжий Барышников?.. – И чуть погодя, не дожидаясь никакого ответа, добавил, будто вытряхнул из души давнюю неприязнь: – Дважды, Барышников, попадали вы ко мне в плен... И бежали! Теперь обстоятельства вынудили снова сдаться вместе с казаками. Третий раз вижу я вас: не врагом в открытом поле и не союзником, а так... болтающимся! Неужели и в третий раз будете бежать?
Барышников был подавлен, в грязной офицерской шинели, не очень чисто выбрит, как после карантина или тюрьмы. Вылинявшее от переживаний, голода, а может, и болезни лицо его ничего не выражало, кроме усталости и бесстрастной скуки. Углы губ плаксиво опущены.
– Нет, не побегу, – равнодушно, отмахиваясь от самого этого разговора, сказал Барышников. – Кончен бал. Расчету нет.
Миронов оценил тон, каким были сказаны односложные эти фразы, сменил гнев на милость, не почувствовав ожидаемого сопротивления или вызова.
– Почему же «кончен»... Скоро мирное время. Работа, долг. А вы... Переболеть, наверно, пришлось?
– Да. Тиф... Не так давно поднялся. Буду просить краткосрочный отпуск, хотя бы на неделю. Мать повидать, привести себя в порядок...
– Не знаю, тут может воспротивиться особый отдел. Время военное, – сказал Миронов и снова откозырял всей группе и Барышникову в отдельности: – Желаю здравствовать...
13
Командированные в тыл, а также больные из лазаретов, отставшие от передовых частей, принесли вдруг Миронову странно одинаковые, тревожные, «больные» новости... Комиссар Бураго, несколько дней лечившийся в Урюпинской на перевязочном пункте, вернулся хмурый и передал грубо заклеенный, самодельный пакет от секретаря тамошнего Совета с жалобами населения, а потом заявился вдруг на деревянном костыле недолечившийся Степан Воропаев. Прошкандыбал на высокие ступеньки штаба, нашел Миронова и, уже как штатский человек, сел за стол лицом к лицу с командующим. Инвалидный костыль с распоркой поставил между колен, как на привалах ставил винтовку. И сказал хмуро и озабоченно:
Не вели казнить, Филипп Кузьмич, но в тылах – плохо...
Миронов смотрел внимательно и без улыбки, урюпинское письмо сильно встревожило и огорчило его. Протянул руку, здороваясь.
– Что ж ты, бывалый вояка, не здороваешься даже? Ровно с пожара? Выздоровел? Хотя вижу, что не совсем еще...
– Оно бы ничего, но, видать, от нутряной тоски рана опять открылась. Ты вот послухай, Филипп Кузьмич, какие у нас хулюганства...
Два месяца пролежал Воропаев в лазарете города Балашова, получил награду от Реввоенсовета 9-й армии – серебряные часы с двумя пыленепроницаемыми крышками и именной надписью «За воинские доблести» – и еще целый месяц валялся в родном хуторе Белогорском Слащевской станицы. Про легкое плечевое ранение, можно сказать, забыл давно, и простреленное бедро тоже начало зарастать (Степан сказал, «как на собаке»), стал уже ходить с палочкой. И тут опять начала загнаиваться и болеть рана. От переживаний. Не туда жизнь повернула.
– Первое: особый отдел заявился, – хмуро сказал Воропаев, пристукнув инвалидным костылем об пол. Он держал его между указательным и средним пальцами, как карандаш. – Еще с бугра прострочили из «льюиса» по церковным куполам, шуму наделали... Пастух Аким на выгоне им говорит: там люди, мол, верующие, а командир, из матросиков, заржал, и видно пьяный: вот я им счас и устрою всенощную, гадам ползучим! Да еще две очереди!.. Это первое. Можно по военному времени, как говорится, перетерпеть. А другое – четверых беззубых дедов постреля ли прямо за хутором...
– Как это? – не поверил Миронов.
– А так. Для острастки: им, мол, один шут жить недолго, а они за храм божий вступаются! И прикопали, Филипп Кузьмич, кое-как. Люди идут по дороге, а тут из земли босые ноги торчат!
– Ну да?
– Пьяные черти, каждую ночь пьют, говорят: борьба с самогоном.
– До сих пор?
– Нет, – сказал Воропаев. – Этих своя же Чека заарестовала, отправили в Рябов, туда им ближе, и, слышно, одного, особо ретивого анархиста расстреляли тоже...
– Ну, видишь, справедливо, – сказал Миронов.
– Кабы так! – поднял обкуренный палец Воропаев. – А тут другая напасть. Хлеб! Приезжает продкомиссар Малкин, давай выгребать все подчистую! А председатель Совета Кружилов Иван Трофимыч, тоже красный партизан ранетый, ему вспоперек: по дехрету надо оставлять сорок фунтов на едока, чтобы смертности избежать! А тот его за грудки, замахал наганом и – закрыл Совет.
– Как – Совет... закрыл?
– А так. Есть вроде такой приказ у них с Козлова: Советы на Дону закрыть, открыть ревкомы. И присылают к нам в Белогорку этого ревкома, и что бы ты думал, чистого австрияка, звать Мельхиор, из пленных, ни хрена по-русски не смыслит. Этому, конешно, плевать, будем мы живы до будущего урожая чи нет. Хлебушек вымели до того, что и на семена нету! Вот какая беда, Филипп Кузьмич.
Миронов верил и не верил сказанному. Слишком уж густо надымил раненый Воропаев.
– Еще что? – спросил Миронов. Неудобно было проявить какое-то незнание в этом «тыловом» деле.
– А теперь еще какой-то агитпроп. Вроде они с агитпоезда «Красный казак», но вряд ли... Потому что не нашу веру проповедуют. Какой-то блуд! Выпускают какого-то хохла-балагура, и он читает верующим про святое писание – с матюками! – Воропаев густо кашлянул, нахохлился важно, побурчал что-то, встопорщив усы, изображая лектора, и выставил большой палец: – Во це – ваш бог Саваох, тот самый, с билой великой бородой, що с пророком Ильей раскатував на тройке, пока большевики не реквизировали ту тройку!.. А о це, – выставил указательный палец, – бог-сын, той самый байстрюк и выблядок, що вы зовете Исус, а о це, – дошла очередь и до среднего пальца, – бог-дух святой, якой от старух подымается, колы воны рачки стоят, поклоны бьют, дуры старый! И вот вам, дуракам, теперь тут все, – сложил толстые, обкуренные пальцы Воропаев в огромную дулю, – все, говорит, тут: и бог-отец, и бог-сын, и дух святой! Троица, той самый бардак, куда ходили буржуазны сволочи ко святым девам... Такая вот лекция агитпропа, Кузьмич.
Воропаев страдательно вздохнул и добавил от себя:
– Старухи плюются, комсомол до слез хохочет, бывший председатель Совета глаз не показывает. Мельхиор ни хрена не смыслит не токо по-хохлачьи, но и по русски. Такая идет потеха, что и до греха недалеко. А тут еще лектор Гурманист! Придумают же, черти, фамилию: Гурманист! Сам маленький, кудлатый, но горластый сказать, и знаешь, что говорит по хуторам!
Миронов уже не ждал, конечно, ничего хорошего.
– Говорит: женщина от мужа полностью свободна, чего хочет, то и делает. По новым порядкам вроде могёт без зазрения совести под каждого встречного ложиться, большой беды нету.
– Чего-то вы там перепутали, – не сдержался Миронов. – Не так, наверно, говорилось!
– Думали мы тоже, что неясность какая, а тут вылазит наш пастух Шалашонок да и говорит: «А на кой хрен ты, лектор, к нам с этим приехал? Валяй, у себя в городе этую коммунию и заваривай, а нам она без надобностев!» Ну, так его тут же притворили под арест. Вот те и ошибка, Кузьмич.
– Так и посадили?
– А я что – брехать буду? Кому-кому, а уж не Миронову! Посадили, точно. Только он, правда, ночью подрыл стенку в сарае да и дал тягу. А он – вечный батрак, бездомный... Вот и скажи, Филипп Кузьмич, чего такое там деется?
Пришлось угостить Воропаева хорошим, генеральским табаком и отправить на отдых, пообещав связаться с политотделом армии, узнать и посоветоваться, что там думают обо всех этих новостях. Заодно поговорить с Ковалевым и Медведовским.
Воропаев пошел уже к двери, а потом вернулся, налегая на костыль.
– Я чего вскипятился-то, Филипп Кузьмич, – хмуро объяснил он. – Я к тому, что многие все это в большую обиду принимают и начинают уже нас, красногвардию, поругивать: «Чужих, мол, в дом запускаете!» И может всяко получиться, Кузьмич. Не надо б!
– Ты иди пока к Николаю Кондратьичу, он тебе отведет в лазарете хозяйственную должность, и – выздоравливай. А мы этим займемся, – сказал Миронов строго и озабоченно.
Проводив ходока, заново перечитал письмо из Урюпинской.
Пакет был заклеен сваренной картошкой, а на нем написано малограмотной рукой: «Товарищу Миронову, секретно». Письмо же на серой, оберточной бумаге было длинное и обстоятельное:
Вот, товарищ Миронов, прошло больше месяца, как вы с войсками ушли из Урюпинской дальше бить кадетов и приказали нам с Выборновым, тоже членом партии большевиков, быть временным ревкомом и приступить к выборам соввласти на местах и выбирать по хуторам Советы из трудящего элемента, но не тут-то было. Когда пришла хлебная разверстка, то мы так и решили с Выборновым разверстать ее по хуторам, в расчете на колич. душ народу жен. и муж. полу, и, конешно, эту разверстку народ бы засыпал и хлебом и початками, ради того, что надо голодные города кормить до нови, а мы не хужи других. Но тут явился к нам окружной продком Гольдин, скорее всего нездешний товарищ, и сказал: никаких вам Советов на Дону не будет и разверстку по хуторам делать не нада, а он сам пройдет с отрядами и весь хлеб возьмет, под метлу, Выборнов спросил, как объяснять массам насчет Советов и за что боролись, а Гольдин сказал, что объяснять до конца военных действиев ничего не нада, а нада покрепче засупонить, и все. В другом месте высказался, что все казаки – его враги, все гады и, пока всех не вырежем и не населим пришлым элементом Донскую область, до тех пор Советской власти у нас не бывать.
Непонятно одно, чего он думает делать с нами, красными казаками, а их на Дону, сказал Выборнов, он грамотный, тыщ пятьдесят токо в Красноармии товарищей Миронова, Киквидзе, Колпакова, у Шевкопляса на Салу, Круглякова и так далее... Хотя и у Краснова не менее, остальные сидят дома и ждут с моря погоды. Ну вот, прошел Гольдин по хуторам, весь хлеб взял, сам говорит: выкачал, дети и бабы пухнут, взъюжались, жалобы со всех сторон, кусать по всей станице нечего, из хутора Соленого пришли три старика к Гольдину с жалобой, он их без суда расстрелял...
Приезжает обратно трибунал, давай судить. Есть тут в хуторе купец Априткин, иногородний, вся торговля у него в сундуке, там: спички, гвозди, колесная мазь, карасин, дратва, – контрибуцию наложили три тыщи старыми, на керенки триста миллионов, не выплатил. Как злостного, расстреляли. Вчера трибунал рассмотрел пятьдесят два дела за сутки, дело понятное, восемнадцать к расстрелу, повели днем в займище, следом кто плачет, кто улюлюкает, одну бабку тоже расстреляли, лет восьмидесяти, саботажница.
Не поймем, товарищ Миропов, что и к чему удумано, а я тоже в политике должен разбиратца, как состою сочувствующим РКП и принят в большевики нилигально, когда сидели в лесу за Хопром в отряде Селиванова, скрывались от Дудакова. Посля Дудаков уволок из кассы ревкома три миллиона золотом, и мы же его ловили, золото отбили и передали советским властям, а за что нас казнить?
Теперь такое дело. Неизвестно, куда жалиться. Гольдин 9-й армии не подчиняется, Балашову тоже, а подчиняется он гражданупру Сырцову, а гражданупр Сырцов аж в Козлове Тамбовской губернии, вот и поезжай к нему.
Некуда податься нам, большевикам и сочувствующим, а тут моя сестра приходит с перевязочного с работы и говорит, у них долечивается будто комиссар из штаба Миронова, тов. Бураго. Ну, я взялся писать, думаю упросить товарища взять письмо, потому что может опять дело взбугриться, как под Сетраковом прошлой весной. Казачки, они такие – проголосовали за Соввласть, но за горло их не бери.
А на вас, тов. Миронов, народ дюжа надеица, и вы там со своими большевиками-комиссарами найдитя ход в Москву, иначе нам всем каюк. Крепко надеюсь. И все наши партийные.
Да! Тут приехал еще один партейный товарищ – Кутырев, но он из бывших офицеров, а поэтому молчит и ничего не говорит, ни да, ни нет, видно, что опасается, что тоже подведут под расстрел. Это, конешно, по нынешним временам просто.
С тем остаюсь верный Советской власти, сочувствующий РКП и нилигальный член большевиков,
посыльный станичного ревкома
Долгачев Николай,
образование 2 кл. церк. приходской.
Не обижайтеся, пока.
Даты не было... Комиссару Бураго, который привез это письмо, Миронов сказал, что если бы не из верных рук, то можно б предположить самую подлую провокацию, а Борис Христофорович со своей обычной объективностью в каждом деле сказал:
– Причины, думаю, две... Первая – страшная злоба, развязанная самим ходом этой войны. Как муть донная, что подымается даже на глубоких реках в бурю. Но это не все. Кажется, есть решение... не то РВС фронта, не то Гражданупра: временно Советы не выбирать, ограничиться ревкомами по назначению свыше.
Миронов, конечно, вспылил, сказал, что в условиях Донской области это прямая провокация, потому что казаки триста лет выбирали хуторских и станичных атаманов, а то и войсковых, и надо немедленно что-то делать, куда-то сигнализировать, пока эти безобразия не получили широкой огласки, не дошли до генерала Краснова... Потом несколько сдержал себя и попросил найти Ковалева и прислать к нему.
А тут еще пожаловал и Степан Воропаев...
Теперь ждал комиссара, горбился за столом, подпирая лоб жестким, мослаковатым кулаком. Время было позднее, лампа с выгоревшим керосином уже чадила, у дешевого, картонного абажура медленно обугливалась середина, воняло жженой бумагой... Миронов и сам понимал, что эта война слишком развязала безотчетную злобу человеческую, что рано или поздно придется ее укрощать, гасить силой власти. Но только слепое сердце могло не почувствовать, что в той большой судьбе, которая вела Россию по терниям и крови, в великой трагедии революции, всеобщего передела и великого поиска путей, развивалось нечто тайное, до поры невидимое простым глазом, либо непонятное по сути, но смертельно опасное и для народа, и для самих революционеров, тот почти молчаливый сговор темных людей, не только «лица не имеющих», но прячущих и лицо, и свои действия за эту самую «неразбериху», этот «круговорот зла»... Без открытой идеи, без принципов, без честного обязательства перед народом, все – тайно...
Один Виктор Семенович Ковалев мог тут помочь ему. Помочь разобраться, наконец, посоветовать, как написать письмо в ЦК партии или Сокольникову в штаб фронта.
Что ж, он сам во всем доверял Ковалеву, уважая с той самой минуты, как увидел в мае прошлого года, за всю его трудную, тюремно-каторжную судьбу, за неожиданно высокую культуру, полученную в подполье и тюремных университетах, за широту взглядов. Кроме того, все видели, что Ковалев болел душой за народ, за его судьбу, он думал осчастливить людей – это пока оставалось мечтой, но зато было мечтой всей его жизни. В его речах на митингах всегда разъяснялся больной вопрос: как должна строиться общественная жизнь на земле после революции, и нельзя было не разделять его взглядов. Комиссару Миронов доверял как самому себе. И ждал его.
Но вошел к нему в этот час Николай Степанятов, вошел без приглашения, и остановился перед столом, вытянув руки по швам, с напряженным до окостенения лицом. Звездочка фуражки кроваво рдела в тусклом ламповом свете, тень от козырька падала на глаза. Скрипнув голосом, быстро снял фуражку, и Миронов сначала не мог взять в толк, о чем он говорит:
– Не знаю, как и сказать, Филипп Кузьмич... Принято говорить: мужайся. Беда страшная и непоправимая для нас, для тебя лично...
Степанятов всегда называл Миронова из большого уважения на «вы», и теперь странным было это простецкое «для тебя лично»…
– Что такое, Николай? – Миронов устало убрал со стола локти и откинулся на спинку, будто ожидая удара. Предчувствие уже коснулось холодком его сердца. – Что такое?
– Беда! Валя... Валентина Филипповна погибла в дороге на Царицын, еще тогда. Таня пишет из царицынской больницы...
Фитиль лампы коптел, на потолке уже накопился круг желтой гари. Надо было открыть фортку, потому что сразу нечем стало дышать.
– Валя?! Что? Как же это? Где?
– Только сейчас – письмо. Таня Лисанова пишет: перехватили поезд тогда под Котлубанью и какой-то сопляк, реалист, опознал Валю. Всех погнали в станционный пакгауз, избили, а Валентину Филипповну вместе с «евреями и комиссарами», как они говорят, расстреляли в ближнем яру... – Степанятов перевел дух и договорил: – Недавно дивизия Колпакова отбила арестованных, Таня пишет из больницы, из Царицына.
– Значит, тогда еще – с поезда? – зачем-то спросил Миронов, почти не разжимая зубов.
– Могила эта, братская, недалеко от станции... Можно найти, – сказал Степанятов и замолк. Больше нечего было говорить.
– Съездить надо... – замычал Миропов, как от физической боли, вдруг охрипнув, потеряв голос. – Съездим обязательно, как только возьму Новочеркасск. Сразу же! – и слепо зашагал к двери, закрыв лицо ладонями, ища одиночества в эту непоправимую и страшную минуту.