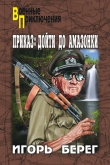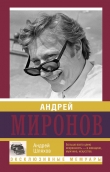Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 44 страниц)
21
В сознании Ковалева плохо и неуклюже осваивалась сама идея переговоров с немцами, захватившими часть Донской республики, Мариуполь и Таганрог.
– Они нарушили перемирие, а мы – с белым флагом? – недоумевал Ковалев.
– А другого выхода у нас нет, дорогой товарищ пре-зи-дент, – отвечал Орджоникидзе, расхаживая но кабинету председателя Донского ЦИКа и гневно покусывая черный ус. Он только что говорил с Москвой и получил совет: вступить в официальные дипломатические «распри» с оккупантами, дабы выиграть хоть какое-то время. Весь фронт нынче трещал но швам, мобилизация в Красную Армию только начиналась, каждая минута приобретала несоразмерно большое значение.
– С белым флагом? – еще раз переспросил Ковалев.
– Разумеется. Иначе нас просто убьют по дороге, – Серго остановился посреди кабинета, по-кавалерийски расставив ноги в мягких сапогах, и с прищуром смотрел на несговорчивого казака во френче шинельного сукна и рубахе-косоворотке. – Надо будет говорить с генералами, тут нужен особый такт и этикет. Немцы – любители порядка, будут даже на мелочи обращать внимание... Донская республика – суверенное государство, Виктор Семенович, а по сему случаю закажем-ка свежие крахмалки, ничего не поделаешь!
Через час у подъезда гостиницы «Палас-отель» их ждал вестовой с белым флагом, постреливал выхлопом старенький, держащийся на заклейках автомобиль, недавняя собственность табачного фабриканта Асмолова. Шофер зато был в кожаной фуражке и больших квадратных очках поверх козырька, похожий на покорителя воздушного океана летчика Уточкина.
У подъезда же, едва сели в машину, Серго вспомнил о дополнительной заботе, велел до времени спрятать белый флаг и завернуть к зданию редакции. И когда остановились перед новенькой лаковой вывеской «Наше Знамя», закурил, взъерошил высокие кудри, будто перед прыжком с высокого берега в воду, и кивком пригласил Ковалева с собой.
– Хорошо, что редактор налицо! – громко сказал Серго вместо приветствия, распахивая знакомые двери. Редактор Френкель действительно стоял в приемной комнате и давал какой-то нагоняй курьеру, выделенному из молодежной ячейки имени Третьего Интернационала. – Хорошо, что работа кипит, но... зайдем, пожалуйста, к тебе в кабинет, Арон!
В комнате редактора Орджоникидзе сказал без обиняков:
– Мне доложили, что вы тут вздумали поместить редакционную статью, или передовицу даже... с собственной платформой по Брестскому миру?
Ковалев смотрел на Френкеля. Небольшой человек в толстовке с накладными карманами во всю грудь снял пенсне с овальными стеклами и золотой цепочкой, как у Плеханова, и близоруко сощурился. Такой вид делал его как бы отъединенным от всего окружающего мира.
– Брестский договор – это предательство, – твердо сказал Френкель, не глядя на Серго. – Мы выступили с этим на съезде, и мы до конца будем отстаивать свою позицию. Никто не имеет права ради тактических соображений предавать идею мировой революции. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях – не нами сказано, тем более когда речь идет о священной борьбе с врагами пролетариата!
Ковалев поразился выдержке Френкеля, а еще более его словоблудию. За женоподобной внешностью (плаксивые губы, тонкая шея при непомерно широком вороте толстовки, усталые выпуклые глаза) скрывался действительно бойцовский характер, умение звонким словцом ошарашить партнера и настоять на своем. Даже в том случае, когда на съезде его фракция оказалась в явном меньшинстве, а стоял перед ним, собственно, представитель ЦК.
– Мы призываем к священной борьбе с врагами! – повторил Френкель.
– Это все фразы, черт бы вас взял, бумажные тео-ре-тики! – закричал несдержанно Серго. – Фразы сопливых студентов и гимназистов, перепачканных чернилами, но помышляющих о большой крови! Романтика смерти им, видите, покоя не дает!..
Ударил кулаком по столу:
– Жить нада! Бороться нада! А не прибегать к печатным заклинаниям фракционного толка, Арон! Сейчас же снимай к чертовой матери свою передовицу, я тебе категорически приказываю! Где корректуры?!
Приказывать Серго мог: Френкелю был известен мандат за подписью Ленина, возлагавший на Орджоникидзе чрезвычайные права.
Принесли корректурные полосы. Одну из них Серго передал Ковалеву, в другую уставился сам, наскоро просматривая грязноватые оттиски ручного набора. Сердито дул в усы и крутил твердо посаженной головой.
– Ну вот, извольте видеть! «Возьмемся все за оружие и будем биться до последней капли крови... Долой предательский Брестский мир!» Кто это «возьмется за оружие», ваша фракция, что ли? Так вы, кроме карандаша и ручки... В общем, ты очумел, Арон! Вы все очумели, поддавшись на удочку Камкова, лидера чужой партии! Как не стыдно!
– Мнение товарища Троцкого, как известно... – начал снова обороняться Френкель. Его птичьи глаза устало моргали, то покрываясь тонкой пленкой век, то открываясь и мертво, без выражения глядя на Ковалева. – Даже на заседании ЦК...
Серго снова перебил его:
– Слуш-шай, у тебя тут есть подшивка «Правды» с материалами VII съезда? Есть? Ну так что ты мне крутишь мозги? Дай сию минуту газету! – Нашел глазами уже отмеченные кем-то красным карандашом столбцы и засмеялся глазами: – Вот! Про пер-манентную р-революцию» лучше па-малчим, товарищ Арон, а вот это кто гаварит? Это Ленин гаварит, для вас специально и о вашем брате пер-са-нально! – Акцент кавказца все более обозначался при волнении, когда он прочитывал отмеченные строки: – «Что они говорят?..» – речь о вас, «левых»! Говорят: «Никогда сознательный революционер не переживет этого, не пойдет на этот позор». Их газета носит кличку «Коммунист», но ей следует носить кличку «Шляхтич», ибо она смотрит с точки зрении шляхтича, который сказал, умирая в красивой позе со шпагой: «мир – это позор, война – это честь». Они рассуждают с точки зрения шляхтича, а я – с точки зрения крестьянина»[22]22
Ленин В. И. Поли. собр. соч. – Т. 36. – С. 22.
[Закрыть]. Кто это га-ва-рил? Немедленно сними свою статью, и чтобы никаких воинственно-канцелярских воплей ни в одной строке нашей газеты в дальнейшем! Это приказ!
Орджоникидзе снова поднял голос. Френкель побледнел, как будто он рисковал теперь не выполнить чью-то постороннюю волю, более страшную, чем воля Чрезвычайного комиссара Юга России.
– Я не сниму передовицу, ибо это наша платформа, платформа последовательных революционеров-интернационалистов.
Стало тихо.
Орджоникидзе молча постоял около редакторского стола, раскрылившись в своей тужурке из мятой кожи, одетой на дальний выезд. Закурил, пыхнул дымком. Затем, обойдя угол стола, мягко ваял Френкеля под локоть.
– У-ха-ди из этого кабинета! Я отстраняю тебя от должности, как не-разоружившегося... фрак-ци-онера и путаника! Вы не подчинились большинству нашей партийной группы, а потом и большинству на съезде Советов! Вы не понимаете основ демократии и простых приличий! Тут должен быть другой редактор!
– Это самоуправство, товарищ Серго, – четко и собранно сказал Френкель. – Ваш мандат велик, но он для низовых аппаратчиков и местных Советов. Внутри партии... другие нормы...
– Ничего, внутри партии тоже преобладает здравый смысл, – спокойно сказал Орджоникидзе. – Если ты не хочешь поступать как товарищ, я буду вынужден вызвать отряд, арестовать тебя и твою лично газету. Позови мне выпускающего, мет-ран-пажа хотя бы.
Позвали метранпажа. В кабинет вошел маленький, еще более низкорослый и щуплый, чем Френкель, но головастый, всклокоченный наборщик, выпачканный свинцом и типографской краской, в огромных роговых очках на небольшом горбатом носу. Сразу показалось даже, что в кабинет въехали эти огромные, похожие на черный фаэтон очки с массивными оглоблями, а потом уж стал заметен и человек под ними, с отливающими глянцем кудрями.
– Аврам... Гуманист, – протянул он тонкую в запястье руку сначала Серго, а затем Ковалеву.
– Гуманист – это что, фамилия? – отчасти оторопел Чрезвычайный комиссар. – Хар-рошая, представь, фамилия! Это другое дело, когда такая фамилия! Товарищ Гуманист, я отстранил редактора за антигуманные вопли и ввиду его политической неблагонадежности. Газета не может служить фракционерам – как ты понимаешь, как он понимает, как я понимаю!.. Так вот, под вашу ответственность, товарищ Гуманист, приказываю: статью против Брестского мира снять, инструкцию о повстанческом комитете в тылу немцев убрать, занять газету исключительно мирными материалами, классовой пропагандой и упреждением всякого рода левых перегибов! Хлеборобов тоже не задевать, помня о нерушимом союзе рабочего и крестьянина! Отвечаете по всей строгости революционного времени. Вам ясно?
Авраму Гуманисту мало что было ясно. Он плохо знал русский разговорный язык, так как прибыл в Ростов-на-Дону всего три года назад с эвакуированным из Варшавы университетом. Он был бедный польский еврей, мелкий служащий, не готовый к русскому революционному размаху. Он искоса глянул на Френкеля, будто советуясь: как быть в данных обстоятельствах и не лучше ли до времени уступить и подчиниться перед этим магнатом? Ведь не вечен же этот Чрезвычайный комиссар, и что такое, в сущности, весь этот Брестский мир, как не детская игрушка в сравнении с другими, не упоминаемыми в газете заботами?.. Или есть какой-то третий выход?
«Нет более воинственных людей, чем эти штатские... – почему-то с усмешкой подумал Ковалев. – Вот бы посадить на коня этого Гуманиста и посмотреть, как будут прыгать у него очки даже на малой рыси...»
– Товарищ Гуманист, с вас лично спросится за выход этого номера! – напомнил Серго.
На лестнице откровенно засмеялся, качая кудрявой головой:
– Как-кая харо-шая, прямо-таки восхитительная фамилия у этого наборщика, а? Ковалев! Ты что молчишь, как неживой?
– Все думаю, – сказал Ковалев, сутуло двигаясь за неугомонным Серго. – Все думаю, Григорь Константинович. Каких только людей нету на нашем родимом Дону. Республика, одним словом...
Они выехали из города лишь к обеду.
...За станцией Чалтырь автомобиль, катившийся по степному проселку под белым флагом, обстреляли из ближней балки. Орджоникидзе приказал выше поднять древко над ветровым стеклом и сказал:
– Если немецкие заставы – полбеды, но вот если гайдамаки или донцы-молодцы, тогда дело пропащее, – и засмеялся.
– С донцами попробуем договориться, – буркнул Ковалев, ревниво прислушиваясь к интонации, с которой Серго упоминал своих противников. – Донцы многие тут оказываются по темноте и убожеству мышления. Не успели мы...
– Не все, не все, хватает и образованных! – возразил Серго.
Шофер не жалел газа, пролетели опасное место, подняв тучу пыли. Близ станицы Армянской пришлось сбавлять скорость: на дороге появился конный разъезд германской армии. Немцы-ландштурмисты на рослых битюгах буланой масти, в болотно-зеленых коротких мундирах грубого сукна обступили открытый автомобиль.
Вестовой-переводчик, сидевший рядом с шофером и державший парламентерский флаг, сказал на ломаном немецком языке, что делегации РСФСР и Донской суверенной советской республики следуют для переговоров в ближайший армейский штаб германских войск.
– Штейн-ауфф! Аллес!.. – приказал рыжеусый ефрейтор с жесткими, внимательно глядящими на делегатов глазами. И попытался объясниться по-русски:
– Обис-кайт! Вир будем обискайт унд арестовайт аллес... делегат».
– Я протестую! – сказал Орджоникидзе, держась рукой за древко флага. – Мы парламентеры и граждане России, с которой Германия имеет мирный договор. Гражданин Ковалев представляет здесь суверенитет Донской советской республики, которая также находится в состоянии мира с Германией...
Переводчик торопливо перетолковывал сказанное. Но тщетно. Ближний ландштурмист снаружи открыл левую дверцу и вытащил за тужурку шофера, невзирая на его громадные очки и кожаное кепи международной лиги воздухоплавателей.
Ковалев начал терять самообладание. Встал в машине во весь свой длинный рост, голова его пришлась в уровень с головой ефрейтора, сидевшего на копе. Рявкнул с угрозой:
– Ты что, мать т-твою!.. Никогда не слыхал, кто такие донские казаки?! Мало вас под Луцком порубили, колбасников? Не понимаешь международного языка?! – и протянул свой мандат на хорошей бумаге, изъятой у фабриканта Асмолова заодно с автомобилем. Огромный красный гриф на обрезе мандата взывал к пониманию: «Центральный Исполнительный Комитет Донской советской республики...»
Вестовой старательно перевел реплики Ковалева, выделяя ругательства, но обойдя упоминание о колбасе, а также и городе Луцке, где отмечались активные действия казачьей конницы в момент Брусиловского прорыва.
– Донская республик – это... казаки? – с интересом спросил ефрейтор, глядя то на мандат, то на белый воротничок Ковалева, то на его грубое, почерневшее от гнева лицо. – Казаки? Но... почему же они... Совьет?
Ковалев мрачно, играя кадыком, посмотрел сначала на немца, потом на своего переводчика:
– Скажи ему, что своим дурацким вопросом он вмешивается во внутренние дела дружественной державы!
Орджоникидзе жевал готовую сорваться с губ усмешку, взял Ковалева под руку, для устойчивости в машине:
– Осторожнее, товарищ президент. Черт их знает, они все-таки понимают что-то по-русски... Этикет все же.
– Бандиты, – сказал Ковалев угрюмо и сел на место.
– Следовать форвертс, – махнул рукой ефрейтор и тронул коня, давая машине дорогу к Армянской. Обыск продолжать он не посчитал возможным. Рослые, откормленные битюги затрусили по обе стороны автомобиля, катившего на малой скорости.
У заставы последовала долгая процедура проверок, прежде чем принял их сухой, длинный, под стать Ковалеву, немец с витыми генеральскими погонами. При нем был хороший переводчик из тавричан-колонистов, по виду учитель либо конторщик крупной экономии. От имени генерала переводчик принес формальные извинения за некоторую бестактность задержания депутации РСФСР в черте военных действий.
Орджоникидзе и Ковалев стоя выслушали дипломатические церемонии, затем Серго заявил хорошо поставленным голосом митингового оратора, нажимая особо на излюбленную в немецком языке букву «р»:
– По пор-ручению пр-равительства Р-российской Советской Федор-ративной Р-республики я заявляю решительный протест германскому командованию против неслыханного нар-р-рушения им Брестского договора о мире... Мое правительство желает иметь необходимые объяснения причин, по которым немецкие войска сочли возможным перейти границы союзной им Украины и занять русский город Таганрог.
Ковалев повторил то же самое относительно нарушения кайзеровскими войсками границ Донской республики и присовокупил, что донское казачество вместо со всем цивилизованным человечеством восприняло с удовлетворением мирный договор в Бресте, но в силу обстоятельств, от него но зависящих, может в любую минуту встать на защиту целостности своей революционной Республики со всей решительностью, на которую только способно донское казачество!
Ковалев говорил трудно, с одышкой ярости. «Черт бы его взял, этот этикет дипломатии! – вертелось в голове. – Надумал Серго приодеть меня в галстук с крахмальным воротничком! Куда лучше было заявиться сюда с шашкой и при лампасах – это для них было бы понятней!»
Генерал с натянутой миной и сонными безразличными глазами долго и пространно излагал соображения, по которым его войска оккупировали Таганрог. Гетманское правительство Украины, как союзник Германии, сказал генерал, обратилось к могучему соседу за помощью в час общей тяжелой борьбы с революционной анархией и опасностью большевизма с востока...
Обратив замороженный взгляд в сторону Ковалева, этого дикого варвара в крахмальном воротничке, генерал начал с обращения «герр президент», и сам Виктор Семенович взмок от непривычных церемоний. Но смысл дальнейших слов говорил о полном небрежении с немецкой стороны как к договору с РСФСР, так и к суверенности Донской республики.
– Разумеется, Таганрог и Ростов не лежат в границах гетманской Украины, – растолковывал переводчик доводы генерала. – Но ввиду важного стратегического положения этих городов... армия великой Германии вынуждена – сугубо временно, конечно! – занять тот или иной город в целях укрепления безопасности как союзной Украины, так и собственных границ... Есть приказ: в случае необходимости занять не только Таганрог, но и большевистский Ростов.
Ковалев сник. Он не был внутренне готов к подобным переговорам, воспринимал все слишком непосредственно, всею болью души. Серго был куда более спокоен, даже ироничен, но и он понимал, что цель ими не достигнута, немцы попросту не хотят разговаривать с красной Россией.
Проводили их, впрочем, ужо с необходимой вежливостью, и на границе «сферы влияния немецких войск» штабной офицер из Таганрога даже отдал на прощание честь. Парламентерский флаг свернули и засунули под сиденье автомобиля.
– Ну, что? – спросил Ковалев.
– Плохо, – сказал Орджоникидзе. – Придется, по-видимому, воевать... Не только на дипломатическом фронте.
Автомобиль мягко катил по извилистому, пыльному проселку. Ковалев свесил голову, упираясь подбородком в свою больную грудь, и вроде задремывал. Но Орджоникидзе не верил в его спокойствие, толкнул в бок:
– Удержим Ростов?
– Я сейчас о другом думал... – очнулся Ковалев и посмотрел по сторонам. – Я о том, почему это вся Таврия у нас перенаселена немцами-колонистами? Какая цель была у русских царей, что они в такой массе запускали сюда цивилизованных переселенцев? Ведь для собственных крестьян земли не хватало! Что это была за политика, и кто, собственно, был колонистом, а кто – колонизатором?
– Давние дела! – усмехнулся Орджоникидзе. – Теперь это не имеет ровным счетом никакого значения: все нации в конце концов должны перемешаться.
– Оно-то так. Но это – в отдаленном времени. А пока все перемешается, как говорите, кайзеровские солдаты идут по нашей земле, и на пути у них – готовые переводчики, наводчики и всякие шпионы. Как-то не по душе мне эти давние дела!
Переводчик слишком заинтересованно слушал Ковалева, а Серго вздохнул и положил растопыренные пальцы на мосластое колено соседа.
– Главное, Ковалев, принципы. Вот поглядишь, и в Германии грянет революция. Пролетарская. И немцы-колонисты станут, в силу общего закона, немцами-интернационалистами.
– Да, – кивнул Ковалев. – Я эту политграмоту еще на каторге усвоил. Но иные частности сильно осложняют политическую линию, арифметику нашего мышления...
– А Ростов? – снова напомнил Серго.
– Дело плохое. Против своей внутренней контрреволюции у нас сил хватало, но против немцев нужны пушки и сплошная линия обороны. Но... если они пойдут на Ростов, будем воевать все же партизанскими средствами. Мы к этому привычны.
– Понимаешь, какое дело, – сказал Орджоникидзе. – Отбивать у немцев Ростов придется скорей всего не столько нам, сколько наркому Чичерину, и потери могут быть соответственно больше. Вот в чем закавыка. Слава богу, что Троцкий сдал полномочия наркома, перестанет путать... А кто такой Чичерин, твердый человек?
– Его выдвинул Ленин, – сказал Серго. – Старый большевик.
– Троцкий этот... тоже вроде колониста на дороге попал к нам, а куда путь держит, вряд ли скоро разберешься, – вздохнул Ковалев. – Навредил и – в сторону, а нам расхлебывать.
– В том и задача, – хмуро кивнул Серго. – В том и сложность, что в этом мире идет большая борьба, и границ ее при всем желании не окинешь взглядом. Но главное, повторяю, Ковалев: прин-ци-пы партии, принципы большевизма...
22
Вечером к Ковалеву зашел Френкель.
По виду он был совершенно убит и расстроен неожиданным отстранением его от важной политической работы, просил помочь в новом для него положении рядового члена партии. Ковалев посмотрел на огромные карманы его толстовки, набитые какими-то бумагами, на квелые, распущенные губы и растрогался сам, не зная, как и чем в данную минуту Френкель оправдает свое поведение перед Серго.
– Газета вышла? – спросил Ковалев, пригласив Арона к столу.
– Вышла, конечно! – воспрянул духом Френкель. – Беззубая, соглашательская, но, пойми, Ковалев, это лишь под давлением силы! Я буду об этом писать... И верх беззакония лишать меня той работы, которая стала моим призванием и специальностью. Я ночей не спал! А теперь вот, не изволите ль видеть, хожу, как американский безработный, люмпен... В сущности, этот меньшевик Гроссман по-своему прав: где у нас обычное человеческое право самостоятельно мыслить?!
Френкель был от рождения запальчив, а интеллигентное воспитание и образованность (во всяком случае, не ниже реального училища!) давали ему право, как он сам считал, на самостоятельность мышления. Он считал, что даже Троцкий не прав полностью, когда отстаивал в первый момент переговоров межеумочный принцип «ни мира, ни войны». Нет, только священная война с мировым жандармом – кайзером, только мировая революция, и – ни грана меньше! Силой штыка и пули, силой всемирной катастрофы!
– Но если самостоятельность... – вздохнул Ковалев, скрадывая голос, как бы даже и не споря с Френкелем. – Если самостоятельность, тогда уж и мне, и Серго, и, скажем, Щаденко из Каменской. А? Почему только вам и Гроссману?
– А-а, ты, Ковалев, ровным счетом ничего не понял! – обиделся Арон.
– Самый неподходящий момент... выяснять права отдельной личности в момент вооруженной схватки двух мировоззрений, – сказал Ковалев хмуро. – Да еще при множестве взаимоисключающих оттенков с той и другой стороны. Думаю, Арон, надо тебе пойти в агитпроп, там, среди рабочих, быстро определишь свою линию.
– Нет... – сказал Френкель просительно. – Нет, я хотел бы поехать с этой экспедицией в северные округа, товарищ Ковалев. С Подтелковым и другими.
– Какая цель? Там уже полный состав...
– Откровенно? – Френкель, как видно, полностью доверял Ковалеву.
– Безусловно.
– Доеду до конечного пункта, кажется, станции Себряково, помогу им на время мобилизации казаков, а потом переберусь в Царицын, там для меня найдется редакторская работа. Тем более что у них издается не одна, а две наши газеты!
– Может, поехать бы тебе с Дорошевым в Великокняжескую, там тоже у нас создается опорный пункт, будет выходить и газета. Да и люди нужны по линии агитпропа опять-таки...
Френкель отшутился:
– Ну что ты, Ковалев! Под Великокняжеской до сих пор бродит недобитая банда походного атамана Попова! Я ужасно не хотел бы встречаться с этими головорезами. В Усть-Медведице все намного проще и работа ближе. Я бы мог поехать даже казначеем, лишь бы попасть в этот отряд.
– Ну зачем же! Будешь вместе с Орловым и Кирстой возглавлять политическое ядро, – сказал Ковалев, не терпевший никакого, даже малого и шутливого самоуничижения.
– Я ведь... но в тыл прошусь! обиделся Френкель.
Ковалев как будто не возражал, обещал содействие в конце концов, и Френкель возвращался к себе в номер повеселевшим (он жил здесь же, в гостинице) и чувствовал себя отчисти даже в выигрыше.
В номере его ждали друзья, с которыми обычно приходилось пить чай по вечерам, делиться впечатлениями дня. На этот раз Блохин, Сырцов, Равикович и Турецкий пришли посочувствовать ему в связи с уходом из газеты, ну и обсудить собственное положение после съезда Советов. Ясно было каждому, что их левая фракция потерпела полное поражение не только в партийной дискуссии, но и организационно. Открытое выступление Сырцова с трибуны (с декларацией против Брестского мира и линии ЦК) привело к тому, что при распределении должностных портфелей никто, кроме того же Сырцова, не вошел в Донское красное правительство. Даже Блохин, признанный лидер и знаток профсоюзного движения, удостоился лишь поста заместителя наркомтруда, в помощь наркому Бабкину, представителю из Москвы. А наркомом просвещения утвердили офицера Алаева! Смешно, чтобы не сказать хуже... Конечно, Алаев до войны был народным учителем и человек начитанный, но он, во-первых, беспартийный, а во-вторых, сочувствующий партии социалистов-революционеров, левых! Об этом казусе можно было бы поговорить и более пространно, если бы здесь же, в компании, не сидел еще представитель с Украины, левый эсер Врублевский. И ничего не было зазорного в том, что все, как товарищи по борьбе, сидели они за одним круглым столом, пили желудевый кофе с привозными медовыми пряниками и делились мыслями по поводу проигранного дела.
Известие Френкеля о разговоре с Ковалевым и насчет того, что он решил твердо ехать в Царицын, всех немного огорчило: здесь до его прихода обсуждались совсем другие планы.
– Ты, кажется, поторопился, Арон, – сказал Турецкий, бойкий на слово и неудержимый в полемике. – У Гриши другие новости.
Он указал глазами на Блохина, и Френкель догадался об источнике.
– Из Воронежа?
– Ну да. По-видимому, многие еще не в курсе, но в Воронеже уже знают: Троцкий получает новый ответственный пост, наркома по военным делам, формирует почти заново целое ведомство... – говорил за Блохина Турецкий. – Пусть на Дону нас обошли, здесь пышным цветом бушует казацкий сепаратизм, но это не так уж важно, если учесть угрозу со стороны немцев и непременное крушение этой пресловутой казачьей республики, главное в нашем положении – уметь ждать. Рано или поздно Карфаген будет разрушен, – как-то легкомысленно пошутил Блохин, и трудно было понять, относится ли его ирония к надеждам Турецкого или же направлена в сторону упомянутой республики, отказавшей им в доверии. Сырцов непонимающе оглянулся на Блохина, но ничего, не сказал.
– Да. Но некоторым надо... с мандатами наркомвоена... надо спуститься южнее, на Кубань, чтобы не допустить такого же провала, как здесь. В Екатеринодаре стоят большие силы красных, но нет политически зрелых людей, полное засилие разного рода автономовых и полуянов, и, по сути, тот же сепаратизм,–сказал с презрением Равикович.
– Что-нибудь замечено? Уже замышляют? – спросил Френкель.
– Нет. «Она не родила, но – по расчету, по-моему, должна родить!» – засмеялся Турецкий. – Знаменитая цитата из русской пьески «Горе от ума»... Никогда не надо забывать старые мудрые афоризмы литературы! Хотя они и относятся к дворянскому ее периоду!
– Не так уж все и наивно, Арон, – добавил Равикович. – Представь себе, помощник главкома Кубани, некто Сорокин (он тоже «стратег» и еще, кажется, фельдшер...), недавно женился на сестре самого Автономова! Прямо как в лучших королевских домах Европы! Главком – донской офицер, помощник и заместитель – кубанский, и вот они уже, так сказать, породнились семейно. Разве не трогательно и разве – не сепаратизм? Душок-то?
Сырцов заметил, к слову, что в Воронеже единомышленники считают их поражение здесь сугубо временным. Линия Ленина по Брестскому вопросу одержала верх на Дону исключительно с приездом Орджоникидзе, а также выдвижением на первые роли Ковалева и Каменской группы партийцев. Но ведь могло быть и иначе...
– Еще этот Киров с Кавказа, – добавил Турецкий. – Представьте, в какую даль надо было! Что же, наши-то в Грозном не могли придержать за хлястик?
– Орджоникидзе скоро уедет в Царицын, а потом в Грозный. – сказал Блохин. – Очень много возникает вокруг работы. Всем! И очень жаль, Арон, что ты надумал ехать в противоположную сторону. Мы вот, кроме Сергея, конечно, и меня, всем рекомендуем завтра же отправляться на Кубань. Пока не поздно.
– Ничего, около Подтелкова тоже кому-то надо быть, – сказал Френкель серьезно. – Грамотешка у казака небольшая, надо его поправлять в наиболее сложных моментах политики. Помогать, так сказать, где словом, а где и делом. Он обещает две-три дивизии сколотить в самый короткий срок. И ударим по немцам!
– Считаем информацию принятой, – снова с иронией сказал Блохин. – Поэтому давайте отходить ко сну, как говорится. Время позднее.
В городе снова стреляли. Похоже, главная свалка шла на вокзале, но, как всегда, шум докатился и до Таганрогского проспекта. Расходились из номера под тревожный грохот, Френкель на правах хозяина комнаты провожал всех до вестибюля гостиницы.
Внизу, у крайних дверей, была какая-то свалка, крики часовых и удары прикладами, оглушающе раскатился но вестибюлю выстрел... В «Палас-отель», как видно, вновь рвалась банда полупьяных анархистов.
– Целый ашалон на путях, нас не застращаешь! – заорал чей-то луженый бас – Отчиняй канцелярии, в душу мать! Игде главные комиссары?!
Прижимаясь к стене, Френкель и Сырцов пропустили в боковой коридор Блохина, Равиковича и поляка Врублевского, вышли на площадку второго этажа, нависавшую внутренним балконом над парадным входом. Отсюда открылась им удивительная в своем роде, не раз уже повторявшаяся по ночам сцена. Часовые, скрестив штыки, с трудом сдерживали рвущуюся в помещение толпу анархистов, сам Серго Орджоникидзе, крича что-то горловым грузинским голосом, с усилием вырывал гранату-бутылку из рук длинного, вихлявшегося матроса в распахнутом бушлате и с пулеметной лентой через плечо, а вниз по ступеням стремглав бежали Иван Тулак и Ковалев, сотрясая воздух громогласными ругательствами. А уж за ними, не поспевая, летели дежурные казаки с шашками наголо...
– Дальше не провожай, – сказал тихо Сырцов, пожимая руку Френкелю. – Дальше сам найду дорогу...
Орджоникидзе удалось все же вывернуть из пьяной руки гранату, и тут два казака мигом скрутили длинного матроса, втянули в помещение, а Ковалев выдавил отхлынувшую толпу за порог и свел тяжелые, украшенные кованой бронзой дверные створы, накинул тяжелый внутренний крюк.
– Та я ж дуже завзятый за... свободу!! – ошалело заорал анархист, когда ему заломили руки назад.
– Ну, Сырцов, долго эта сволочь будет пиратничать у нас по городу? – взревел Иван Тулак, командир комендантского батальона. – Скоро ты договоришься с ихним сидренионом, или я завтра с пулеметной командой вырежу эту сволочь на путях поголовно! Сколько терпеть?!
Сырцов хотел напомнить что-то касательно паритета с партией анархистов и мирного привлечения их на свою сторону, но Серго, успевший проверить кольцо на рукоятке гранаты, передал ее Ковалеву и спокойно взял под локти и Тулака, и Сырцова. Сказал твердым, примиряющим голосом:
– Об этом после. Зайдем сейчас наверх, говорят, немцы подошли вплотную к городу, заняли Хапры и Чалтырь. Надо срочно созвать штаб обороны и думать об эвакуации. С анархистами доспорим чуть позже, – Серго скупо и каменно усмехнулся, первым пошел вверх по лестнице.