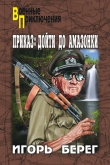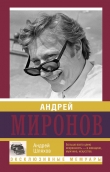Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 44 страниц)
16
8 февраля 1919 года газета «Правда» сообщила о занятии красными частями окружной станицы Усть-Медведицкой без боя. Попутно на сторону красных добровольно перешли семь белых полков. Захвачен бронепоезд, аэроплан, несколько паровозов, вагоны, 5800 снарядов и большой обоз... Этот 31-й номер газеты привез в Усть-Медведицкую Сокольников, и с ним в машине вернулся из Лисок комиссар Ковалев.
Черный, открытый автомобиль-ландо стоял на площади, у собора, в машине поместились, кроме приезжих, командгруппы Миронов, начштаба Сдобнов и Николай Степанятов. Бригада Блинова выстроилась полудужьем по краю площади в конном строю. Сам Миша Блинов стоял под знаменем бригады, бледный от волнения, с шашкой на караул.
Оттепельные снежинки, словно ленивые мухи, медленно опускались на плечи, черный лак машины, выпущенные казачьи чубы, жесткие гривы лошадей.
Гудел крепковатым баском высокий, затянутый в черную кожу, член Реввоенсовета Сокольников:
– Товарищи бойцы 23-й мироновской дивизии, наши красные орлы! Товарищи конники легендарной блиновской бригады! Крылатая слава о ваших подвигах летит не только над вашими родными придонскими холмами и вольной степью, она повергает в жалкий трепет последних прислужников мировой буржуазии, генералов Краснова и Деникина вместе с их прихвостнями, она вселяет гордость в сердца рабочих и крестьян, о вас знают рабочие Москвы, се славной Красной Пресни, и рабочий Питер, и Север, и Восток, ваша слава летит и за Урал, куда мы посылаем теперь на борьбу с Колчаком казачьи полки с Дона... Слава революционному казачеству!
Грохнуло троекратное ура, стая сизых галок поднялась с криком над церковной колокольней, закружилась с тихим снижением, как после пожара… Сокольников еще выше вскинул руку:
– Как вам, должно быть, известно, товарищи. Советское правительство высоко оценило заслуги вашего геройского командира товарища Миронова Филиппа Кузьмича! По ходатайству Высшего военного совета он награжден главным нашим военным знаком доблести и геройства – орденом Красного Знамени! Он – третий человек в Республике, удостоенный такой высокой награды... – Сокольников сделал паузу, задохнувшись сырым ветром, а еще и от некоторой неловкости – орден этот Миронов не получил и вряд ли скоро получит из-за канцелярской путаницы. Но суть дела была не в том, и потому он вел речь свою дальше: – Кроме того, товарищи, на днях Реввоенсовет вашей 9-й армии наградил товарища Миронова за храбрость в решающих боях декабря и января именной шашкой в серебряном окладе, а также золотыми часами и выносит товарищу Миронову благодарность! Вручаю вам, Филипп Кузьмич, эту боевую награду, серебряную шашку революции... чтобы вы и дальше!..
Миронов отцепил с портупеи прежнюю свою серебряную шашку с красным темляком, передал вестовому, и на те же кольца Сокольников не спеша прихватил зажимами новый наградной клинок.
Рев на площади достиг такой силы, что галки сизой тучей обошли круг и, кренясь в полете, направились через Дон, а затем с новым поворотом к куполам монастырских церквей. Зимние папахи, легкие кубанки и фуражки с красными околышами взлетали над конным строем, кони беспокойно сучили передними ногами, поджимали крупы, как перед атакой. Да нет, и в атаках не ревели так дружно и с таким ожесточением мироновские конники, называемые теперь, после лихого рейда под Филоново, еще и блиновцами.
Филипп Кузьмич привычным движением прихватил тяжеловатые, на совесть отделанные серебряной чеканкой ножны, нашел правой кистью незнакомый еще, непривычный до времени эфес, попробовал на вынос клинка. Сталь прошла в мягкой внутренней оклейке легко, плавно, захотелось даже выхватить клинок на всю длину. Но сдержал руку и сердце, потому что главное в нынешнем торжестве было еще впереди.
– Товарищ Ковалев! – Сокольников пригласил комиссара ближе, известил бригаду: – Товарищи бойцы! Реввоенсовет фронта доверяет вашему геройскому комиссару, большевику-политкаторжанину товарищу Ковалеву... зачитать новое постановление ВЦИК о награждении...
Ковалев дрожащими руками взял большой форменный лист, начал читать знакомый текст – основания к нему он сам и составлял, тогда еще, после взятия крупной станции Филоново, – и по мере того как смысл бумаги приближался к концу, к имени награждаемого, костенела тишина, восторг распирал некую общую грудь бригады.
За отчаянную храбрость!
В состоянии тяжелого пулевого ранения! Умелое проведение операции на решающем участке боя!
Беззаветную преданность рабочим и крестьянам, партии большевиков-коммунистов и ее вождям... награждается орденом боевого Красного Знамени командир бригады 23-й мироновской дивизии Блинов Михаил Федосеевич!
«Но ослышались ли? Нашего Мишу? Мишатку? Урядника из Кепинской? Правда, что ль? На Павлину бы глянуть, она-то где? Жива ли баба или уж водой отливают? – бормотали в толпе жителей, собравшейся на площади» – Так это же все Ковалев сработал, он же его любит, как младшего брата! Вместе с Кузьмичом, ясное дело... Планты-то вместе разработали, этот тугодум Сдобнов, поди, заранее все расчертил красным карандашом, а Блинову, ему того и дай ввязаться в рубку, он тут как тут! Погляди-ка, сидит как мертвый на споем буланом! Ну, черти бы их взяли, кругом работают чисто! Скоро, видать, и вправду Новочеркасск возьмем ради круглого счету...»
– Товарищ Блинов! Подойдите к получению награды! – голос Сокольникова.
Чертом подлетел к лошади комбрига вестовой Яшка Буравлев, взял под уздцы, вроде она дикая или уж сам Блинов в такую минуту и поводья не в состоянии держать. Михаил Федосеевич свою шашку, что держал на караул, кинул в ножны, начал слезать с седла... Люди смотрели со всех сторон. О-хо-хошеньки, до чего же долго ногу-то переносил через заднюю луку, через лошадиный круп, все думали, что прямо упадет, вроде как пьяный. Нет, ничего, повод кинул на луку, прифасонился, дернул к автомобилю строевым, четким, на каблук...
Дверца распахнулась, длинный Сокольников, весь в коже, вышел с орденом в руке... Блинов в заломленной серой папахе взял под козырек. Полушубка на нем не было, ему и в тощем староказачьем суконном чекмене жарко. Прокололи старое сукно на уровне сердца, приложил товарищ Сокольников к тому месту красную розетку из кумачной ленты и сверху припечатал штампованным на веки вечные серебряным знаком, а с изнанки закрепил винтом – по заслуге и честь!
– Поздравляю, товарищ Блинов, от лица правительства и Реввоенсовета Республики! Больших успехов вам!
Вот тут-то и грохнул ружейный салют, и раскинулось «ура» над станицей, и кони заржали на левом фланге, прося повода, переплясывая перед большой дорогой.
Вручали еще именные часы бойцам-конникам, двадцать серебряных и сто обычных.
Блинов сказал с автомобиля свое слово, потом Миронов выдернул-таки над головой сухое литье клинка, зажег бригаду известными только ему, жгущими правдой и верой, калеными словами о вере и правде человеческой. И весь конный строй, вся бригада, осиянная переливчатым блеском клинков у своего знамени, молча повторяла его долгожданный призыв:
– На Новочеркасск!..
После обеда в штабе, который располагался по старой памяти в бывшем доме окружного атамана, Миронов доложил Сокольникову, что штаб 9-й армии странным образом игнорирует группу войск, иной раз по семь-восемь дней не шлет никаких директив, на донесения отвечать не спешит. Сокольников успокоил тем, что в нынешнем положении и при полном перевесе наших сил единственно уместной директивой может быть директива – наступать.
– Между прочим, должно быть подтверждение следующего: вам передается в оперативное подчинение и 14-я стрелковая, товарища Степиня. Был разговор у Княгницкого. Так что штаб вашей группы становится полевым штабом армии. Уяснили? Как скоро можете выйти к Дону?
– Надо поспеть до оттепелей, чтобы пробежать по льду, товарищ Сокольников, – сказал Миронов. – Форсировать Донец в полую воду трудно. Надо ведь прикончить Южный фронт к началу сева. Чтоб и войну выиграть, и Республику накормить.
– Как это получится конкретно, в числах?
– Новочеркасск думаю ваять... не позже 5 марта.
Тут же приказал Сдобнову готовить операцию по охвату Морозовского укрепленного участка и станции Суровикино с расчетом выхода к левому берегу Донца не позже 15 февраля. Комиссару Бураго сказал:
– Займи тут, Христофорович, людей. Мне-то ведь и в семью надо зайти...
Бураго кивнул, с сочувствием глянув на командующего.
Еще не стемнело, только первая предвечерняя мгла пролилась по снежным улицам станицы, легкий морозец покусывал мочки ушей, и почему-то покалывало над бровями – наверное, застывал выступивший еще на митинге пот. Миронов шел домой в сопровождении вестового, который нес в холстинной торбочке какие-то продукты и под мышкой держал старую его шашку с тусклым, полинявшим серебром, побитыми за долгие годы ножнами.
На первом же перекрестке неожиданно увидел дочь Марию с внуком. По-видимому, случайного здесь ничего не было, поджидала она отца недалеко от дома. Понимала все. Сразу присела к трехлетнему своему карапузу, указала вытянутой рукой в направлении идущих и сказала радостным, наигранным для сына, голосом:
– А кто там идет, кто идет-то, Никодимчик! Смотри, кто идет, ай ты уже и забыл совсем за год-то? Деда, деда – скажи!
Миронов остановился и чуть не заплакал. Бежал к нему маленький человек, родной, крепенький и так потешно одетый – вовек бы не придумать! Ну, подумайте, человеку три года, а его засупонили в полушубок боярку (какого же это размера то?), и лохматую папаху под отчаянного текинца (ну, окаянные!) и – что самое главное – в маленькие сапожки и шаровары с лампасами!
– Вот это уважили! – Он схватил внука на руки, и малец каким-то образом почуял в нем родню, тут же прижался к мягким отворотам дубленого полушубка, – А сапоги-то кто стачал? Туда же ни колодку, ни руку не просунешь, а, Маня?
Мария, счастливая, шла рядом, заглядывая сбоку отцу в жмуристые и почему-то невесолые, провальные какие-то глаза, в волнении поправляла на плечах и вокруг шеи мягкий пуховый платок. Говорила взахлеб:
– Так никто и не брался, какие там сапоги, говорят! А Вукол-то Наумов аж засмеялся! Для внука Миронова да чтобы сапоги не стачать, да грош нам, здешним чеботарям, цена, говорит, ежели не сумеем! Выдумал и колодки, и какой-то крючок, чтобы их доставать через голенища. Вот, приобул казака...
Смеяться бы, радоваться Миронову, да только была другая печаль, кроме первой, что душу палила огнем и пыткой... Теперь с домом его разделяли не только разрыв со Стефанидой (уже почти понятый и принятый дочерьми), но и смерть Вали. И знал Миронов: теперь-то в семье не будет никогда мира, а ему – отцу и мужу – не дождаться прощения...
Мария была взрослая и умная, она не пошла сразу в дом матери, а осталась еще на улице с сыном, сказав, что кто-то ей нужен по делу. Филипп Кузьмич постоял около в синих сумерках и в тяжком раздумье, прикинул, стоит ли говорить Мане сейчас о самой главной их семейной беде, и решил пока подождать. Хоть какой-то час, до дома. Сказал, спуская внука с рук на снежный наст:
– Знаешь что, Маня... Тут мне нынче шашку в серебре преподнесли от Реввоенсовета армии, и думаю, она и пойдет после меня по наследству Артамошке... А вот эта осталась, с германской. – Он обернулся и взял старую шашку из-под локтя у вестового. – Так думаю, что ее по закону надо оставить внуку-казаку! – Засмеялся с грустью: – Тем более что он – в лампасах и с такой залихватской папахой на бедовой головенке! – Поднял вновь Никодима и поцеловал в тугую, прохладную щеку. – Возьми эту шашку для Никодима. Не тяжело тебе – до дому?
– Ну что ты, папа! – сказала Мария, покраснев от удовольствия. – Говорят, и боевой орден Москва присудила? Верно?
– Да вроде бы так... Но там какая-то неточность при оформлении, так что вряд ли скоро к этому вернутся. А представление было, еще осенью.
– Так я скоро, скажи, зайду, – потупилась Мария, посмотрев сначала в сторону дома. И тронула носком ботинка притоптанный снег на боковой тропке.
Миронов отослал вестового с торбой в летнюю стряпку, в дом вошел один. И недаром. Стефанида с обвязанным мокрым полотенцем лбом, как при обычной мигрени, вдруг отступила от него к дальней двери, и выставив ладонь щитком, сказала упавшим, не своим голосом:
– Не подходи, не подходи, не подходи!.. – И переведя дух, собравшись с силами, еще добавила: – И зачем... сюда-то? От красных шалав!..
Что-то было в лице ее незнакомое, отчаянное.
Да. Она была нездорова, и характер с возрастом у нее вовсе испортился, ведь переживала она осень, закат женщины, и это надо было понять, не говоря уж о его собственной вине.
Филипп Кузьмич, не раздеваясь, прошел в передний угол и сел под образами, широко разведя колени, потому что на них тотчас же уселся радостный, подросший, крепкий жилами одиннадцатилетний Артамон. Схватился за эфес шашки и тут же испуганно убрал руку.
– Мам, а шашка... другая!
– У него... уже все другое!.. – заплакала Стефанида, стоя в двух шагах и с незнакомой, чужой ненавистью глядя на мужа. – До седых волос... Ох, Филипп, истерзал! ис-тер-зал ты всю мою душу!.. Люди-то! Все – и войсковой атаман, и окружной, и Коротковы, соседи, офицерство, наши знакомые, все, все в толк взять не могут, что с тобой приключилось, что ты как с цепи сорвался-то, режешь да рубишь живых людей! Казаков своих не жалеешь! Соседей!
– Подожди, – холодно, очень спокойно сказал Филипп Кузьмич. И тоже руку щитком выставил, как она в самом начале. – Подожди, Стеша. Не до этого. Большая беда у нас... – Стащил как-то неловко, на сторону, волглую от комнатного тепла папаху с головы и безнадежно кинул на голый стол. – Валя... погибла! Убили... эти... доброхоты, твои «добрые люди»!
Занятая своей болью и своими словами, Стефанида не сразу расслышала, о чем он сказал. И в то же время смысл сказанного как-то непонятно, искрой пронзил ее насквозь.
– Что? Как?.. Она же – в Царицыне?! – И закричала, кривя лицо, спрашивая с него: – Она... в Царицыне, иль нет, скажи!.. Изверг проклятый!
– Не доехала. Сняли с поезда... Твои благодетели, рыцари, истинные казаки... Расстреляли в ярах, под Котлубанью!
Сник, упал на ребро стола, голова каталась от неутолимого горя, и Миронов скрипел зубами, зажмурив глаза до боли, до оранжевых искр и многоцветных орлов за веками, все хотел зажать, не выпустить на волю слез. Но их задержать никто не в силах, ими можно даже захлебнуться...
– Белые сволочи! Они о Миронове – басни... Целый год! А я ни одной бабы не то чтобы расстрелять... в холодную не посадил! Ни одной!
– Валя... Ми-ла-я!.. – закричала мать в голос.
Он не видел, как за плечом его Стефанида сомкнула пальцы рук в замок и, вознеся их над головой, вдруг упала на колени, стукнувшись чашечками суставов о крашеный дубовый пол (в передней пол был дубовый, по-старинному), и начала валиться на пол, исходя воем:
– Ва-а-аля, до-чень-ка-а-а!..
Тут из глубины дома, из девичьей спальни, выбежала младшая, Клавдия.
Посмотрев странными глазами на мать, на отца, подхватила тут же мать под мышки, старалась поднять, успокоить.
Артамон забился за стол, испуганно смотрел на лежавшую на полу мать, на неподвижно сидевшего рядом отца – он был как чужой, в полушубке...
С холода вошла Мария, пустила по полу Никодима в казачьем одеянии, и Миронов вдруг содрогнулся – так не к месту и не к часу был весь это праздничный наряд ребенка!
– Что такое? – прошептала Мария.
Отец молча встал, помог дочерям отнести мать в спальню, на кровать.
Мария быстро разделась, нашла уксус, сделала компресс. Ей во всем помогала Клава – они, как бывшие гимназистки, когда-то сдавали курс сестер милосердия, а Маня даже готовилась идти на войну с японцами. Теперь вот надо было оказывать первую помощь родной матери.
Стефанида обессиленно повторяла имя погибшей Вали, скоро Клава и Маня все поняли, закричали в три голоса. Стало невмочь.
Он сидел молча и вытирал мокрое лицо папахой.
Клавдия остановилась за плечом отца, сказала в пространство, как бы не требуя никакого ответа, но обращаясь к нему не с вопросом, с мольбой:
– Отец... Что же это? Как могло?.. Что?!
Он только потерянно махнул рукой: «Революция!.. Гражданская война!..»
Нет, он не сказал этих слов вслух, они просто просились, вертелись в уме и на языке. Эти слова можно было говорить на митингах, на красных похоронах, у братских могил, на тризнах века, но – не здесь. Не в стенах дома, где была иная, личная, кровная, осложненная сотнями незначащих подробностей и обид жизнь, которую никак не облегчишь объяснением, тем более в два-три слова... Он знал одно: была какая-то косвенная вина – его, собственная! – в смерти дочери, и в такой ужасной смерти... Почему, как, зачем, отчего так думалось? Но – думалось. Никуда от этого...
А он любил ту, новую женщину, Надю, Надежду Васильевну, которая в атаках скакала как черт рядом, чтобы загородить своим телом от пули начдива Миронова! Он любил ее до скрипа зубов, так, как никогда – надо же в этом сознаться – не любил жены! Да, теперь-то он знал, что не любил...
Горько, конечно. Ну увидел когда-то, в ранней юности, над самой кручей плачущую красивую девочку... Но как же пройти мимо, не помочь? Он бы и теперь так же сделал (в том смысле, если бы жизнь повторилась!), и она была не отвратна ему, чистая, милая, аккуратная, и все. С нею народили пятерых детей, была с виду счастливая семья, кто бы поверил, что нет?
Стеша, красивая, статная казачка, была скромной от рождения. Во всем... Она даже в любви не могла раскрыться, отдаться, как этого желает мужская душа, тем более когда ищет любви... Теперь-то он это понял, но зачем понял, когда все позади?
Надя оставалась в Михайловке, на квартире, и, что бы ни случилось, какие бы заклятия ни пали на его голову, он знал, что вернется к ней, вернее, заберет ее с собой и дальше, до конца войны, до конца своих дней. Дочери взрослые, Артамошку как-то вырастим сообща...
Дочь спрашивает о Вале, как все получилось?
А так и получилось... Все делали правильно. По-человечески. Надо было их с Таней Лисановой отправить, они гимназистки. Ковалев сказал, что скоро начнется мирная жизнь, а у нас учителей нет, надо их готовить и в Царицыне уже такие курсы. Ну и послали, поездом.
Так в чем же дело? Какая тут твоя вина?
А в том, что даже неделю отец не придержал дочку около себя, поторопился. Послал бы на вокзал не пятого, а восьмого числа, и все бы стало по-иному, все!..
Не вернешь.
Ковалева, что ли, сюда прислать? Он – специалист по душе, пусть объяснит...
Ре-во-лю-ция... А он думал раньше, что революция – это социальная ломка отношений. И все.
Маленький Никодим ходил от стола к порогу, без папахи и полушубка, в потешных широких штанишках с красными лампасами и в крошечных сапожках со скрипом. Хотелось смеяться и рыдать одновременно, в голос. В основаниях нижней челюсти что-то подсасывало и схватывало болью.
Весь дом был до боли родной и – отчужденный.
– Смотрите за матерью, я завтра еще зайду... И еще. Прислугу новую, что пришла к вам от сбежавшего Короткова, бывшего предводителя, немедленно рассчитайте. Шпионит. Иначе я пришлю из особого отдела, ее арестуют – первую бабу за все время в дивизии! – говорил он дочерям, не поворачивая головы. – Ну и... там принесли на кухню продукты, разделите на обе семьи... Видите, какой карапуз бегает...
Младшего своего Артамона поставил на стул вровень с собой, сжал маленькие плечи, расцеловал в смугловатые щеки:
– Терпи, казак, атаманом будешь! Не кручинься, сынок, я скоро побью белых, возьму Новочеркасск и тогда опять приеду, за рыбой будем с тобой ходить к Дону, и на коне будешь скакать!
Он перехватил угрюмо-недоверчивый, исподлобный взгляд Артамона и ободряюще кивнул ему.
Потом оделся в передней, еще раз оглядел дочерей, сына и внука и, почувствовав горячую влагу в глазах, коротко опахнул лицо белой папахой, пошел к двери.
Да. Что ни говори, куда ни лети, а родной дом не пускает...
17
В канун общего наступления в станицу неожиданно прибыл на Михайловки Михаил Данилов. При нем – бумажка Слободского ревкома, извещавшая, что ревком находит нужным поставить военным комендантом в слободе своего человека. А Данилов для этого, мол, негож...
– Они что там, белены объелись? – страшно вспылил Миронов. – Военных комендантов отродясь военные власти ставили! А ты что улыбаешься?
Начинала уж претить ему беспечность Данилова. Вечно он показывал свои молодые зубы, даже если ему наступали на мозоли! Написал короткую записку: «Прошу не вмешиваться в мое распоряжение, а вместе с Севастьяновым и Рузановым прибыть на фронт и взять винтовки, как сбежавшие с фронта дезертиры, помочь добить врага...» Присовокупил еще пару веских фраз и отправил Данилова обратно. Было такое убеждение, что предревкома Федорцов учтет замечание, он явно перелезал границы своих прав.
Дня через два и осле этого вестовой привез письмо от Данилова, в котором тот просил прощения, что сам распорядился дальнейшей своей судьбой – уезжал в Москву. «Они вручили мне, Филипп Кузьмич, записку, в которой уведомляли вас, что не подчиняются военным властям и начдиву Миронову, а подчиняются гражданупру Сырцову. Я, конечно, не мог быть почтальоном такого рода. Записку эту я порвал и сегодня же уезжаю в Москву. Казачий отдел я, конечно, поставлю обо всем этом в известность, а вы тут сами с ними договаривайтесь, я не в силах...» Такая была странная грамота. Бураго сказал, что дело нечисто, это какая-то провокация.
На следующий день из штаба в Михайловку отбили телеграмму:
Федорцову А.
Начдив приказал завтра выехать из Михайловки в Усть-Медведицу и взять с собой все инструкции по организации власти в округе.
Начштаб-23 Сдобнов.
Федорцов и на это ответил форменной бумагой, что ревком военным властям не подчиняется и просил бы в дальнейшем не беспокоить... Миронов начал метать громы и молнии и в конце концов показал всю переписку Ковалеву. Виктор Семенович оторвался от дел (писал большое письмо в Казачий отдел ВЦИК и лично Ленину) и сказал, что «эта подлость» не местного свойства и происхождении, выяснять спор следует в верхах.
Миронов отбил официальную телеграмму за № 44 в три адреса:
Алексиково. Командарму-9 Княгиицкому
Копия: Балашов. Реввоенсовет и Политкомандарм
Предвоенсовет Троцкому по месту нахождения
Весь Усть-Медведицкий округ за исключением 2 – 3 станиц и волости очищен от контрреволюционных банд, обстоятельства требуют немедленного восстановления революционной власти для урегулирования политической и экономической жизни округа, ввиду этого прошу об утверждении в должности чрезвычайного коменданта округа помначштадива-23 тов. Карпова Ивана Николаевича, который временно исполняет эту должность.
Выдвинутые кандидатуры политкомдивом Дьяченко товарищей Севастьянова, Федорцова и Рузанова в окружную власть не могут быть допущены но тому поведению, которое проявили в тяжкий момент революции. Теперь революция сильна, все слизняки ползут на солнце и делают пятна на нем.
Командгруппы Миронов[51]51
ЦГАСА, ф. 192, оп. 1, д. 19, л. 29 – 30.
[Закрыть].
Вызвал Карпова и сказал в присутствии комиссара штаба:
– Вот прочти, Иван Николаевич, и прочувствуй. Дам тебе комендантский эскадрон для патрульной службы и езжай в Михайловку. С ревкомом не связывайся, Федорцову передай от меня горячий привет. Все. Ты член партии, разберись там. Ж-жуки-короеды!
Карпов собирался недолго. Зашел попрощаться, пожелал боевых успехов под Суровикином и на Донце, откланялся. Но у порога будто вспомнил что, вернулся и сказал как бы между делом и тоном извинения:
– Такое дело, Филипп Кузьмич... Помнишь, наверно, дедка Евлампия Веденеича? Что на пароме служил? Просил зайти, проститься.
– А он – живой? – несколько удивился Миронов, – Мы его как-то вспоминали...
– Плохой, уже соборовали... Просил ныне, очень хочет свидеться.
Миронов укорил себя мысленно, сказал, что пойдет обязательно.
Свободная минута выпала после обеда, прошел в самый конец станицы вдвоем с ординарцем, а там свернули узким проулком к Холодному оврагу, над которым крайней свисала бедная саманная хатенка под соломой.
Нищета тут была страшная: полусгнившие двери вперекос, осколок мельничного жернова вместо порожек и крыльца, глиной обмазанные глазки окон, вполукруг, только бы сберечь утлое тепло в этой хате, напоминавшей по виду овчарню. А жил в ней георгиевский кавалер с давней русско-турецкой войны, казак Веденеев... Защитник Отечества. Радетель на земле, праведная душа. Не захочешь, да заплачешь...
Толкнул дверь Миронов, за ней – другую и оказался в низкой хибаре с двумя мутными оконцами, большой беленой печью, некрашеным столом в три широких доски на шпонах, а над ним, в переднем углу, теплилась красно бедная лампада перед ликом богородицы. Старухи не было, ушла по какой-то нужде к соседям, дед Евлампий – не сказать, что постаревший, но бледный и маленький, с тощей бородкой – лежал на деревянной кровати в холодном углу. Был ли жив – не понять, руки вытянуты по швам, как в строю, глаза впали и полузакрыты, в разрезе чистой белой рубахи седая шерстка на груди торчит...
Сильный запах пареных груш, свежесмазанного земляного пола и устоявшейся, сладковато тлеющей старости был почти непереносим после чистой дневной снежности, солнца и первых талых сосулек. Миронов постоял у порога, держа двери приоткрытыми, впуская чистый воздух. Ординарец остался стоять на пороге-камне, свертывал цигарку. Знал, что успеет покурить и проститься, тут Миронов спешить не будет.
– Живой, Веденеич? – громко окликнул Филипп Кузьмич, подходя ближе. И увидел, как зашевелились сначала пальцы руки, лежавшей на краю кровати, потом с усилием дрогнули брови, шире приоткрылись глаза. Тощая борода все так же недвижимо торчала кверху. – Живой, говорю? – повторил Миронов, глядя прямо в мутные, потухшие глаза старца. Различил в них некое подобие блеска и мысли – в глубине, тайно ото всех, от всего мира – и сказал веселее: – А люди говорят, не сторожует уже на пароме Евлампий Веденеич, остарел, а я не поверил!.. Не такой человек, чтоб дело бросить... Л? Евлампий Веденеевич?!
Солнце грело ледяные кущи на стеклах окошка, но мало было света, и потому он не мог разглядеть лик умирающего, мысль в запавших глазах. Понимал лишь, что старик не потерял еще разум и, возможно, память...
– Это ты, Филиппушка? – едва слышно, в одно дуновение легкого ветра, какой бывает где-нибудь в затишке, у прикладка, спросил старик, – Ты, ты, чую – холодом понесло, как от полой воды на Дону... Значит, пришел, родимый, шашка о порог стукнула...
Старик говорил слабо, с видимым напряжением сил и после каждого слова переводил дух, как бы угасал.
– Пришел, Веденеевич, проведать тебя, как-никак свои люди, – сказал Миронов. – Отступал ведь, оттого и не виделись...
Старик молчал, закрыв глаза, собирался с силами. И от желания пересилить немочь шевелил пальцами, сухой кадык ходил вверх и вниз, глотая воздух.
Затих вроде совсем, дыхание ушло внутрь, и вдруг открыл веки, дрожа кустистыми бровями, и вновь будто легкий ветер прошелся по низкой хатенке:
– Одолел ты их, супостатов... сынок?..
– Одолею, отец, – сказал Миронов, пристально глядя в угасавшее лицо старого казака.
– Филя... Помни, что сказал я тебе на той переправе... про Идолищу... О трех головах Идолища... О трех...
Боже мой, и в смертный час свой мыслит последним проблеском сознания о коварстве жизни – можно ли так? Неужели это главное, что выносит с собой человеческий опыт под гробовую доску? Или тут побеждает все непереносимый страх смерти, недоумевал Миронов.
Старик затих снова. Только правая рука дрогнула и сложились пальцы в троеперстие, переползли с одеяла на тощую, птичью грудь.
– Помни, родимый наш... Филя... – И, будто вдохнув новых сил, выговорил точнее: – Народ наш – дитя доверчивое, у нас и Гришка Отрепьев с поляками правил... Не дай, сынок, народ в трату... Сила тебе дана великая, бла-го-словля-ю на мирской подвиг... – кисть вроде бы поднялась трепетно, с желанием перекрестить названого сына своего, Филиппа, но не хватило воли и жизни, упала рука на чистую рубаху, на седые шерстинки в разрезе ворота, и – только шевеление сухих губ:
– Три головы... у Идолища, помни...
Лампада едва теплилась, фитиль нагорел, и оттого перед ликом иконы светил прозрачный уголек, похожий на красную звездочку.
Старик утих вовсе, Миронов позвал ординарца проститься, и за ним вошли три старухи. Хозяйка еще не причитала, стала на колени и прижалась тонким лбом, седыми косицами к холодеющей руке старика.
Миронов попрощался с ними и вышел из хаты.
Яркий свет дня ударил в глаза. С соломенной крыши капало, и в Холодном овраге, на противоположной стороне, оттаяли, обнажились из-под слоистого, стеклянно-игольчатого снега красносуглинистые пласты земли.
«Тает... Спешить надо», – подумал Филипп Кузьмич, занятый главной своей мыслью на будущее: посеять и убрать урожай в этом, мирном году. Предостережение умирающего старика рассеялось и отступило перед большими заботами этого весеннего дня.
ДОКУМЕНТЫ
Приказ
всевеликому войску Донскому № 161 от 20 января 1919 года
Войска Хоперского округа под давлением красных... очистили округ. Казаки, бежавшие из хуторов, станиц, занятых мироновскими бандами, передают, что Миронов немедленно всех сдавшихся ему казаков... мобилизует и отправляет на Балашов... для дальней перевозки их на Сибирский фронт против Колчака. Теплая одежда и обувь отбирается, взамен выдаются ботинки с обмотками. Хлеб, скотина и имущество отбирается красными самым беспощадным образом... Весь хлеб из станиц и хуторов Хоперского округа спешно вывозится к ближайшим станциям. Перевозить хлеб заставляют самих казаков под угрозой расстрела. Так осуществляет свое право победителя над своими братьями-казаками тов. Миронов. Тот самый Миронов, который забрасывает наш фронт своими прокламациями, сулящими рай на земле казакам.
Знайте, казаки, против кого вы воюете и от кого вы защищаете свои семьи! Горе малодушным, поверившим в мир и добрые отношения с красными! Скорее за винтовку и шашку, напором спасите стариков-отцов от позора мироновского плена и мобилизации!
Тихий Дон не простит изменнику Миронову! Тихий Дон никогда не оправдает предателей-вешенцев!
Донской атаман генерал от кавалерии П. Н. Краснов[52]52
ЦГАСА, ф. 60, оп. 1, д. 7, л. 57.
[Закрыть].
Приказ
по войскам Ударной группы войск 9-й армии № 14
10 февраля 1919 г.
Не получая и течение 10 дней указаний от штаба 9-й армии, а руководствуясь создавшейся обстановкой, повелительно требующей движения вперед, ПРИКАЗЫВАЮ НАСТУПАТЬ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ, не теряя ни минуты.
Товарищи красноармейцы и красные начальники всех степеней! Помните о революционном долге, и ни звука ропота на тяжесть войны, переходов, холод и всевозможное недоедание! Впереди победа над алым авангардом мировой контрреволюции в лице всевеликого разбойника и предателя народа – генерала Краснова и его постоянных соратников, генералов Денисова, Яковлева, Гусельщикова, Фицхелаурова и иже несть, числа, – их всех на веревку, если не покаятся перед народом!