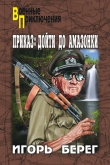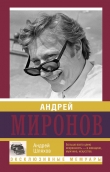Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц)
– Спасибо, братцы. Это же – емшан! Погодите, сейчас вспомню, как там у Майкова... – Крюков смотрел на Короленко, который тоже с жадностью вдыхал запах немудреной степной травки-ползунка, а сам начал тихо, по памяти декламировать стихи. Он, гимназический учитель, да еще степняк по рождению, знал, конечно, эти строчки и мог читать наизусть:
Степной травы пучок сухой.
Он и сухой благоухает!
И разом степи надо мной
Все обаянье воскрешает...
Это была поэма о власти человеческой памяти, зове родной земли, верности Отчизне... Федор Дмитриевич сначала читал невнятно, как бы лишь для себя, повторяя знакомое и привычное, самый сказ. Но по мере того как углублялся и ширился стих, как кругами на воде расходилась непростая мысль и прояснялось настроение, голос чтеца стал сам собою крепнуть, выдавая волнение:
Скажи ему, чтоб бросил все,
Что умер враг, чтоб спали цепи,
Чтоб шел в наследие свое,
В благоухающие степи!
На глазах Крюкова заблестели слезы. Было много недосказанного в этих стихах, того, что связывало всех присутствующих здесь в крепкий и единый круг, ради чего они и собрались вместе. Даже урядник Коновалов, никогда не читавший других книг, кроме духовных, понимал, что тут были не стихи в их общепринятом смысле, а тайная клятва:
Ему ты песен наших спой, —
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан седой
И дай ему – и он вернется!
Миронов перестал улыбаться, лицо его, и без того сухое и сосредоточенное, померкло в хмурой замкнутости. Короленко молчал, опустив голову, урядник жадно вбирал в себя не только новые, неизвестные для него мысли, но и настроение окружающих, единое для всех чувство от пронзающих душу слов: «Свяжи в пучок емшан седой и дай ему – и он вернется!» Крюков вытирал белым платком глаза.
За всем этим никто не расслышал вежливого стука, дверь внезапно и широко распахнулась. А в номер вошел еще один гость, знакомый всем, – бритоголовый, крепкий по виду человечище с выдубленно-коричневым лицом, аккуратно подстриженными усами и крошечной бородкой-эспаньолкой. На нем был новый, с иголочки, серый жилетный костюм. Сам он дружелюбно и по-станичному открыто улыбался.
– Конечно же! Можно и должно ожидать сентиментальных стихов, если в здешнем курене проживает наш премногоуважаемый писатель и певец зипунной донской старины нашей Федор Крюков! – громко возгласил вошедший, сразу, найдя и выделив подслеповатыми глазами крупную фигуру Короленко. Золотое пенсне с небольшими овальными стеклами болталось у борта на шнурочке, фетровую мягкую шляпу вошедший смущенно поворачивал в руках. – Даже стука не слышат, изверги! Здорово дневали, станичники, и – извините великодушно за вторжение. Я, собственно, но делу... – вошедший хотел пройти прямо к Владимиру Галактионовичу, но в этот момент увидел стоящего чуть в стороне Миронова.
– Господи! И ты тут, Филя?! Сколько лет, боже, и – сколько орденов?!
– Александр Серафимыч! – громко воскликнул Миронов, шагнув навстречу гостю. – Ну, не думал, не думал... А мир и в самом деле тесен, вы посмотрите!
Они обнялись, и никому не надо было здесь объяснять, отчего так крепко объятие. Все ведь знали друг друга, и даже урядник Коновалов помнил земляка, бывшего поднадзорного студента Попова... Это он, кажется, готовил когда-то Филиппа Кузьмича к сдаче экзаменов в гимназии, говорили – экстерном... Свои же люди! Что касается Короленко, то именно с его легкой руки нищий, поднадзорный студент Попов и стал известным писателем Серафимовичем. Но жил теперь Серафимович в Москве, сотрудничал у Горького, и появление его в Петербурге, да еще в номере Крюкова, было отчасти и неожиданным. О визите к Федору Дмитриевичу, во всяком случае, следовало сообщить раньше, письмом или по телефону.
– Цыгане шумною толпой! – бормотал Попов-Серафимович, пытаясь вырваться из объятий Миронова. – Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон, окаянные!.. Филипп, отпусти душу на покаяние, милый. Вижу, что вырос и возмужал, вижу!
– Филипп! – просительно возгласил Федор Дмитриевич Крюков, снимая цепкие руки Миронова с плечей московского гостя. – Оставь! Ты знаешь, простота станичная, с кем ты так прочувствованно обнимался? А? Да ты, сукин сын, обнимался с живым социал-демократом, да еще левого толка, – с большевиком! Понимаешь ли ты, до глубины и печенки, что он – твой враг и хорошего ждать от него... не нам с тобой!
– Федор, оставь! – обиделся Серафимович. – Шутки твои, знаешь, беспредельны! Я, впрочем, так и знал, что к тебе, из-за твоей меланхолической язвительности, заходить опасно. И если бы не Владимир Галактионович... – Он прошел наконец-таки в глубину комнаты и церемонно склонил голову перед Короленко: – Я вас, собственно, искал. Был даже на квартире, Авдотья Семеновна сказала, что вы сегодня в гостях, некоторым образом, у войска Донского. Ну, пришлось!
Крюков между тем старался объяснить Миронову причину своих разногласий с Серафимовичем, а заодно и растолковать суть социал-демократической программы – разумеется, со своей точки зрения:
– Оголтелость, знаете... В один мах разрешить все мировые вопросы и скорбь тысячелетий. А отсюда – максимализм во всем, вплоть до вооруженных экспроприаций! Да вот спроси хоть у Владимира Галактионовича, он понятнее сможет втолковать. Во всяком случае, в более спокойной форме...
Серафимович с нескрываемым недовольством косился на хозяина. Были они земляками и дружили позже, на литературном поприще. Писатель Серафимович даже почитал писателя Крюкова за талант и мягкость души, но тут разногласия возникали идейные, а потому о каком-либо единстве не могло быть и речи.
– Почему же, – постарался пригасить спор Короленко, усмехаясь в бороду с видом старца, взирающего сверху на расшалившихся отроков. – Вы напрасно, Федор Дмитриевич... Они, скорее, ваши союзники в Думе, и вообще-то славные люди! Плеханов, например, интеллигентный человек, или вот... младший брат Александра Ульянова, который в университете был кровно близок к донскому землячеству, дружил с Генераловым, да и Сашу Попова знал, наверное...
– Федя этого не хочет понимать! – сказал Серафимович. – Ему большевизм представляется «самородным» возникшим из западной философии. А он – исторически-то! – идет от «Народной воли», от Александра Ульянова, с которым рядом под виселицей стояли и наш Вася Генералов, и кубанец Пахом Андреюшкин! А Говорухина Ореста, нашего земляка, заочно приговорили к повешению, потому что успел бежать в Болгарию, к Платову... И Саша Александрин, одностаничник, тоже отбывал пожизненную ссылку в Сибири и только на днях по высочайшему разрешению вернулся домой... Болеет парень, и вообще устал, конечно, а все же закваска-то? Большевизм по корню – совершенно русское явление, это надо уяснить в первую очередь!
– Вот еще один молодой человек, по фамилии Фрунзе, – добавил Короленко весело. – Не слышали, разумеется? Скоро услышите. Представьте себе, приезжает в позапрошлом году откуда-то из Семиречья – из Верного, не то Бишпека, – такой плотненький, ясноглазый юноша с рекомендательным письмом к Николаю Анненскому... А какие у вас наклонности, молодой человек? К каким наукам? Между прочим, рассказчик великолепный, мог бы, думаю, и в литературе себя попробовать, но нет! Наклонности сугубо общественные, профессора Политехнического Бойков и Ковалевский от него, что называется, в восторге, а студент Фрунзе нынче – чуть ли не главный социал-демократ по всему Шуйско-Ивановскому промышленному району, н-да! Ну, вы же, Федор Дмитриевич, как-то встречали его на средах у Анненского! И, по-моему, даже заинтересовались, беседовали о семиреченских казаках что-то?
Крюков, конечно, не помнил той мимолетной встречи.
К тому же теперь он был занят с официантом, делал заказ, втолковывал что-то насчет закусок. Потом обернулся к Серафимовичу с вопросом, уже без всякой игры и земляцкого ерничества:
– Так ты, Александр, собственно, какими судьбами в Петербурге? Где остановился?
Когда Попов-Серафимович сказал, что остановился он, по обычаю, в «Бель-Вью», одной из самых фешенебельных гостиниц, Крюков пытался его и тут «подколоть» и высмеять за аристократические замашки и претензии, но успеха не имел. Веселая минута прошла. Короленко внимательно слушал Серафимовича, он хотел знать о московских литературных делах из первых рук.
– Как дела в «Знании»? Горький, кажется, уехал?
– Вышел последний, десятый сборник, – с удовольствием и подробно рассказывал Серафимович. – Там «К звездам» Андреева и мое «На Пресне», а вообще дела у нас плохи... На даче Телешовых теперь можно встретить только Бунина с братом, Голоушева, да разве вот Белоусова. Андреев оставил свою роскошную дачу в Грузинах и переехал в Гельсингфорс. Туда же, по слухам, отправился и Горький. Скрывается...
Тут опять возникла словесная перепалка с Крюковым (по поводу Горького), но Короленко сумел сразу же мягко отвести разговор в деловое русло.
– О себе-то скажите, – попросил он.
– Да что – я... – развел руками откровенно Серафимович. – «Современник» бросил, мало платят, хочу тут вот работать, но не знаю, как выйдет. Надо бы увидеть Куприна, да он уехал в Нижний. Пятницкий удрал к Андрееву, Елпатьевские по воскресеньям на даче... Пишу брошюры по общественным вопросам, вчера пил чаи без хлеба, между прочим, – все пекари бастуют, оказывается... Нашими молитвами, как говорится... А дело вот какое, Владимир Галактионович. На одном вечере читал я стихотворения Белоусова, очень хорошо приняли, хотел показать вам, может быть, возьмете в «Русское богатство». Белоусову сейчас нужно помочь.
– Ну вот! – развел руками Короленко. – Лучше уж прямо к Федору Дмитриевичу с этим, он у нас заведует всей художественном литературой, и неплохо заведует. Договоритесь?
– Если талантливо, – сказал Крюков.
Принесли обед. Два официанта с подносами, повар в накрахмаленном колпаке стали накрывать на раздвинутый стол, бутылки с цимлянским тут же поставили в серебряные ведерки с колотым льдом.
Короленко утомили спорщики, и когда начали рассаживаться, он пригласил Миронова ближе к себе. Усатый поджарый офицер с умными глазами и источаемой недюжинной энергией, видно, заинтересовал его. Но слушать до времени приходилось все того же Федора Дмитриевича, который не хотел прекращать слишком глубокого своего спора с Серафимовичем.
– Я, милый мой Александр, этого не могу понять, хоть убей: ты, и – марксизм! Гм... Социализм без идеализма для меня непонятен! И не думаю, чтобы на общности материальных интересов можно было бы построить этику. А без этики – как же? Другое дело, наш умеренный подход к решению жизненных проблем, реформы, использование старых демократических традиций. Хотя бы – наших, староказачьих традиций! И название умеренное у нас – трудовики. История казачества – разве это не ценнейший опыт устроения жизни на началах свободы и равенства? Это, правда, не книжный, зато практический путь, и – с каких времен! Чуть ли не со времен Мономаха, исхожено, изъезжено – дай бог!
Серафимовпч засовывал салфетку за ворот, усмехнулся вновь открыто и дерзко, не желая особо входить в спор:
– Ты, Федя, страшно увлечен всем этим!.. Скоро и самого Адама, кажись, оденешь в штаны с лампасами. А время катит в другую сторону! Не замечаешь?
– Замечаю, братец, замечаю, но – с горечью. И беспокоит особо судьба народа моего, рядового темного казака!
– Обо всей России пора думать, – трезво сказал Серафимович. – Вся Россия в одной петле задыхается.
– А кто спорит? – согласился Крюков. – Но нет более трагической страницы в русской истории, чем эта наша, окровавленная, железом паленная казачья страница! Да что там – из глубины веков!.. Вы подумайте, легко ли было холопу-то удрать от пана, от псаря с гончей сворой, а что его ждало там, на донском «приволье», если каждому чуть ли не всю жизнь приходилось пикой и шашкой защищаться? Иван Третий отписывал княгине рязанской Агриппине, чтобы казнила тех, кто ослушается и «пойдет самодурью на Дон в молодечество»... Борис Годунов тоже с казаками не ладил и не преуспел в жестокостях лишь по причине краткого своего владычества. За то донцы сильно помогли Романовым на трон взойти, и вот юный Михаил, так сказать, в избытке благодарности немедля посылает на Дон карателя Карамышева с жестоким указом: привести в покорность! И что же оставалось казакам делать? Они исстари любили поговорку: нам не пир дорог, дорога честь молодецкая!
– И они, как водится, смирились? – усмехнулся Короленко, предчувствуя занятный рассказ «из прошлого черкасской вольницы», на которые Крюков был мастер.
– Сам собой, – кивнул Федор Дмитриевич с притворным смирением. – Спустя время царь получил донскую отписку с их «государственными соображениями»... Это, доложу, братцы мои, верх дипломатии! И – художества! Я как прочел эту грамотку в архивах, так и самого потянуло в изящную словесность. Думаю, не положу охулки на руку, ведь тоже казак по крови! Как писать-то умели, окаянные! Хотите, дословно приведу?
– А вспомнишь? – спросил Серафимович, отчасти зная суть той отписки.
– Да как же тут не упомнить, это же альфа и омега казачества! Вы послушайте, каков слог! «...И мы, холопи, твоего указа и грамоты не поединожды у Ивана Карамышева спрашивали, и он ответил: «Нет-де у меня государевой грамоты» – и ни наказу никакого твоего государева нам не сказал, а нас своим злохитрством и умышленьем без винной вины хотел казнить, вешать, и в воду сажать, и кнутьями бить, и ножами резать, а сверх того Иван Карамышев учал с крымскими и с ногайскими людьми ссылатца, чтобы нас всех побеть и до конца разорить и городки наши без остатку пожечь. Аще благий, всещедрый, человеколюбивый и в троице славимый бог наш не остави нас, и молитву и смирение раб своих услыша, и к тебе, государю, правую нашу службу видев, объявил нам Христос то злоумышленье Ивана Карамышева, что он без твоего, государева, указа умыслил... И мы, холопи твои, видя его над собою злоухищренье, от горочи душ своих и за его великую неправду того Ивана Карамышева... о-безгла-вили».
– Ка-а-ак? – весело насторожился Короленко и даже привстал в удивлении. Смесь казачьего лукавства, словесного покорства и ничем не прикрытой дерзости человечьей задевали за живое. Тут все разительно отличалось от знакомой Короленко крестьянской обыденности, никак не походило на горемычно-пропащий «Сон Макара». – Как, простите?
Обезглавили. От горечи душ своих, – повторил Федор Дмитриевич почти непроницаемо.
Первыми захохотали Миронов и Коновалов, за ними грохнул раскатисто Сорафимович, и Короленко вежливо прикрыл бородатое лицо ладонью, вздрагивал от смеха, доставая платок. Лишь Крюков хранил трудную, опасную веселым взрывом невозмутимость. Как опытный рассказчик, «добивал» слушателей концовкой той грамоты:
– Послушайте, каков финал, так сказать! «И будь мы, государь, тебе на Дону не годны, и великому твоему Московскому государству неприятны... то мы, государь, тебе не супротивники: Дон-реку от низу и до верху очистим, с Дону сойдем и – на другую реку уйдем!»
– Так его! – крякнул от удовольствия Миронов, вытирая горячие слезы и открыто, по-станичному, заходясь смехом. – Так! Оставайся, мол, один – с окрестными турками и ногаями лицом к лицу, с думными, заплечных дел мастерами Карамышевыми, шут с тобой! А мы, мол, поехали дальше!
– Каково? – как ни в чем не бывало спрашивал Крюков. – А между тем, братцы, за то красноречие вся наша зимовая станица в Москве была лютой смертью казнена. Да и в том ли дело, знали ведь, на что шли! И при Разине знали, и при Пугачеве, и при Булавине – дороже воли для наших предков ничего не было. И платили за нее красно, живою кровью!
Федор Дмитриевич был, что называется, в родной стихии, забыл даже о том, что пора бы и откупорить бутылки. Но его жаль было прерывать. Тут каждое слово было пережито и выстрадано:
– И вот этот прекрасный, чистый душою народ медленно и целенаправленно стирается с лица земли, как извечный «рассадник крамолы», как архаическое излишество для абсолютистского государства! И чтобы разом довершить дело экономического разорения, решено было еще и снять с казаков традиционный ореол свободы, славы, их втравили целыми полками и дивизиями в позорную полицейскую работу, сделали самих карателями. Всего один-два года такой «службы» и – насмарку трехсотлетняя репутация, прощай гордость и слава!
– Ты, Федор, с такой горячностью говоришь, будто оправдываешься! – прервал Серафимович. – А все от незнания подлинных размеров бедствия! Разве только о казаках речь? Мы с Алексей Максимовичем недавно запрашивали военное ведомство, через своих людей, разумеется. Оказалось, что полицейской работой царь занял шестнадцать тысяч рот пехотных и четыре тысячи эскадронов и сотен! Так что наши «сотни» составляли едва ли десятую часть всего воинства. И не более того!
– Что мне чужие заботы? – сказал Федор Дмитриевич и, оборотись и ящику письменного стола, быстро достал какую-то печатную бумагу. – Разве нашей так называемой общественности впервой валить вину с больной головы на здоровую? Дело в том, что... Впрочем, извольте прослушать некий документик из стенографического отчета Московской думы за сентябрь – декабрь прошлого года...
Прочел с крайней выразительностью, помахивая пальцем:
– «Двенадцатого декабря в Москве и Одессе была развешена прокламация, в коей сказано: казаков не жалейте, на них много народной крови, они всегдашние враги рабочих. Как только они выйдут на улицу, конные или пешие, вооруженные или безоружные... – слышите: даже безоружные! – смотрите на них как на злейших врагов и уничтожайте беспощадно!» Ну?
– Кто автор этого бреда? – спросил Короленко.
– По-видимому, чистая провокация, – сказал Серафимович.
– Да. Со стороны глянуть, непросвещенными мозгами, то прямо сплошная революционность. «Безумству храбрых поем мы песню!» А когда раскумекаешь... Бумажка-то, как выяснилось, из Одессы. А тамошняя некая община решила в прошлом году под видом рабочих акций протащить лозунг отделения града Одессы с прилегающим округом, портом и всей Южной Бессарабией до Аккермана в самостоятельный «Вольный город» по типу Сан-Марино или Монако. Говорят, уже и рулетку привезли. Так вот, государя это взбесило до крайности, ведь он эту масонскую общину всегда поощрял и оберегал. Именно он и приказал ввести в Одессу казачью дивизию при соответствующих инструкциях. И там казаки действительно не бунтовали и не шатались, а делали свое дело с пристрастием.
– Печально все это, – поник Короленко. – Нет ли тут какой провокации со стороны охранки? Пли черной сотни?
– Черт их знает! – выругался Крюков. – Все запутано до невероятия. Недавно пришлось быть в компании одного сотника лейб-гвардии, он кричал в подпитии, что не только войско, но вся Россия отдана в руки немцам и жидо-масонам. Почему так случилось, мол, что министром внутренних дел у нас – фон Плеве, а петербургским губернатором фон Толь? Градоначальником фон Клейгельс, а полицмейстерами столичных округов фон Польке и фон Вендорф? Не беда, что при дворе царицы-немки министром двора и уделов – барон Фредерикс, но к чему нам-то, в Донское войско, впихнули начальником штаба другого фон Плеве? И вот, друзья, хоть я и не был пьян, но ответить атаманцу мне было нечего.
– Ты мог к этому добавить, Федя, – сказал Серафимович, – что и девять десятых нашей русской промышленности и наших национальных капиталов заграбастаны иностранными компаниями и фирмами, объединенным англо-французским и датско-немецко-бельгийским концерном Нобелей, Зингеров, Цейтлиных и Рябушинских, а это пострашнее чиновничьей олигархии! Здесь начало тайной колонизации всей страны, превращения великой Российской империи в громадную Анголу. Ваше «Русское богатство» – лишь популярный журнал, и не более того...
Крюков не обиделся по поводу «Русского богатства», кивнул согласно:
– Так мы и пришли к общей идее сопротивления, господа. Хоть через самого Адама в лампасах, хоть через популярный журнал «Русское богатство», а более всего – через исконно русские традиции казачьей старины и вольницы! – Крюков налил бокалы и склонился через стол, чтобы дотянуться до руки урядника Коновалова. Хотел чокнуться с ним первым, чтобы уважить и приободрить в этой непривычной для него компании. – Выпьем, господа, за моих друзей-земляков, рискнувших в эту поездку и не убоявшихся возможных последствий... За православный тихий Дон!
Обед начался, приугасли споры. Миронов тоже осваивался рядом с именитым гостем, с его серебристой, всероссийски известной головой. И когда Короленко склонился к нему и доверительно спросил, каков же приговор станиц они привезли в Думу, с готовностью достал из потайного кармана свои опасные бумаги.
Короленко оставил без внимания роскошную писарскую скоропись с росчерками и завитками и, вчитавшись в смысл, внушительно поднял указательный палец, требуя внимания:
– Не угодно ли казачье требование из глубокой провинции, пункт третий: «Отнять землю, которую правительство роздало помещикам и дворянам в области войска Донского, и наделить ею безземельных иногородних крестьян»! Вы слышите? этим пунктом заинтересуются не столько в Думе, сколько в жандармском ведомстве! Это же – из программы эсдеков, Федор Дмитриевич, а вы здесь на Серафимовича еще нападали, если мне память не изменяет?
Его как будто не заинтересовали пункты о запрещении смертной казни и даровании амнистии политзаключенным, он хотел подчеркнуть именно волю темных, простых станичников в части справедливой земельной реформы. Вновь склонился к Миронову, продолжая начатый с ним разговор:
– Знаете, Филипп Кузьмич, интересно мне ваше мнение и по такому вопросу... Наше поколение интеллигенции немножко залетело вверх, насколько я понимаю, занялось философией культуры, высокими материями. А сейчас, кажется мне, надо бы спуститься чуть ниже, до философии бытия, что ли. Или – где-то посреди, меж тем и другим. Выяснить, как сам народ ощущает свое историческое предназначение! Вы – ближе к этому. Тем более вы – казачий офицер, и с этой стороны вовсе новый для меня человек. Бывают ли у вас какие-то сомнения, не раздирают ли противоречия, как нас, отлетевших от земной тверди? Это все, знаете ли, не так просто...
Миронов потупил голову, думал над вопросом. Ему понятен был ход мысли Короленко, но говорить самому об этом было ново и непривычно.
Сказал, не мудрствуя, от души, как оно лежало и раньше в сознании:
– Сомнения никто избежать не может, думаю. Но простых людей жизнь толкает не к раздумьям – хотя это само собой... – а к действию. Выхода другого нет, Владимир Галактионович! Всему свой черед: весной – сеять, летом – косить, на пожаре – воду носить, огонь заливать. Сомневайся не сомневайся, а бегать будешь. А сейчас в особенности каждый понял: нельзя дальше так жить, с неправдой в обнимку. Люди скоро начнут погибать не с голоду, а – от тоски! Человек, всякий, есть живая душа, а не штык, не сабля, не рабочая скотина... И – отчего все так устроено, что ни живой мысли, ни честному поступку у нас вроде и ходу нет?
Получалось не совсем то, что хотел сказать, сносило на привычные, обкатанные трафареты, мысли, но разговор затеялся до такой степени важный и волнующий, что собеседники перестали как бы замечать окружение. Миронов объяснял то, что ему казалось ясным и непреложным:
– Рабочий вопрос – одно, мужицкий – другое, а на поверку выходит причина одна: тупик на самом стержневом направлении жизни. Или вот, нынешняя война с японцами, скажем... Если на море мы оказались слабее, там у них более современные корабли, то в Маньчжурии-то всяк можно бы выиграть кампанию. Были к тому силы, но – всё, будто во сне... И генералы, как дохлые мухи, и генеральный штаб, по всему видно, как играл по ночам в лото, так и до конца войны не отошел от стола... Ради того хотя бы, чтоб народ свой пожалеть, не удобрять нашей кровью чужую землю! Ясно – приходится бунтовать.
– А уфимское дело? Не смущает? – спросил Короленко.
– А вы и про Уфу знаете? – удивился отчасти Миронов.
– Ну как же! Если Столыпин знает, то нам и бог велел! Я вот тут, перед вашим появлением, как раз Федора Дмитриевича об этом пытал. Вся Россия полнится слухом, хотелось услышать подробнее.
В Уфе произошла задержка казачьих эшелонов, возвращающихся с войны. Бастовали железнодорожные бригады, деповцы, хотели выручить из тюрьмы политического, инженера Соколова, приговоренного к смертной казни. Весь город бурлил, не до работы. А казаки спешили домой, в эшелонах пошла речь уже о том, чтобы разгрузиться, оседлать коней, да взять забастовщиков в плети – другого выхода не предвиделось. Командир дивизии вызвал прославленного подъесаула Миронова и приказал обеспечить порядок в городе и продвижение составов. Миронов откозырял, выгрузил сотню и повел в город.
Через три, четыре ли часа железнодорожники взялись за котлы, расшуровали топки, паровоз дал свисток к отправлению. После, уже под Самарой, по вагонам стало известно от казаков мироновской сотни, что в оборот брали они не рабочую Уфу, а уфимскую тюрьму. Разоружили охрану, выпустили из камеры смертников инженера Соколова, созвали митинг. Оттого и прекратилась забастовка.
Конечно, по этому поводу где-то в верхах велось уголовное дело, да не с руки было арестовывать именно теперь героя-офицера, можно всю казачью дивизию взбунтовать. Всякое административное вмешательство требует выяснения подробностей, свою тайную глубину имеет.
– Вся Россия уже знает, – повторил Короленко. – Позвольте пожать вашу руку, подъесаул.
Он накрыл руку Миронова на подлокотнике кресла большой, мягкой, как бы отеческой ладонью. И несколько мгновений не снимал, сосредоточившись всем своим существом в этом закрытом, не терпящем ни огласки, ни постороннего взгляда общении.
На другом конце стола поднялся Крюков. Сказал, нервно поправляя пенсне:
– Завтра же передам приговор округа и другие бумаги с Дона Муромцеву. Сергей Андреевич, кстати, тоже хотел лично повидать тебя, Филипп Кузьмич, не однажды напоминал. Надо же, в конце концов, заткнуть рот «правым», они же с толку сбивают людей. «Нам не надо конституций, мы республик не хотим!» – олухи царя небесного. В гимназиях их учат, остолопов, и здравый смысл говорит, что правительства для того и существуют, чтобы видеть и разрешать жизненные вопросы и проблемы, иначе самое сильное государство сгниет на корню! Они же, кроме «аллилуйя», ни на что не способны. Трезвонят в парадный колокол, а там хоть трава не расти!
Глядя на Миронова, воскликнул с горечью:
– Вот где наши плети нужны, Филипп, вот кого бы перепороть, прямо – в Таврическом дворце и...
Пирушка получилась не совсем обычная. Цимлянское игристое, привезенное с Дона, не могло притушить столичных и всероссийских страстей. Государственный озноб прохватывал до костей даже веселых и в общем-то незлобивых донцов. Короленко, глянув на карманные часы, засобирался домой.
– А вам, дражайший депутат, не худо бы подготовиться к завтрашнему явлению на трибуне, – сказал на прощание Крюкову. – Самое время огласить в Думе именно донской запрос.
Вслед за Владимиром Галактионовичем поднялся и Серафимович.
Пока готовилось против Миронова по приказу Столыпина судебное дело, скрипели перья, учреждался надзор, сам подъесаул сидел на галерке, в одной из дальних лож, в зале заседаний Таврического дворца, и с любопытством рассматривал полукруг помещения, правительственную трибуну, стол председателя, затылки и спины господ депутатов. Седые, лысые, в пробор, зализанные и взбитые у парикмахеров волосы, белые, стоячие воротнички, широкие и узкие плечи, сосредоточенные и небрежно развалистые позы...
Под высокими лепными потолками – уютное тихое пространство, и в нем гаснущий на отдалении, негромкий но все же слышимый всеми присутствующими голос депутата от Верхнего Дона Федора Дмитриевича Крюкова:
– Господа народные представители. Тысячи казачьих семей и десятки тысяч казацких жен и детей ждут от Государственной думы решения вопроса об их отцах и кормильцах, не считаясь с тем, что компетенция нашего юного парламента в военных вопросах поставлена в самые тесные рамки... Уже два года, как казаки второй и третьей очереди призыва оторвались от родного угла, от родных семей и под видом исполнения воинского долга несут ярмо такой службы, которая покрыла позором все казачество...
В безупречно сидящем на нем учительском сюртуке, в крахмалке и с галстуком, с молодой окладистой бородкой, в золотом пенсне Крюков был не только красив, но даже импозантен; недаром в него коллективно влюблялись старшеклассницы Орловской гимназии, где он начинал преподавать, томные мечтательницы из исконно тургеневских мест.
Да, говорил он, конечно, хорошо, с небольшими литературными излишествами, по мнению Миронова, но какая стенографическая запись выдержит смысл этой речи? И не явятся ли до окончания ее жандармы, чтобы удалить оратора с трибуны?
– История не раз являла нам глубоко трагические зрелища. Не раз полуголодные, темные, беспросветные толпы, предводимые толпой фарисеев и первосвященников, кричали: «Распни его...» – и верили, что делают дело истинно патриотическое; не раз толпы народа, несчастного, задавленного нищетой, любовались яркими кострами, на которых пылали мученики за его блага и в святой простоте подкладывали вязанки дров под эти костры... Но еще более трагическое зрелище, на мой взгляд, представляется, когда те люди, которые, хорошо сознавая, что дело, вмененное им в обязанность, есть страшное и позорное дело, все-таки должны делать его; должны потому, что существует целый кодекс, вменяющий им в обязанность повиновение без рассуждения, верность данной присяге. В таком положении находятся люди военной профессии, в таком положении находятся и казаки...
Особая казарменная атмосфера с ее беспощадной муштровкой, убивающей живую душу, с ее жестокими наказаниями, с ее изолированностью, с ее обычным развращением, замаскированным подкупом, водкой, все это приспособлено к тому, чтобы постепенно, незаметно людей простых, открытых, людей труда обратить в живые машины. Теперь представьте себе, что этот гипнотический процесс совершается не в тот сравнительно короткий срок, который ограничен казармой, но десятки лет или даже всю жизнь. Какой может получиться результат? В девятнадцать лет казак присягает и уже становится форменным нижним чином, или так называемой святой «серой скотиной»... Затем служба в очередных полках – четыре года, в двухочередных – четыре года, в трехочередных четыре года и, наконец, состояние в запасе, всего приблизительно около четверти столетия!