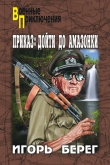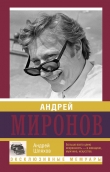Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 44 страниц)
5
Донская советская республика упразднялась постановлением ВЦИК 30 сентября, Ковалеву, как председателю Донисполкома, надо было ехать в Москву и Козлов, но его держали дела под Царицыном.
Неожиданно погиб Иван Тулак. Его откомандировали из города на продработу в деревне, и в первой же экспедиции по Нижней Волге отряд напоролся на крупную банду зеленых-камышатников, была большая стрельба, в перепалке никто не заметил, когда именно упал командир, а потом оказалось, что смертельный выстрел по Тулаку кто-то сделал с тыла, то есть убили этого прославленного человека в спину. Следствие ничего не показало, похоронили Ивана Тулака на бывшей Скорбященской площади, рядом с могилой Якова Ермана, а площадь переименовали, дали ей имя Свободы.
Потом произошел инцидент близ Ремонтной и Зимовников, где Ковалев с Ворошиловым не так давно объединяли разрозненные краснопартизанские отряды в одну большую, 1-ю Донскую социалистическую дивизию. Во многих полках бойцы не поняли и не приняли приказа штаба обороны об отступлении к Царицыну. Когда Шевкоплясов в одном из полков объявил такой приказ, возник настоящий бунт. Бойцы кричали, потрясая винтовками:
– А як же наше добро? Куды уходить от родных дворив? Пущай рабочие та городовикы сами воюють о том у Царицыни!
– Вин з охфицерьев, тот Шевкопляс, прапорщиком був! Продаст кадюкам нашу славну брыгаду! Це надо разжуваты!
Шевкоплясова схватили, как вражеского шпиона, и привезли в полк к самому прославленному в этих местах командиру, товарищу Думенко. Доказывали свою правоту: «Мабуть, по слободам бы стоять, дворы свои оборонять от кадюков, оно б и лучче. Как, товарищ Думенка?»
Конник разгневался, взмахнул плетью:
– Вы... так вашу мать, совсем з глузду съихалы? Да це ж товарищ Шевкопляс, наш командующий! Кто посмел бузу тереть? – И обернулся к молодому черноусому помощнику: – Ну, Сэмэн, скажи им слово, анархистам вонючим, шо воны роблять!
Буденный говорил спокойно и рассудительно:
– Прийдут кадюки, порежут вас, как курят, около ваших плетней. Надо с фабричными и Красной Армией в связь входить, братцы. Близ Царицына окрепнем, снарядами разбогатеем, придем назад, разметем кадетов вдрызг!
Шевкоплясова освободили, но в других отрядах шли митинги, бушевала разноголосица, отряд из Большой Мартыновки откололся. Стал в осаду в неприступной своей слободе. Приехал сам Ковалев наводить порядок, его и выбрали новым начальником дивизии. Тогда забузил и Думенко:
– На кой черт я с поганой пехтурой буду возиться? У меня кавалеристы – орлы, я с ними где хошь пройду!
Пока судили-рядили, дивизия была отрезана белыми.
И только через неделю Думенко со своими орлами пробил вновь дорогу на Царицын. А в городе Ковалева поджидала невеселая история с Носовичем... Бегство начальника штаба фронта влекло за собой многие военные и политические срывы.
Ковалев, харкая кровью, мотался по частям, агитировал, исправлял оплошности политотдельцев, проверял назначения. Осенняя хлябь, провалы на фронте, бессонница едва не уложили его в лазарет.
Наконец под Сарептой и Ремонтной дела поправились, сдал вновь дивизию тому же Григорию Шевкоплясову и к ноябрьским праздникам выехал-таки в Москву.
На душе было невесело. Знал, что время для разного рода «буферных» республик миновало, давно не существовало уже Донецко-Криворожской республики, а была только кипящая единым перегретым котлом Украина, и точно так же «единой и неделимой» была красная Россия, исполосованная кровавыми линиями фронтов, за донскую автономию держаться никто и не собирался. Во всяком случае, по эту сторону фронта. Но, с другой стороны, слишком укрепилась повсюду власть Троцкого, и тут приходилось опасаться.
В пути, из окна вагона, на длительных стоянках видел: разруха медленно и верно доедала гнилыми зубами остатки хозяйства. Ржавели рельсы железной дороги, станционные строения стояли местами без окон и дверей, куда уж дальше?
А в Казачьем отделе ВЦИК, наперекор всему, царил подъем. Главной причиной тому было выздоровление Ленина. Ильич окончательно встал на ноги, приступил к работе, все говорили, что «стало легче дышать». Добрые вести привез Ружейников с Урала: краснопартизанская армия Каширина, пройдя по тылам Колчака более тысячи верст, с трудными боями и потерями прорвалась все же на соединение с главными силами Красной Армии под Кунгур. Люди, вооружение, беженцы, лазареты – все спасено.
На границе Донской области по настоянию отдела формировалась 1-я казачья кавалерийская дивизия, командовать ею поручили Евгению Трифонову. Из Петрограда и Москвы направлялось имущество расформированных недавно лейб-гвардейских казачьих полков: обмундирование, седла, сбруя, шашки, подковы и ухнали. Только что вернулись из поездки в дивизию Макаров и Данилов, с ними приехал из Качалинской для постоянной работы в отделе командир 5-го Донского советского полка Федосий Кузюбердин. Приезжал и Дорошев – новый инспектор кавалерии 8-й армии, делегаты из полков, шумно стало в Казачьем отделе. Ковалев, подписав разные документы в Президиуме ВЦИК, тоже задержался до праздника у земляков.
– Теперь-то ничего, – говорил Михаил Мошкаров громко. – Теперь Владимир Ильич ужо и на работу стал ходить, а то ведь старались шепотом разговаривать. Такое место у нас... Машинистка опять вон трещит и горя не знает! Николай, расскажи, как в первый день ходили с цветами к Ильичу, поздравлять!
Шевченко усмехался, помалкивал. Мошкаров, склонный к литературному сочинительству, сам рассказал, отчасти высмеивая кубанца:
– Услышали один раз, ну, после этой затяжной тишины, шаги наверху... Поскрипывает дощечка в одном месте, Ильич поднялся с больничного положения! Давай искать букет цветов, надо ж поздравить с таким днем! А кому идти? Ясное дело, Шевченке, он там не один раз по делам бывал, свой человек...
– Брось, Михаил, охота тебе! – говорил Шевченко, но, преодолев смущение, и сам включился в рассказ: – Бонч-Бруевич не хотел пускать, я с ним по телефону начал спорить, а тут врезается такой тихий голос: «Ничего, Владимир Дмитриевич, пусть пройдут казаки...» Вошли, а Ильич бледный, прямо едва стоит, и левая рука на перевязи, как у фронтовика! У меня в одной руке письменное приветствие, в другой – цветы, не знаю, что и передавать сначала... А Ленин тихо так говорит мне: «Ничего, ничего, батенька, и у казаков бывают промашки...» Понимаешь, как он нас?
– Ты преувеличиваешь, Николай. Он просто сказал.
– Ленин ничего просто не говорит, все с умом. Вот и накручивайте на ус, черти! Поселили вас тут, так глядите, чтоб порядок был!
– Откуда ж цветы брали? – спросил Ковалев. Он с великим вниманием слушал этот беспечный и в то же время страшно интересный и важный для него разговор.
– Ну, ты странный, Виктор Семенович, тут же город! Не пойдешь, не наломаешь у соседки в палисаднике! Бегали в цветочный, хороших роз купили, как положено. От души! Завидуешь, что ли?
– Был бы здоров, остался у вас работать, – сказал Ковалев.
– Просись. Мы с радостью, у нас тут старых партийцев, считай, нету. А у тебя каторга-то аж с девятьсот пятого.
– Получил уж направление Реввоенсовета на Южный фронт. Неудобно. Дисциплина.
– Это так... – вздохнул Мошкаров. – Да и, правду сказать, голодно у нас тут, Семенович! Не с твоим здоровьем... Все же на юге, да осенью, жизнь, конечно, не такая. У нас тут с хлебом до четверти фунта доходило, а днями так и овсяную крупу развешивали заместо хлеба. Не разжиреешь... Кстати, кто нынче за пайком ушел?
Под самый вечер вернулся из столовой Михаил Данилов, опять с мешочной торбочкой, смущенно посмотрел на всех и бросил торбу на стол.
– Опоздавшим нынче даже не крупу, а простой овес! – громко сказал он. – Хошь – бери, хошь – оставь на завтра, так я все же взял. Можно потолочь да обрушить, а без каши куда же?
– Ове-ес? – не поверил смешливый Мошкаров.
– А ступу где ж брать? – спросил Ковалев.
– Это все знает старик Коробов... Стакан снарядный приспособил, на все общежитие стукотит по вечерам. Каптенармус!
– Весело вы тут живете, братцы! – засмеялся Ковалев.
– Как у Христа за пазухой!..
Овсяной кулеш вообще-то по вечерам варили сообща, но на этот раз Макаров ради смеха рассыпал овес по столу и начал делить «по едокам». Все смеялись, хохот возник почти как на базаре.
– Налетай, подешевело! Кто первый? – громче обычного выкрикивал Матвей Яковлевич и подмигивал Ковалеву.
– Был бы изюм, кутьи бы сварить! А то и впрямь заржешь тут, около такого фуража, – гулко засмеялся молодой дежурный казак Долгачев. – Вот это харч!
– Подходи, подходи! – гремел сам Макаров, впавший в настроение артельного заводилы, и вдруг испуганно замолчал и прикрыл кучу овса пустой торбочкой...
Никто не слышал, как открылась входная дверь. На пороге остановился с усталым, любопытствующим лицом Ленин. В своем рабочем пиджаке, при галстуке, левая рука – на черной повязке. Смотрел с прищуром и так подозрительно весело, как будто хотел по-станичному подбавить веселья: что, мол, за шум, а драки нет?.. Спросил тихо, не понимая громкого веселья в одном из отделов ВЦИК:
– По какому поводу смех, товарищи казаки? – И, видя, как Макаров безуспешно пытается скрыть мешковинкой злополучную груду зерна, еще поинтересовался: – Что это вы собираетось делать с овсом? Ведь это – овес?
– Да вот... товарищ Ленин, паек... получили! – в соворшенном смятении развел рунами Макаров. – На весь отдел, не знаю, что и...
– Матвей Яклич у нас как святой Иосиф в Ягипте! – сдержанно засмеялся юный Долгачев. – И виночерпий, и фуражир... – Он хотел смехом прикрыть оплошку всего отдела, но теперь уже никто не поддержал напускного и ненужного веселья. Все стояли и молча смотрели на Владимира Ильича. Ковалев тихо покачивался, забыв обо всем на свете. Перед ним был Ленин – вблизь, рядом!
– Паек, получили, Владимир Ильич, – смущенно сказал Макаров. – Ну и... ради шутки затеяли дележ. Вы не подумайте, мы питаемся сообща, просто смех разобрал, ведь – овес... Извините, пожалуйста, за этот шум. Так вышло...
– Овес.. вместо пайка? В Совнаркоме и ВЦИКе? – тихо спросил Ленин.
Несколько секунд смотрел в молчании на стол Мошкарова, на жалкую кучку овса, прикрытую пеньковой холстинкой торбы. На лице его отражались внутренняя работа и глубокая печаль от понимания всей этой напускной веселости казаков.
Потупился Ильич. Сказал негромко и со вздохом:
– Не отчаивайтесь, товарищи. Скоро настанет время, когда и вы, и весь народ будет питаться не овсом, а как подобает человеку...
– Мы понимаем, Владимир Ильич! Что вы! – сказал Макаров. – Это ж так, совпало...
– Ничего, ничего. Бывает. – Ленин повернулся и, не закрывая за собой дверей, пошел к деревянной лесенке на третий этаж.
Все молчали и укоризненно смотрели друг на друга.
– Забылись, зарапортовались совершенно, – чуть не выругался Матвей Макаров. – Ильич и сам чуть лучше нашего обедает. Ч-черт возьми! Надо же было!
– Это все Данилов, черт его!
– Не беда, – сказал Ковалев, но и у самого на душе было как-то неуютно. Чтобы рассеять тяжелое настроение, напомнил насчет пропусков на завтрашний праздник. Макаров заспешил в общий отдел.
На Красную площадь пропускали делегациями, казаки шли с колонной ВЦИК. Около высокой деревянной трибуны, увитой хвойными гирляндами, к ним присоединился писатель Серафимович. Здесь делегации смешивались, группа Казачьего отдела стала протискиваться к Сенатской башне, к самой стене Кремля, где предполагалось открытие мемориальной доски-барельефа «Павшим за мир и братство народов». Во всю высоту красной кирпичной стены ниспадала тяжелая занавесь, прикрывавшая до времени барельеф, внизу – лестница-стремянка, концы шнуров и лент, которые скоро будет разрезать Ленин...
Подходили делегации с Красной Пресни, из Замоскворечья, от красноармейских частей, наконец появилась самая большая группа – делегаты VI съезда Советов. Заговоривший перед этим Серафимович – с ним Ковалев только вчера познакомился во ВЦИКе – вдруг замолк, взял легкого, исхудавшего до синевы Виктора Семеновича под руку, произнес как бы про себя, вполголоса:
– Кажется, вижу Владимира Ильича. С делегатами... Смотрите!
Загустевшая у трибуны толпа качнулась, раздалась на две стороны, образуя неширокий проход. Ленин шел в группе старых большевиков, чуть впереди, в теплом пальто с шалевым воротником черного каракуля и такой же шапке-ушанке... Направился к Сенатской башне... В тупоносых ботинках «бульдо» с чуть загнутыми носами – видимо, любит просторную обувь, заметил Ковалев, – легко взбежал на гранитные ступени, к ниспадавшему полотнищу. Уже появились и сила, и определенная бодрость походки, но в ясном свете дня особенно заметна была исхудалась живого и немного возбужденного лица. Улыбался, глядя на запруженную людьми площадь.
Снегу, можно сказать, не было, перепархивала с неба мелкая, тающая мга, чуть-чуть серебрящая крыши, да на хвойных лапах лежал кое-где привозной, чисто лесной снежок. Легко дышалось – это Ковалев чувствовал по себе. Да и праздник какой – годовщина революции! Уже – годовщина!..
Рядом с Лениным, плечо в плечо, неотступно следовал Свердлов, весь обтянутый в новую, необношенную и с виду как бы задубевшую, не гнущуюся на холоде кожу: черную тужурку и такие же черные кожаные брюки без лей, высокие сапоги…
Макаров и окружающие его казаки все были в белых папахах, как и охрана, и Ковалев с Серафимовичем меж них проникли к самой стене и уже здоровались с высоким пожилым, по виду очень крепким бородачом-скульптором, который и делал самой мемориальную доску. С ним Ковалев тоже был знаком – не далее как вчера приходил скульптор Коненков договариваться с Макаровым насчет натурщиков для будущего памятника Степану Разину. Смеялись, вспоминали тогда про шемаханскую княжну, даже песню кто-то затянул вполголоса, а строгий председатель Мошкаров урезонил, что тут не казачья хата, а все же главное правительственное здание в Москве... Коненков был веселый и общительный, похлопывал каждого знакомца по плечам, выбирал на рост, старался даже качнуть, испытать силенку, приговаривал: «Степан-то... ваш был донских кровей, вот и решили в Совнаркоме поставить его со товарищи посреди Красной площади, на Лобном, как первого из первых революционеров-бунтарей святой Руси... А что, мол, товарищ Макаров, казачий комиссар, неплохо будет, если на майские-то праздники, к примеру, мы и откроем этот памятник? И пускай около Кремля пройдут красные сотни с пиками, со знаменем да на хороших конях? Как вы считаете, звонко может выйти?» И посмотрел на Ковалева: подходящее лицо для самого Степана Тимофеича, жаль, что приезжий, а то бы взял в мастерскую, взял непременно!
Теперь они стояли совсем близко от лестницы-стремянки, и скульптор Коненков держал в руках небольшую шкатулку.
Ленин огляделся вокруг быстрыми, улыбчивыми глазами, смерил высоту полотнища и стремянки, кинул всем «здравствуйте, товарищи», а с Коненковым поздоровался за руку и сказал, что помнит его с весеннего совещания...
– Что это у вас?
– Здесь, товарищ Ленин, ножницы. Которыми надо разрезать ленту, – сказал Коненков, ничуть не робея, улыбаясь Ленину. – И ножницы, и печатка к ленте, и сама шкатулка – это вещи, я считаю, мемориального значения, поскольку памятник-то первый в Москве! Имею в виду: первый революционный... Вот, посмотрите...
На шкатулке выделялись яркие буквы МСРКД...
– Правильно! – засмеялся Ленин, – Московский Совет рабочих, крестьянских депутатов... И по-моему, надо это все сохранить. Ведь будут же у нас музеи свои, и реликвии, и память для потомков... Возьмите, товарищ, – обратился к одному из сопровождающих. – Передайте в Моссовет, на хранение.
Когда поднимался по лестнице и поднимал руку с ножницами, его поддерживали с обеих сторон, лесенка все же была довольно высокая. И все заметили, как дернулось плечо и вдруг надломленно опустилась рука – видимо, не зажили еще раны, еще болело плечо... «Осторожнее, осторожнее, Владимир Ильич!» – встревожился Бонч-Бруевич и сам выше поднял руки, поддержал Ленина под локоть. Владимир Ильич справился с непривычной позой, перерезал ленту. Памятная доска-барельеф открылась...
Ковалев сначала ничего не понял – стояли слишком близко, а барельеф был десятиаршинный. Только бросалась в глаза пальмовая золотая ветвь на груди какой-то беломраморной женщины, а у ее ног в беспорядке сваленное холодное оружие всех времен и народов: штыки, сабли, топоры, стрелецкие бердыши, и все это повито красным полотнищем... Красное знамя проливалось и сверху обильными широкими складками, обнимая плечо женщины. И за ней сияло восходящее солнце с золотыми стрельчатыми лучами.
Внимательно приглядевшись, Ковалев понял, что из лучей складывались несколько вытянутые сверху вниз, необычные, но вполне ясные в очертаниях буквы и цифры:
ОКТЯБРЬСКАЯ – 1917 -РЕВОЛЮЦИЯ
Вообще-то все было ярко, необычно, торжественно. Грянул военный оркестр, поднял над площадью, запруженной народом, торжественную кантату в память тех, кто покоился здесь, у стены, со времени октябрьских боев. Большой хор затянул речитатив слов, новых, еще не слышанных, – революционный реквием:
Спите, любимые братья.
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.
Новые в мире зачатья.
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.
Да, все было ново, небывало, торжественно и свято... И мысль, и музыка – все волновало надорванную каторгой и болезнью, чувствительную душу Виктора Ковалева. И он удивлялся: когда же и кто успел сочинить все это – чистое и святое, – если вокруг шла ужасающая междоусобица, лилась кровь ежечасно, и у людей не было хлеба, доброй одежи, и не было покоя. Какие тут стихи?..
– Кто это сочинил? – спросил он Серафимовича, жарко дыша в самое ухо.
Писатель понимающе кивнул и почему-то выше поднял голову, поправил пенсне. Ответил громче, чем надо:
– Наши молодые поэты, совсем юные ребята: Сережа Есенин и Сережа Клычков... Хорошая поросль всходит под крылом Красной России! А вот погодим, скоро и заколосится, возмужает! – и переглянулся с Коненковым, они кивнули друг другу.
Хор высоко и пронзительно выводил кантату:
Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спито, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским Народ!
«К зорям вселенским... народ...» – несколько раз повторил в душе и запомнил взволнованный Ковалев.
Почему-то встал в памяти девятьсот пятый год, тьма, тревога, арест, кандалы... Боже ты мой, да ведь никакой надежды не было пережить, увидеть зеленые холмы, золотое солнце над Доном... Осилил девять кандальных лет, да неужели не добьюсь до конца этой тяжкой войны, не увижу народ освобожденным и счастливым, а?..
Вздохнул со сладкой надеждой, освобожденно, расправив больную грудь. Отогнал каторжные картины... Мимо быстро прошел Ленин, с легкостью взбежал на высокую, но маленькую, для одного человека, деревянную трибуну. И видно было отсюда, как с напряжением переводил дыхание – пар изо рта.
– Товарищи!
Характерный выпад над барьером с выбросом руки... Поза оратора-трибуна, стремление приблизиться к тем, ради кого начал не только речь, но и дело свое, пригласить к вниманию, общей мысли, общему порыву...
Говорил Ленин:
– На долю павших в октябрьские дни прошлого года товарищей досталось великое счастье победы. Величайшая почесть, о которой мечтали революционные вожди человечества, оказалась их достоянием: эта честь состояла в том, что по телам доблестно павших в бою товарищей прошли тысячи и миллионы борцов, столь же бесстрашных, обеспечивших этим героизмом массы победу... – Страдание искажало по временам лицо Ильича, но он превозмогал душевную боль, так же как и физическое свое недомогание. – Товарищи! Почтим же память октябрьских борцов тем, что перед их памятником дадим себе клятву идти по их следам, подражать их бесстрашию, их героизму. Пусть их лозунг станет лозунгом нашим, лозунгом восставших рабочих всех стран. Этот лозунг – «Победа или смерть!».
6
Так, под этим впечатлением праздника, грусти и высокого душевного подъема, Ковалев провел последние дни в столице, провожал Серафимовича, корреспондента «Правды», на Восточный фронт (первоначально в Симбирск, в штаб 5-й армии) и садился сам снова в обшарпанный и неприбранный, скрипящий и трясущийся вагон, следующий до города Козлова, в штаб Южного фронта. И долго еще повторял бесстрашные слова Ленина, повторял молча, в сознании своем: да, лозунг у нас один – «Победа или смерть!».
Холодный ветер пополам со снежной метелью поземкой низал над полотном железной дороги, раскидывал и трепал белые клубы пара. Уголь был паршивый, из местных шахт – больше дыма, чем тепла и движения. Волчье, голодное время приступало к горлу России, выло по деревням тысячами бабьих, старушечьих и детских голосов по убиенным и помершим от горя и недоедания. Деревушки по вечерам прятались в леса, во тьму, не светили огнями... Черные бурьянистые гривы тихо проплывали за окнами, поезд этот – тощий я неприкаянный, громыхающий на щербатых стыках – едва тащился с перегона на перегон, пока достиг со скрипом и частыми остановками города Козлова, открывшегося из окна огромным темным корпусом пустого по нынешним временам мясохолодильника и столь же внушительным, четырехэтажным зданием пересыльно-этапной тюрьмы. Город купцов и мещан, в котором, по слухам, обретался странный садовод, выводивший небывалые сортовые помеси разных фруктов и овощей. А теперь на углу Соборной площади и Московской улицы, в бывшей мужской гимназии, расположилось самое большое и важное учреждение – штаб Южного фронта.
Приезд Ковалева совпал с массовым оформлением прибывающих из Москвы и других городов членов партии на политическую работу в войска. Перед самыми праздниками Центральный Комитет принял специальное постановление о партийной работе в армии, создании политотделов фронтов и армий. В приемных толклись рабочие в промазученных тужурках, солдаты с опаленными шинельными разлетаями без хлястиков, аккуратные, подбористые курсанты. Все гомонили, все куда-то хотели определиться – не так, как предписывалось в штабе, а по собственным усмотрениям и наклонностям, туда, где воевали земляки и знакомые, школьные, заводские дружки. Часто упоминалась 8-я армии, ближайшая по дислокации, куда в скором времени должен был выехать новый командующий вместо с членами Реввоенсовета и штабом, обновившимся больше чем наполовину. О 9-й армии говорили мало.
Среди этой толкотни, гомона, топота кованых каблуков, простудного кашля и хрипа вполне отъединенно и независимо сидела за столом в дальнем углу приемной комнаты броско красивая, вся в черной коже, коротко стриженная девушка с характерным гордым профилем. Она еще училась только печатать на машинке, но уже грациозно и легко ударяла короткими, толстенькими пальцами по клавишам-кнопкам и то и дело меняла четвертушки бумаги: направления были очень короткие. Девушка была здесь хозяйкой.
Документы Ковалева с лиловыми печатями Реввоенсовета Республики произвели на нее сильное действие, она уважительно скользнула по его длинной фигуре блестящими глазами и грациозно убежала в ближнюю дверь, обитую толстым войлоком и кожей. Но вернулась очень скоро, и было в ней уже нечто иное: теперь она как бы игнорировала его, имея дело только с бумагами... Ковалев даже удивился этому превращению, не понимая, что за разъяснение она получила за дверью. И – куда же отлетела вся ее обаятельность, дружеское расположение?
– Вас примет товарищ Легран, – сказала она сухо. Как будто «товарищ Легран» занимался приемом исключительно неинтересных и второстепенных посетителей.
Легран, как это ни странно, оказался в курсе всех последних событий на Дону и в Донском ЦИКе, объяснил Ковалеву, что Донбюро в Курске только еще формируется... А о нем, Ковалеве, звонил сам, пред. РВС, и просил проявить особую заботу, не обременять ответственными поручениями ввиду того, что, мол, Ковалев нездоров, у него с каторги еще очень запущенная чахотка. Лучше дать работу поскромнее. Временно, конечно, пока товарищ отдохнет и подлечится...
Ковалев не возражал.
– Вам, конечно, надо поехать в родные места, товарищ Ковалев, – развил эту идею Легран уже от себя лично. – Важно не менять привычного климата и внешней среды, тогда оно легче. Да и питание у вас, на Дону, можно организовать куда более сносное. У нас вот – чай с сахарином... – и показал большую эмалированную кружку, из которой валил в нетопленном кабинете пар. – Да. Мне кажется, лучше направить вас в распоряжение политотдела 9-й... Вы не против?
Что он мог сказать? Конечно, можно и так понять, что его спускали в низы, но ведь наряду с тем и заботились, думали о его здоровье, да так, что никак невозможно возразить. В Девятую так в Девятую... И в самом деле, ближе к дому, к Арчеде и Фроловскому, где его ждет не дождется родная сестра с огородом и коровой (если, разумеется, не пограбили красновцы). Так или иначе, в Донбюро РКП(б) будет Ипполит, он покрепче, всегда можно посоветоваться и помочь взаимно...
– Так оформлять документы? – спросил Легран.
– А кто там в политотделе? – поинтересовался Ковалев.
Легран ответил не сразу (пост этот вначале предполагался для бывшего председателя ЦИК Дона, и лишь в последний момент сам передумал и позвонил лично начальнику политотдела Ходоровскому), теперь следовало смягчить момент... Посмотрел Легран в какой-то заповедный блокнот, выдвинул стол, перелистал бумажки. Удобно ли прозвучит ответ?..
– Пока там Дмитрий Полуян, из Царицына. Но – временно, потом посмотрим... У него вообще-то профессия писучая, возможно, заберем на редакторскую работу. Вы же за это время успеете как следует подлечиться. – Легран понимал, что неудобно старого политкаторжанина, партийца с девятьсот пятого совать на низовку, в батальонные политруки...
– Хорошо, я согласен, – сказал Ковалев, чтобы кончить этот разговор.
Легран был все так же по-товарищески корректен:
– А мы и не сомневались, Виктор Семенович, в вас, – сказал он. – Старый большевик, знаете. Иначе бы и не говорили с вами со всей откровенностью. Желаю вам успеха, сейчас девушка заготовит документы.
Кружка с сахариновым чаем аппетитно дымилась на столе. Но задерживаться здесь не хотелось. Документы к тому же оформили быстро.
В тот же день удалось сесть на балашовский поезд.
Снова мело снегом над путями, бездомно посвистывал ветер в проводах. Пошли соломенные и камышовые крыши, пропали тесовые – значит, ближе к югу... Когда проехали станцию Мучкан и поезд прогрохотал через речку Карай, справа по ходу состава видны стали дальние расплывчатые дымы, а если хорошо прислушаться, то долетала и орудийная канонада – под Борисоглебском шли тяжелые бои.
Приближались родимая Донщина, бедная и горькая от полыни, оплаканная насмерть и вновь возникшая в сердце.
Прифронтовой Балашов щетинился обводами траншей и окопов, стволами пушек, кое-где по-над дорогами вытянулись в полосы, одна к одной, перевернутые вверх зубьями, железные бороны. На случай прорыва белой конницы но бездорожью...
Дмитрий Полуян, красивый кубанец, тоже в меру поговорил о здоровье Ковалева, повздыхал, открылся, что сам он здесь, по-видимому, временный человек, тянет его на газетную работу... Советовали сверху направить опытного политработника Ковалева комиссаром в 23-ю стрелковую дивизию – дивизия более чем на две трети казачья, много конницы. Воюет отлично, а политработа запущена, партийцев можно по пальцам пересчитать...
– Двадцать третья? – спросил Ковалев устало. – А кто там командир?
– Командир там Миронов, Филипп Кузьмич, а по кавалерии заместитель у него Блинов. Хорошо воюют, недавно сам был у них. По общему мнению, у Миронова в частях исключительно высокий моральный дух, благодаря чему красновцы даже опасаются в этом районе наступать: дивизия снова стоит в полуокружении, но ничего, держится. Единственная просьба: искоренять понемногу партизанский душок среди командного состава, староказачьи увлечения самого начдива...
– Я знаю эти части, – сказал Ковалев. – Сам принимал участие в формировании усть-медведицкой конницы... Назначением доволен. Передайте это, пожалуйста, в Реввоенсовет фронта. И прошу размножить вот эту листовку: обращение Казачьего отдела ВЦИК к генералу Краснову. Мне выделили в Москве, но очень мало, а в работе, думаю, пригодится по всей армии...
А что, он и в самом деле был доволен таким назначением!
ДОКУМЕНТЫ
От Казачьего отдела ВЦИК
Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов
Донскому белой гвардии атаману Краснову!
Берегись и знай, что час твой пробил!
Сегодня часть обманутых тобой казаков поняла, куда ведет их дружба с тобою, а завтра поймут это все казаки-фронтовики и будут с нами. У нас могучая Красная Армия.
Да здравствует Ленин!
Члены Казачьего отдела ВЦИК:
Донские казаки Мошкаров, Данилов, Макаров,
Чеку нов, Попов, Стариков, Долгачев.
Кубанские Шевченко, Лобан.
Оренбургские Кайгородов, Скворцов.
Уральские Ружейников.
Астраханские Изюмский.