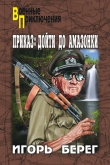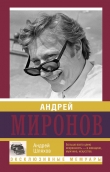Текст книги "Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая"
Автор книги: Анатолий Знаменский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 44 страниц)
14
По всей России, по всем ее малым и большим городам, шахтерским и фабричным поселкам, торговым слободам, волостным селам – митинги, митинги, митинги, разноголосица споров, колыхание толпы, горячее дыхание на морозном ветру...
Слобода Михайловка на Верхнем Дону встречала на соборной площади выгрузившихся из эшелонов служивых казаков, грудилась к высокой церковной паперти, на которой стояли только что избранные во временный ревком Алаев, Миронов, Ткачев и Кувшинов, и, затая дыхание, слушала выступления, резолюцию казаков, приказ полкового комитета, взрывалась одобрительными голосами и хлопаньем рукавиц.
Миронов стоял на возвышении в распахнутом романовском полушубке с белой опушкой, сжимая в руке папаху серого каракуля, и весь будто дымился на морозе от заутреннего гнева и ярости. Здесь, на митинге, обрушилось на него известие: две недели назад, во время массового избиения офицеров, на станции совершенно случайно был зарублен председатель полкового комитета 5-го запасного полка Николай Ланин...
Когда митинг закончился и главная забота по своему полку свалилась с плеч, Миронов с отчужденным лицом прошагал в помещение, занятое под штаб и военную комендатуру, велел позвать председателя местного ревкома Ткачева. Степанятов постоял в дверях, глядя на крошечный столик с машинкой «Ундервуд» и давая командиру остыть пород тяжелым разговором, пошел выполнять распоряжение, как никак, Миронов был избран военным комиссаром округи.
Председатель Ткачев, толстенький мастеровой с маслобойни, с умными и пронзительными глазами, удивился вызову, полагая, что окружной военком ему не указ. Но Степанятов сказал, что дело в данном случае обоюдное и лучше в такую минуту не артачиться... Ткачев взял для солидности папку с белыми, кальсонными завязками, пошел в комендатуру.
– Садитесь, – сказал Миронов.
Вежливо сказал, как старый службист, но почему-то показалось, что после этой вежливости он может вынуть из кобуры наган и со спокойной совестью пристрелить на месте.
– Спасибо, – тоже сдержанно сказал председатель ревкома Ткачев, так и не уяснив причины, по которой уездная власть хочет потрепать нервы волостной.
– Какая наиглавнейшая теперь задача у вас как представителя законной власти? – понял его состояние Миронов и постарался скрыть в тоне вопроса какое-либо недоброжелательство со своей стороны.
Ткачев почувствовал себя лучше, сказал с уверенностью:
– Так что ж, товарищ Миронов, разве мы сами тут решаем? Приезжал с неделю, может, две назад из Донецкого округа, с Каменской, товарищ Гроднер и сказал, что надо углублять.
– Что именно углублять? – вовсе смягчился вроде бы Миронов.
– Революцию. Ясно, – пожал плечами Ткачев.
– Каким образом?
– Отторгать имущество. Землю там... Мельницу рек-ви-зи-ровали...
– Чего ж его отторгать и реквизировать, когда хозяев нету, поразбежались? Вебер, Симонов и маслобойщики – где? В Новочеркасске? Ну и начинайте хозяйничать, работать, рабочих собирать. А вы чем занялись?
– Заседаем, как положено, – сказал Ткачев, вроде бы соглашаясь и кивая головой. – Вопросов много.
– Вчера весь вечер мои квартирьеры, – Миронов указал глазами на Степанятова, стоявшего тут же, – безуспешно разыскивали вас лично или хотя бы вашего заместителя, бывшего присяжного поверенного Севастьянова, и не могли сыскать...
Теперь Миронов настропалил жгучие свои глаза прямо в переносицу Ткачева, и тот почувствовал какое-то душевное неудобство, слабость перед этим человеком. А Миронов оглаживал жилистой ладонью свои длинные, перекрученные усы, как бы успокаивая их:
– Даже моя прославленная разведка, Воропаев с товарищами, целый час рыскали по слободе, пока установили, куда запропала местная власть... А местная власть, оказывается, на ночь запирается в складе бывшего пивзаводчика Симонова и пьет там в присутствии знатока законов и адвокатских крючков Севастьянова, который тоже называет себя революционером и сочувствующим. А в это самое время на улицах – резня, содом и гоморра! Почему допустили неоправданное избиение офицеров в 5-м запасном?
– Так ведь контры же! Контры, товарищ Миронов!
– Пока они не подались к Каледину, то еще не контры, – сказал Миронов.
– А за что их казаки порубили? Не знали они их?
– Да и казаки тоже успели узнать дорожку на завод Симонова, в том-то и беда! – вовсе почернел Миронов. Он почувствовал, что не сговорится с этим председателем. – С пьяных глаз какая же может быть революция, только один разбой!
Ткачев сказал с достоинством:
– Я, конешно, рабочий человек теперича, лампасы давно снял, и... не прочь пивка выпить, но это лишь при относительном спокое положения... Укорот всякой контре сделали – думаете, это легко было? Ну, и для душевного отдыха, посля драки. Теперь вот и ваш полк прибыл, сказать, при винтовках и даже четырех пушках-шестидюймовках, то... отлегло от души! Знали еще с вечера о скором прибытии, вот и пропустили но стакану – за все хорошее. А избиение офицеров к этому не относится. Было оно десятого числа, чуть ли не две недели назад. Закопали всех в углу кладбища, никаких следов, все чин чинарем, товарищ Миронов.
Говорил Ткачев умело. С одной стороны – с предупредительной вежливостью низового работника – соглашался, что позволил с друзьями недопустимую вольность, слабость и готов задернуть себя под уздцы, остеречь от дальнейшего падения, с другой – тонко подстилал лесть, а с третьей и коготки показывал: мы, мол, из простых рабочих людей, с нас много не спросится... Привстал в готовности и папку с бельевыми завязками прижал под мышкой:
– Бремя такое, товарищ Миронов. За всем не уследишь!
Бремя у нас, конечно, злое, – сказал Миронов, а Ткачев со стороны определил, что лицо у бывшего войскового старшины стало уже не чугунным, а каким-то кованым, взялось серыми мятежами. – Только нельзя этим временем играть ради личной корысти. За это... бог покарает и гром небесный гвозданет среди ясного дня! Во время той резни, ночью, но ошибке... Понимаете вы, по ошибке! зарублен глава их же полкового комитета, умница, социал-демократ Лапин! Друг Михаила Кривошлыкова! Ну? Что же с вами теперь делать?
Миронов смотрел на Ткачева, который стоял перед ним с позабытой шелухой подсолнечных семечек на губе, и внутренне удивлялся, сдерживая негодование. «Милейший, да ведь большой, небывалый праздник вокруг, люди светлого дня дождались! Каждый человек вправе почувствовать себя человеком. Отчего же ты не умыт но этому случаю и вроде как бы даже чавкаешь со своими неразлучными семечками! Неужели душа настолько глуха, дорогой ты мой соратник?..»
– Убить Лапина под руку вам мог даже скрытый враг. А вы проглядели, – добавил Миронов.
Задавленно и пугливо вскрикнул маневровый паровозик на дальней стрелке, и слышно стало, как по стеклам мелко и колюче стрекочут иглы метели. Ткачев стоял навытяжку и сумрачно смотрел на расстроенного военкома, вытиравшего носовым платком чугунный, в бисеринках пота лоб. Военкому Миронову было уже за сорок, а Ткачеву не было и тридцати, и он почему-то не верил в крайние меры, надеялся на снисхождение. В душе он даже посмеивался из-за того, что так или уж иначе, но переживет этого сердитого офицера, хотя бы по возрасту! И пугает он зря, не будут же за пиво расстреливать. Но что касается Михаила Кривошлыкова, то тут дело, конечно, невеселое, может обернуться тяжелой нахлобучкой.
– Плохо получилось, товарищ Миронов, сам понимаю! – сказал Ткачев. – Больше такого, надо полагать, не допустим... А что касаемо пива, то не выливать же его на землю?
Простодушие было, конечно, напускное, умышленное, но что тут скажешь? Миронов снова прижал свои стрельчатые усы ладонью, как бы оглаживая, и сказал сквозь зубы:
– Вы ведь тут олицетворяете новую власть, главное – народную! По такой власти народ, может, триста лет тосковал! И вот народ этот смотрит со стороны и начинает оценивать: с чего же доброго начинает эта новая власть? Если вы лично свою репутацию топите в черепке пойла, то тут мне наплевать! А за Советскую власть – другое дело. За нее люди годами в тюрьмах сидели, жизни клали и сейчас кровь проливают под Лихой и Новочеркасском – тут спрос будет строгий!
– Это, конечное дело, так... Можно учесть разъяснение, товарищ Миронов, – согласился Ткачев. – Поставлю даже вопрос на заседании нынче. О дровах, потом – продкомиссия, ну и насчет сказанного...
Миронов протяжно посмотрел в окно, вздохнул, сказал мирно:
– Я завтра выезжаю с отпускными казаками в Усть-Медведицу, Кувшинов собирается в Москву, во ВЦИК, Алаева вызывают в Донревком к Подтелкову. Оттого я и попросил вас, чтобы договориться... Чтобы – порядок! Тут еще останется член окружного ревкома и мой заместитель по военному комиссариату товарищ Степанятов... – Миронов вышел из-за стола и оправил красный темляк на эфесе именной шашки. – Прошу вас работать со Степанятовым в согласии, он к тому же член партии большевиков. А за порядок в слободе спросится в первую очередь, конечно, с вас! Ну... вы свободны.
Степанятов вышел проводить Ткачева, а Филипп Кузьмич еще посидел в задумчивости около пишущей машинки «Ундервуд», сдавив усталые виски ладонями, посмотрел на сложную путаницу рычажков, педалей и пружинок в умном механизме машинки, вздохнул тяжко. Даже простая пишущая машинка с виду казалась невероятно сложной, а что же сказать о нынешней жизни? В какой опасный клубок скатываются и спутываются события?
Слепая и бессмысленная смерть Николая Лапина, с которым они разговаривали еще летом в Новочеркасске, смерть от руки пьяного казака, ослепленного животной яростью! – эта горькая жертва высокого и светлого дня революции попросту вырывала ему душу. Как же так, почему, зачем наконец? Человека безмерно жаль, и вместе с ним не вернуть уже недавней веры Миронова в возможную бескровность социальных перемен, которую он до последних дней старательно оберегал в душе. До сей поры у Каледина не было и не могло быть сколько-нибудь значительной силы, старый мир почти открыт перед лицом вооруженного народа. Но избиение офицеров могло изменить ход событий самым роковым образом. Все оставшиеся в живых командиры 5-го запасного, даже урядники и вахмистры, младшие чины, разбежались кто куда, скорее всего во Второй Донской округ, в станицы Обливскую и Морозовскую, где, по слухам, гуляли уже белые партизанские сотни Лазарева и Растегаева. А куда им иначе? Они бегут не от Советов, а от слепой смерти.
Не веселые размышления прерваны были скрипом каблуков на крыльце, громким разговором, потом явился с морозца Николай Степанятов в сопровождении незнакомого бравого казачка в новеньком полушубке нараспашку и старых, побитых, но хорошо вычищенных сапогах в гармошку. Дать бы ему погоны с золотыми лычками – был бы образцовый лейб-казак перед войсковым смотром!.. Папаха желтовато-серого курпея заломлена с партизанской лихостью, и чисто выбритая физиономия с аккуратными усиками задорно улыбается с открытым доверием к первому встречному. Чему радуется человек, пока непонятно. Скорее всего – собственной молодости и своему же простодушию, а возможно, и попросту хорошей, бодрой погодке.
– Здравия желаю, товарищ Миронов! – браво козырнул казак и разом прикусил дурашливую усмешку, прищелкнул каблуками. И по глазам стало ясно: в бою не моргнет, перерубит противника надвое...
– С кем имею честь? – Миронов не любил вольности и бесшабашную веселость без видимой причины.
– Бывший урядник 3-го, Ермака Тимофеича, Донского казачьего полка Блинов! – отрапортовал казак, мало заботясь о том, какое впечатление производит на старшего по чину и возрасту, но имея видимое намерение к дальнейшему разговору. – Родом из станицы Кепинской, первого призыва на германскую... Разрешите доложить?
– Он из Глазуновки приехал, – подсказал Степанятов. – Хорошие оттуда вести.
– Говорите, – кивнул Миронов.
– Так что... Наш полк, вызванный с фронта Калединым и расквартированный в Скурихе и Глазуновской, ныне весь поголовно разошелся по домам ввиду близости семей, жен и детишков, а мы с Григорием Бахолдиным, как члены полкового комитета и ликвидкома, сидим при полковом имуществе как привязанные и не могём стронуться с места. Офицеры тоже поголовно разбежались, а командир полка Голубинцев ускакал в Нижнечирскую! У нас – две сотни винтовок, четыре пулемета, ленты и цинки, прочая сбруя... Приберегли, товарищ Миронов! Мы еще в начале декабря были с Бахолдиным в Царицыне, там с другими казаками митинговали, чтоб уклониться от калединеких приказов, а есаул Сдобнов как раз и посоветовал нам поберечь имущество для красногвардии...
– Он где, есаул Сдобнов? – сразу обрадовался Миронов. Он совсем позабыл своего друга-станичника, с которым делали одно дело в девятьсот шестом, поднимали станицу и округ. Считал его уже погибшим, не имея слухов по фронту о нем, и вот, словно из небытия, вынырнуло дорогое имя. Сдобнов, бывший сотник, разжалованный в девятьсот шестом в хорунжие и снова заработавший погоны есаула на германской...
– А он в Царицынском совдепе казачью секцию организовал, там пока и сидит... Был еще из Петрограда товарищ Данилов, член казачьего комитета при ВЦИКе. Народ гуртуется вокруг Советской власти, товарищ Миронов. Но, сказать, и дураков еще по пальцам не пересчитаешь, пальцев не хватят! Вот в Филонове, слышно, казаки 30-го Донского полка додумались... Все полковое имущество, сбрую, брички, походный шанцевый струмент – все распродали с молотка, а деньги поделили, как вроде при Степане Разине, раздуванили и поехали с песнями по домам. Свобода, говорят! Ну, не дураки ли? Михаил Данилов кричал, что так нельзя, стыдил, но так и уехал в Питер, ничего не добился. А мы с Бахолдиным все уберегли.
– А где сам Бахолдин-то? – спросил Миронов, припоминая некоего подхорунжего Бахолдина, еще в шестнадцатом бунтовавшего с сотней на Юго-Западном фронте. – Хотел бы я его видеть.
– Чем-то хворает, вроде лихорадки, желтый весь... Как очунеется, так подъедет. Тоже очень хотел вас видеть, товарищ Миронов.
Миронов отходил душой, глядя теперь уже с искренней симпатией на этого разбитного и статного урядника, понимающего свое время и свое место в нем. Достал серебряный портсигар и угостил Блинова и Степанятова хорошими папиросами. Сам он курил мало, потому и табак или папиросы имел при себе в нужную минуту. Степанятов тоже заинтересованно присматривался к Блинову. Прикурили от одной бензиновой зажигалки.
– К какой вы партии принадлежите, товарищ? – спросил Степанятов.
Блинов мощно обернулся всем туловищем.
– Я – большевик, а к партии ни к какой не принадлежу, не вписывался, – ясно и определенно сказал он.
– Ну, таких у нас тут много! – засмеялся Миронов. – Награды боевые, надо полагать, имели?
– Так точно. Полный бант Георгин, товарищ военком.
– Это нам тоже подходит, – снова засмеялся Миронов и, усадив Блинова к столику с пишущей машинкой, заговорил о делах.
– Имущество полка никому передавать не надо, товарищ Блинов. Именем революции и по праву окружной Советской власти поручаю вам формировать отряд красной гвардии по месту расположения вашего бывшего полка. Кавалерийскую революционную сотню, а если наберете, то и полк! От вас, товарищ Блинов, – он с видимым вкусом произносил это новое, еще не обношенное и не затертое слово «товарищ», – от вас и будет зависеть ваша должность в дальнейшем. Утвердим по наличию кавалерии хоть сотенным, а хоть и полковым командиром.
Лицо Блинова зарумянело от гордости, он встал, и рука твердо коснулась пальцами края папахи:
– Готов служить и действовать, товарищ Миронов. Разрешите идти?
Миронов подошел вплотную и обнял бывшего урядника. Даже отчего-то растрогался, глядя в молодое, обветренное, красивое лицо.
– Действовать начнем завтра, – сказал не служебным, домашним голосом. – А сейчас давай-ка чай пить! Тут у нас тоже кое-какое полковое имущество сохранилось, есть немного сухарей, несколько фунтов чая с сахаром. Садись, товарищ Блинов, и будь гостем! Хорошее настроение ты мне принес, Михаил Блинов! Даже и сам не знаешь, какой ты нынче молодец! Снимай полушубок!
Был на Дону еще один человек, который считал, судя по сложившейся военно-политической обстановке, что никакой гражданской войны как на Дону, так и по всей России быть не может, ибо победа большевиков окончательная и полная. Этим человеком был сам войсковой атаман Каледин.
К середине января 1918 года в подчинении круга и Донского правительства не осталось ни одного окружного центра, ни одной станицы. Везде заправляли красные ревкомы, поддерживаемые наскоро сколоченными караульными сотнями и батальонами. Добровольческая армия Корнилова – не более двух тысяч офицерских штыков – также не встретила поддержки донцов и, сжигая все мосты, ушла на Кубань. Но и оттуда, от Тихорецкой, уже наступали на Ростов части красных кубанцев, сформированные по мандату Совнаркома донским хорунжим Автономовым.
Верными Каледину оставались только штабные офицеры и 147 казаков личной охраны. Понимая полную безнадежность и безвыходность положения, 29 января генерал Каледин сложил с себя власть и застрелился в своем кабинете.
Белое и казачье-сепаратистское движение на Дону было обречено.
15
Весной 1918 года на военном и политическом небосводе России неожиданно появилось и начало все более проясняться некое туманное созвездие, или фракционное скопление Льва Троцкого. Вступив со своей группой так называемых «межрайонцев» в РСДРП (б) лишь в канун Октябрьского переворота[16]16
17 марта 1017 г. в письме к А. М. Коллонтай В. И. Ленин писал относительно предлагаемого объединения с центристами: «По-моему, главной теперь – не дать себя запутать в глупые «объединительные» попытки с социал-патриотами (или, еще опаснее, колеблющимися, вроде ОК, Троцкого и К°) и продолжать работу своей партией в последовательно-интернациональном духе» (Ленин В. И. Поли. собр. соч. – Т. 49. – С. 402).
Однако уже а августе, на VI съезде РСДРП (б), в отсутствие Ленина (который находился в Разливе), произошло объединение с «межрайонными» Троцкого, причем – на паритетных началах, так что Троцкий и еще один «можрайонец» вошли в состав ЦК партии...
[Закрыть] и получив в новом, большевистском правительстве портфель наркома по иностранным делам, Троцкий-Бронштейн начал свою деятельность с провозглашения перманентной революции и провала мирных переговоров с Германией в Брест-Литовске. К этому времени мало кто знал о возникших разногласиях в партии, но угрозу немецкого наступления понимали все, а наиболее дальновидные работники на местах могли предчувствовать и дальнейшие осложнения вплоть до широкого развертывания гражданской войны.
Предвидя скорое наступление германских войск на Украину, Прибалтику и Донбасс, Ленин срочной телеграммой на имя главкома по борьбе с контрреволюцией на Юге Антонова-Овсеенко приказал во что бы то ни стало отбить у Калединцев Ростов. Согласно этому приказу отряды Рудольфа Сиверса с севера и красные кубанские полки Автономова с юга в ночь на 24 февраля вошли в Ростов. Одновременно казачьи полки Донревкома под объединенным командованием Ипполита Дорошева, бывшего полковника Седова и войскового старшины Голубова ворвались в Новочеркасск и арестовали заседавшую казачью верхушку во главе с генералом Назаровым. Случайно успели выбраться из города лишь руководители круга Павел Агеев и Федор Дмитриевич Крюков.
...25 февраля заключенный новочеркасской тюрьмы, бывший политкаторжанин Виктор Ковалев, вышел из камеры на талый двор тюрьмы и зажмурился от яркого весеннего солнца, блестящего подталого снега у кирпичных стен и блеска плачущих сосулек. Поднял чахоточное лицо к небу и мстительно засмеялся. Шутка ли, второй раз в жизни одолеть тюрьму! «Живем, Ковалев, – сказал он себе. – Еще потопчем землю, старина, покажем кой-кому, где раки зимуют!»
Тут дрянной, воняющий керосином и, без сомнения, реквизированный у какого-то буржуя автомобиль-фаэтон выписал колесами на притоптанном снегу два мазутных полудужия и стал у порожков. Шофер – почему-то в мотоциклетных очках и кожаном шлеме, как у воздушного пилота, – раскрыл перед Ковалевым черную дверцу.
– Товарищ Ковалев? Вас срочно вызывают в Ростов. Поезд отходит через полчаса. Пожалуйте.
Четко и строго начинала работать новая власть.
Ехали по тихому, прижухлому Новочеркасску. Шофер поделился местными слухами, что красные недавно расстреляли Войсковое правительство в полном составе.
– И Каледина с Агеевым? – уточнил Ковалев, замерзая в старой, шинели, поеживаясь от сквозняка.
– Нет, Каледин сам застрелился месяц назад, а теперь был Назаров! Про Агеева ничего не слыхать.
– Кто командует нашими? – на всякий случай спросил Ковалев.
– Член ревкома Дорошев и командир сводного отряда Голубов.
– Понятно, – кивнул Ковалев.
В классном вагоне встретил его провожатый охранник в болотно-зеленом английском френче нараспашку, при маузере в тяжелой деревянной кобуре, болтавшейся у самых колен. В разрезе рубахи заметил Ковалев голубую рябь тельняшки. Оказалось, матрос с яхты «Колхида», еще с осени стоявшей в Ростовском порту.
– Значит, объединилась Каменская с Ростовом? – спросил Ковалев.
– А чого им было делить? Уси ж силы были у Каменськой и тамо ж приезжи власти з Москвы, Одисей этот, а у нас тильки Сырцов з Френкелем! А зараз у Ростови уси собрались, да дивизья червоних казаков! Сам Подтелков!
«Кто такой Подтелков?.. Не слыхал», – поежился Ковалев.
Объединенный военно-революционпый комитет Дона помещался теперь уже не в ротонде городского сада, а занимал весь второй этаж огромной гостиницы «Палас-отель». Председатель ВРК, здоровенный казак-батареец Федор Подтелков, ставленник каменских фронтовиков, ввел Ковалева в курс последних событий:
– Вчера наш объединенный военно-революционный комитет провозгласил образование Донской советской республики и теперь готовит созыв съезда всего трудового населения. – Уловив удивленный взгляд Ковалева по поводу «республики», тут же объяснил, что ввиду возможного наступления немцев на Южную Украину и Придонье Москва рекомендовала узаконить буферные республики: Донецко-Криворожскую, Донскую, Кубано-Черноморскую. Говорят, есть даже Калужская республика! – А пока будет подготовляться съезд, мы формируем добровольческие отряды на местах, нашу опору. Вот гляди на карту, товарищ дорогой, обстановка такая...
Федор Подтелков, недавний вахмистр-батареец, облик имел самый гражданский. Коротко подстрижен, без традиционно-казачьего чуба, плотные, по-рабочему подстриженные усы, осанка обстоятельного крестьянина или фабричного мастера – таким увидел Ковалев главу донского революционного казачества. На широком столе Подтелкова лежала карта Юга России и Донецкого бассейна, он водил по ней карандашом, и Ковалев удивлялся, глядя на огромные, рабочие руки этого человека, которые уже умело держали карандаш над картой и быстро, толково делали пометки, воображаемые позиции и овалы воинских сосредоточений. Скоро и сметливо входил бывший батареец с двумя классами грамоты в новые, большие обязанности.
– Обстановка пока неплохая, – говорил Подтелков. – Все окружные станицы и города практически у нас в руках! В Урюпинской – свой ВРК во главе с Селиверстовым и Селивановым, эти сносятся напрямую с Москвой, им туда ближе и сподручней... Во Втором Донском формирует части товарищ Кузюбердин, член Казачьего комитета ВЦИК, толковый офицер из 4-го Донского... В Нижнем Чире весь 6-й полк под командой Горячева и Зотова перешел на нашу сторону. Усть-Медведицкий округ насквозь советский, там всеми делами заворачивает военком Миронов, бывший командир 32-го полка. Председатель окружного ревкома Алаев приехал оттуда с делегацией, говорит, мол, на ихний округ вполне можно положиться! О севере области говорить нечего, в Каменской, Чертково, Лихой – красные отряды Саблина и Петрова, от Москвы. Теперь вот на самом юге, под Великокняжеской и Торговой тоже идет формирование, там у нас Алехин, офицер-большевик, и матрос Евдоким Огнев с крейсера «Аврора». Видишь, сколько!
Было чем гордиться Подтелкову, поэтому Ковалев не осуждал его некой восторженности, похвальбы:
– Мы и бывших офицеров но отторгаем от себя, какие хотят со всей душой служить трудовому народу! – рокотал Подтелков, – В 27-м полку казаки добровольно оставили командиром полковника Седова. Старик душевный, воюет теперь. То ж самое – Голубов. Калодинекого карателя Чернецова под Глубокой разнес в дым, а теперь и самый Новочеркасск взял, крепко держит. Во какие орлы у нас!
Снизил тон Подтелков, смущенно-детским движением пригладил волосы и вздохнул, как человек, сознающий и свои промахи, недоделки:
– Это все актив наш, Виктор Семенович. А пассив – это белые, недорезанные офицеры, какие схоронились до времени по станицам! Сидят, проклятые, ждут с моря погоды... Генерал Краснов гдей-то под Константиновской сидит, голосу не подает, его питерские большевики под честное слово отпустили, да ведь это – до времени... Полковник Денисов в Багаевской схоронился, генерал Попов в Сальскую степь сбежал с отрядом черкасни, Мамонтов и Лазарев бродят по калмыцким улусам, а Голубинцев и Дудаков под Усть-Хопрами, вон сколь их! А тут эти разнузданные отряды, красногвардия с Украины... Анархисты поганые! Идут по степу, как завоеватели, грабют хутора, а мы, казаки, рази это стерпим? Я уже говорил и с Сиверсом, и с партейным своим заместителем Сырцовым, что так нельзя. Надо их как-то приструнить и к дисциплине прибирать. А то ведь долго ли до греха? Не дай бог, какая искра или спичка...
Вовсе сбавил тон Подтелков и опять потрогал толстыми пальцами свои коротко стриженные волосы, вздохнул сокрушенно:
– Я вот тоже глупость упорол с пленным Чернецовым, не мог стерпеть, когда он начал матом на меня, как на нижнего чина... «Предатель, говорит, недоумок, жидам продался и всю Донщину продал!» А? Не помню, как и шашку из ножен выдернул. Рубанул по гадской башке, а он ведь – пленный, сволочь! Кривошлыков меня чуть живого не съел за это, газетку показал, а там – картинка, этот Чернецов мертвый... Стыдно, брат, стало, вот какие дела...
Ковалев с пониманием вздохнул, вбирая в память все эти, новые для него, сведения и мысли председателя Донревкома.
– Поводов давать не надо, а власть в руки брать надо крепче, – сказал Ковалев.
– А то! У нас тоже лопатки зудят, хочется всякую контру за зебры взять, приподнять и об пол! Зараз наш неусыпный страж, войсковой старшина Голубов, со своим полком кинулся по Салу ловить последнего кандидата в атаманы, Митрофана Богаевского! Ежели поймает, будем открыто судить гада за измену народу!
– Это кто же придумал? – с усмешкой спросил Ковалев.
– Так сам Голубов. Он старательный. Чернецова в плен взял, а теперь, говорит, и Богаевского вам доставлю живым или мертвым! Он – ничего, верно народу служит.
– Знаю я его, – сказал Ковалев, несколько озабоченный простотой Подтелкова. – Знаю, в одной камере в Новочеркасске пришлось сидеть. Увлекающийся человек, скользкий. Хочет быть красным атаманом Дона, тебе в этом еще не признавался, случаем?
Подтелков как бы оцепенел от неожиданности.
– Это как – атаманом?
– А черт его знает, приедет со степей, возьми да спроси! – посмеялся Ковалев.
Тут Подтелков сел в председательское кресло и склонил голову свою на прочной, жилистой шее, задумался. И когда заговорил, в голосе сквозила дружеская признательность:
– Вот сразу видно, что ты, Виктор Семенович, партейный казак, с прицелом. Спасибо. Этого нам шибко не хватает, и я особо на тебя рассчитываю во время будущего съезда. Тут, понимаешь, такое дело: в президиуме у нас – одни горожане при галстуках да в золотых очках: Рожанский, Дунаевский, Бруно да еще Френкель. Можно всех казаков на съезде перепугать! Где же, скажут, наши-то делегаты?
– Это не беда, – со смехом отмахнулся Ковалев, заблестев чахоточными глазами. – У нас же союз трудящегося народа всех наций, ты это пойми! Ин-тер-национал. В этом – главное.
– Оно-то так, я понимаю, Ковалев. Тернационал – это, сказать, равный союз людей и их промеж себя уважение! Это ясно. Но при взаимности, Ковалев! А ежли наших мало будет за тем столом, то и тернационал получится не полный, однобокий. Ну? Нет, ты на меня, пожалуйста, так не гляди, я – за порядок. И за равенство в этом тернационале.
Порылся в ящике стола и достал небольшую бумажку с телеграфными наклейками строк. Сказал спокойно, со внушением:
– Тут вот Ленин, Владимир Ильич, приветствует нас, революционных казаков... Погляди.
Ковалев живо взял бумажку. Его до глубины души обрадовал сам факт ленинского послания, бегло прочел смазанные телеграфной лентой строчки:
«Наш горячий привет всем беззаветным борцам за социализм, привет революционному казачеству... пусть полномочный съезд городских и сельских Советов всей Донском области выработает сам свой аграрный законопроект и представит на утверждение Совнаркома. Будет лучше. Против автономии Донской области ничего но имею...»[17]17
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. – С. 365 – 360.
[Закрыть].
– Вот, – сказал Федор Подтелков. – Полномочный съезд! О том и речь. Сами, говорит, решайте, раз уж власть в руки взяли! «Будет лучше!» С тем мы тебя, Виктор Семенович, и позвали срочно, что ты – мастак по советской работе! Доказал за короткое время в Каменской, оттуда большевики говорили... Я уж хотел тебя тут, в Ростове, оставить, да окружной партийный председатель Щаденко не согласился, просит тебя хоть на время возглавить Каменский окружной совдеп. Будем сообща готовить съезд, потому как работы много. Сам посуди: надо ведь повсеместно выборы проводить? А?
– Работа большая, – согласился Ковалев. – Надо изолировать от этого богатые классы в первую очередь.
– Так вот, Виктор Семенович! – прихлопнул тяжкой ладонью Подтелков. – Поедешь по Донецкому и Хоперскому округам готовить съезд. Мы тут двух зайцев доразу убьем: и Щаденко не обидим, и свое дело промыслим. И ты потихоньку считай себя с нынешнего дня уже человеком не окружным, а областным. По секрету говорю. Мало у нас партейных казаков...
– Это понятно.
– Ну и... еще. Подлечиться за эти дни надо бы, товарищ дорогой! Все ж таки тюрьма – не родная тетка! Потому прошу, от имени всей Донской республики, налечь на молоко и сметану, тем более что такой повышенный паек мы тебе обеспечить могём. Вот так. А теперя иди, друг мой дорогой, в номер, для тебя готовый, и хорошенько отоспись перед завтрашней работой. И шинель этую, каторжанскую, я тебе заменяю новым романовским полушубком, мы его только что сшили на твой невозможный рост! Носи, то же самое, на здоровье, как пострадал ты на каторгах за народ и наше общее дело! А мы, люди, должны быть за это сердечно благодарными, кто так заранее и уж давно о правде думал...
И смешно, и трогательно было слушать этого рослого, матерого телом и еще детски наивного человека. Понял одно Ковалев: сердце у Подтелкова доброе, человечески-отзывчивое. С таким можно работать.
Отдохнуть ночью в уютном гостиничном номере все же не пришлось. С наступлением темноты по городу началась стрельба. Как узнал позже Ковалев, анархисты и базарное жулье «гуляли» на свободе, громили магазины и чистые квартиры, стреляли в редких прохожих и рабочие патрули. Звенели битые окна по Таганрогскому проспекту.
Когда здоровенный булыжник разнес вдребезги большое оконное стекло и влетел в номер, загремев на полу и обрызгав осколками круглый стол красного дерева, Ковалев выругался, зажег лампу и, хмурый, непроспавшийся, пошел на верхний этаж, в ревком – там тоже, слышно, не спали. Окна звенели едва ли не по всему фасаду.