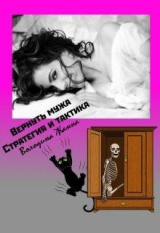
Текст книги "Вернуть мужа. Стратегия и Тактика (СИ)"
Автор книги: Жанна Володина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц)
Он не сможет меня убедить, уговорить, разуверить. Но сама эта встреча сейчас невозможна, на нее нет никаких сил.
– Можно было бы просто попытаться во всем разобраться, а для этого взрослые люди разговаривают, – старик настойчив и опять внешне спокоен.
– Я не знаю, что мне теперь со своей жизнью делать. Мне бы с самой собой поговорить, а не с ним. Я себя не слышу и не воспринимаю. Знаете, мы с Сашкой и Леркой недавно никак не могли убедить Милу, что ее героиня-дура совершенно зря решила свести счеты с жизнью из-за мужа-изменника. Я так вообще хохотала над сюжетом. А теперь чем я отличаюсь от этой героини?
– Вы говорите о смерти или иронизируете? – спрашивает Михаил Аронович, вдруг став каким-то чужим, посторонним, как настоящий врач, разговаривающий с пациентом.
Смерть. Мысль о ней, как назойливая муха, возвращалась ко мне снова и снова. Вру. Не то чтобы я решила покончить с собой, но картины отчаяния, заполнившие мое сознание и топившие меня не просто в разочаровании – в горе, возникали в воображении яркими и четкими сценами. Вот меня не стало. Вот Максим в шоке, топит горе в алкоголе и ночует на кладбище у моей могилы, на коленях моля о прощении. А поздно! Теперь живи с этим, если сможешь...
Вспоминаю, как влюбленная в баскетболиста Кирилла Ермака Мышильда ночью приехала ко мне на такси и отчаянно рыдала в подушку, лежа на нашей с Максимом кровати. Муж был сослан в гостиную на диван, а мы с сестрой до утра рефлексировали: Мышильда строила злобные планы мести Ермаку за его неожиданную помолвку, а я строила из себя опытную женщину, пожившую и много понимающую.
– Отравлюсь, – глядя в наш зеркальный потолок, говорила сестра. – Между прочим, меня, как невинную девушку, будут хоронить в свадебном платье. Вот лежу я, такая прекрасная, обманутая, целомудренная, в красивом гробу, а он над ним плачет. А поздно, все, нет меня!
Я в этот момент тоже смотрела в потолок и еле-еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться и не обидеть:
– Какая ты все-таки молодая и дурная, – ласково говорила я, гладя ее жидкие белокурые волосики. – Разве можно шутить такими вещами, как смерть? А мы? Что мы будем делать без тебя? Наш отец, твоя мать, друзья? Заберешь у себя свою жизнь – и навсегда изменишь нашу.
Что ж, жизнь дала мне прекрасную возможность побывать в шкуре обманутой женщины. И с историей Мышильды не сравнить: "изменник" Ермак и не подозревал о чувствах своей фанатки Дымовой Марии Михайловны, более того, думаю даже не помнил ее в лицо.
– В принципе, в мысли о самоубийстве что-то есть. Она вполне может быть продуктивной, – неожиданно оживляется старик. – А давайте-ка рассмотрим и этот вариант.
– Вариант? – смотрю на мгновенно преобразившегося старика с удивлением. Что его так вдохновило? Моя смерть? Странное профессиональное рвение.
– Предлагаю вам все тщательно продумать, Варвара Михайловна, – Михаил Аронович бодро продолжил:
– Для начала советую оставить текст собственного некролога. При вашем щепетильном отношении к слову, к тексту, думаю, вам небезразлично, что могут опубликовать после вашей смерти.
– Да... Хотелось бы что-то строгое, неэмоциональное, без подробностей моей личной жизни, – хрипло говорю я, от неожиданности потеряв голос. И только сейчас понимаю, что совсем не хочу выносить сор из избы, не хочу, чтобы о причине моей смерти узнали все. Это сломает ему жизнь. Вот странно: он мою сломал, а я его не хочу. Может, именно этим проверяется искренность чувств.
– Прекрасно! – радостно восклицает старик. – Просто замечательно! Вы напишете его сами! И после вашей смерти мы опубликуем именно его. Обещаю. Надеюсь, вы не сомневаетесь в моем слове и моих возможностях? Георгий все устроит так, как надо.
Даже обидно, что от минорного сочувствия сосед так быстро переключился на мажорные варианты. Какие-то извращенно мажорные, честное слово!
– Так! – Михаил Аронович потирает руки в предвкушении. – Сначала бульон, волшебный, куриный, по рецепту вашей бабушки. Потом чай с малиной и пирогом. А затем и некролог. Попробуйте на тысячу знаков.
– Дядя Георгоша постарался? – устало улыбаюсь я, покоряясь энергичному старику. Он не готовит сам. Рано утром приходит его приемный сын Георгий Михайлович и готовит отцу на пару дней. После смерти бабушки ее знаменитый на весь дом и всю родню куриный супчик смог повторить только он. Ни у Риты, ни у Галины Семеновны, ни даже у Сашки, обладающей мыслимыми и немыслимыми талантами, этот суп не получался. Выходило вкусно, сытно, но не так, как у бабы Лизы. А вот дядя Георгоша смог.
– Хорошо, – удерживаю очередную порцию слез. Пусть будет перерыв на обед. Наслаждаюсь большим куском яблочного пирога. А что? Потолстеть перед запланированной смертью все равно не успею. Неадекватно хихикаю, вспомнив Кэрролла: "От горчицы – огорчаются, от лука – лукавят, от вина – винятся, а от сдобы – добреют. Как жалко, что об этом никто не знает... Все было бы так просто. Ели бы сдобу – и добрели!" Я обожаю Кэрролла. Мне кажется, что его удивительные истории об Алисе – не просто кладезь мудрых мыслей, это сокровищница вселенского смысла.
Вспоминаю, как после отказа прописывать петельки и крючочки в прописях под вопли "Не получается, потому что я левша несчастная!" узнала от бабушки, что Кэрролл тоже был левшой. Она рассказала, что отец насильно переучивал его писать и вообще все делать правой рукой, от этого маленький Чарльз Лютвидж Доджсон стал заикаться. И пусть всемирная паутина кишит, как тараканами, самой неприятной о нем информацией, я его самая преданная поклонница. В девяностые договорились даже до того, что именно Кэрролл и был тем самым Джеком Потрошителем. Мы с бабушкой в это свято не верили. Тем более, ее муж, отец моего отца, которого тот не помнил, мой дедушка, которого я никогда не видела, увлекался фотографией, как и Кэрролл, один из лучших фотографов Викторианской эпохи.
Испытываю ностальгию по старым добрым временам, когда яблочные пироги были вкуснее, моей доброй феей была бабушка Лиза, мы с Максимом были влюблены друг в друга, а впереди было только счастье. Острое чувство потери уничтожает добрые ностальгические переживания. Последние куски пирога глотаю вперемешку со слезами.
– Готовы? – с тревогой и участием спрашивает Михаил Аронович. – Или меняем планы?
– Нет, – отрицательно качаю головой. – Все по плану: бульон, пирог, некролог.
Глава 5. Настоящее. Воскресенье, день.
Напиток был очень приятен на вкус -
он чем-то напоминал вишневый пирог с кремом,
ананас, жареную индейку,
сливочную помадку и горячие гренки с маслом.
Льюис Кэрролл "Алиса в Стране Чудес"
Всё приятное в этом мире либо вредно,
либо аморально, либо ведет к ожирению.
Фаина Раневская
– Как дела, Варя? Готовы? – Михаил Аронович заглядывает в собственный кабинет, который я оккупировала и занимаю третьи сутки.
– Готова жить! – салютую заботливому старику, стоя перед столиком с тремя шахматными фигурками, завернувшись в плед, как в тунику, завязав его на плече узлом. Энергия наполняет меня какой-то вредной, но живительной силой.
– Какие мысли на этом этапе?
– Вот прямо сейчас перемещаюсь в свою квартиру и начинаю жить дальше. Жила же я до... Максима.
Правда, без него я жила всего двенадцать из двадцати девяти, меньше половины. Моим он стал не сразу, а только к семнадцати годам. Но все это вслух я не говорю.
– Умница моя! – мужчина расцветает, довольно и облегченно улыбаясь. – Не подвели отечественную и мировую психологию.
– Спасибо вам, дорогой мой Михаил Аронович! – подхожу к старику и порывисто обнимаю его. Он крепко прижимает меня к себе, потом по-отечески целует в лоб. – Я к себе. В родную квартиру. Там в каждом предмете бабушка живет. Она мне поможет.
– Один момент, Варвара Михайловна! – принимая деловой вид, останавливает меня старик. – А как же наша с вами игра во врача-психотерапевта и пациентку?
– Ролевые игры в вашем возрасте? – наигранно кокетничаю я, чувствуя, как начинает пощипывать в носу от трогательной заботы человека, которого я знаю с трех лет. – Да вы затейник!
– Так держать! – вскидывает руку в пионерском салюте. – Узнаю нашу кудрявую оптимистку. Вы в три года не плакали, даже когда падали. В восемь так обрадовались первой двойке по математике, что мы с Елизаветой Васильевной, грешным делом, решили что у вас ЗПР.
– ЗПР? – деланно недоумеваю я. – Заметно Прогрессирующий Разум?
– Вообще-то Задержка Психического Развития, – смущается старый врач. – Но я не об этом. Я о вашем удивительном характере, жизнерадостности, стойкости, честности и обостренном чувстве справедливости.
– Вот только вы так выгодно можете продать негодный товар! – искренне смеюсь. Никогда еще в таком свете не выставляли мою вредность, отсутствие терпения и маниакальную подозрительность, если это касалось Максима.
– Отлично! Вернемся к вашим сомнениям по поводу развития ваших же мироощущений. Помнится, вы настаивали на многосюжетности и многовариантности?
– Да, – вспоминаю я свои слова, которыми возражала старику, настаивающему на неких шаблонных вариантах развития событий. – Вы же помните у Льва Николаевича: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".
– В вас говорит не женщина, а филолог и журналист, – категорически не соглашается старый врач. – Я готов доказать вам, что все достаточно предсказуемо.
Михаил Аронович открывает верхний ящик письменного стола:
– У меня есть четыре конверта. Посмотрите, они старые. Я их использую уже много лет в похожих на вашу ситуациях. Видите, они пронумерованы. Заключим пари?
– Пари? – растерялась я. – А в чем суть?
– В этих конвертах в нескольких словах описывается ваше эмоциональное состояние, некий итог размышлений и душевных исканий. Вернее, несколько промежуточных итогов. Вы, не глядя на содержимое, заклеите конверты и положите их в мой сейф. Закроете сейф так, чтобы я не знал пароль. В определенные моменты времени будете приходить, вскрывать по очереди конверты и читать их содержимое.
– Зачем пароль? – логика его целей ускользает от меня. – В чем смысл пари?
– Уважьте дедушку, внученька, – улыбается Михаил Аронович. – Уж очень хочется блеснуть перед вами своим врачебным талантом. Схема срабатывала со всеми и всегда. Просто хочу проверить на вас. А пароль нужен для того, чтобы вы не подумали, что я, наблюдая за вами и имея свежую информацию о вашем состоянии, могу подменить конверты с записками.
– Просто проверить? Хорошо. Мне не сложно, если это доставит вам удовольствие.
– Дело не в удовольствии, а в профессиональной гордости и корысти, – улыбается сосед.
– Корысти? – вот уж удивил, так удивил.
– Полагаюсь только лишь на вашу честность. Прошу вас, прочитав записку в конверте, искренне сказать мне, совпадает ли написанное с вашими ощущениями на данный момент. И если совпадает, то вы должны будете выполнить одно мое несложное задание. Так сказать, для успокоения моей стариковской нервозности и освобождения от беспокойства по поводу вашей дальнейшей судьбы.
– Заметано! – шучу я. – Клясться на крови будем? Не хотелось бы, я ее боюсь.
– Кровожадничать не будем! – смеется старик. – Отнеситесь к этому как к психологическому фокусу.
Михаил Аронович на моих глазах в каждый конверт кладет по записке. Я заклеиваю конверты и кладу их в маленький-маленький сейф. Вполне себе современный, спрятанный за дверкой шикарного антикварного монстра. Подозрительно смотрю на отвернувшегося врача, загораживаю собой сейф и придумываю комбинацию из десяти цифр.
Настоящее. Воскресенье, вечер.
Бабушкина квартира встречает меня тишиной, родными запахами и знакомой совершенной чистотой. Идеальным "максимовским" порядком.
Мой муж – педант, перфекционист с большой буквы. В детстве меня поражала его фантастическая аккуратность, несвойственная большинству мальчишек. Я не неряха, но из набора вымыть, почистить или протереть выбираю полежать и почитать. Когда-то именно это противоречие казалось мне абсолютно непреодолимым. Я много и честно над собой работала: профессиональной аккуратисткой не стала, но со многими "пунктиками" мужа смирилась и, как могла, поддерживала заведенные им традиции.
А теперь все! Свобода попугаям! Можно не поправлять наклонившуюся в стакане зубную щетку, бросать ножницы в ящик стола, а не класть их строго справа от ножика-скальпеля для бумаг, но слева от степлера. Можно не сразу складывать посуду в машину, не немедленно, как разденусь, развешивать одежду в шкафу. Да теперь можно все!
Чувство протеста против ситуации и мужа питает меня нешуточной энергией. Иду в ванную, мою голову. Потом долго принимаю душ, не холодный, чтобы прийти в себя, а горячий, чтобы согреться. Потому что мне холодно и в этой теплой квартире, где я выросла, и под горячими струями воды. Мне холодно без него.
Пою "Марсельезу" по-французски. Когда-то, впервые услышав эту песню в моем исполнении, Максим откровенно расхохотался. Ему, человеку с абсолютным музыкальным слухом, удалось узнать мелодию только благодаря французскому тексту.
– Не обижайся, Варежка, но все песни в твоих вариациях удивительно похожи на "Во поле березка стояла". Никогда не пой эту перед французами, все-таки это их гимн, так и до международного скандала недалеко.
– Не буду! Перед французами не буду! – легко соглашалась я, продолжая петь, смеясь вместе с ним.
По привычке, задумавшись, рисую на запотевшем зеркале сердечко и замираю. Господи! И этого уже больше никогда не будет. В нашей квартире перед сном я всегда первая принимала ванну или душ, рисовала на зеркале сердечко и писала неизменное "М + В = Л". Максим шел в душ после меня и всегда нарочито сердито кричал из ванной комнаты:
– Представляешь! Какие-то хулиганы испортили наше зеркало! Поймаю, уши надеру!
– Надеюсь, что поймаешь! – радостно кричала я в ответ, выбирая, какую из его свежих рубашек мне надеть.
Раздраженно стираю сердце рукавом банного халата, быстро и энергично чищу зубы. Передо мной на стеклянной полке аккуратно расставлены пузырьки, стаканчики, баночки. На равном расстоянии друг от друга, этикетками вперед. Головки зубных щеток, как бравые солдаты на параде, подобострастно смотрят в одну сторону. Ставлю свою щетку на место. Качнувшись, она наклоняется в противоположную от соседок сторону. Пусть стоит так! Нарушение заведенного порядка кажется мне первым шагом к самостоятельной, свободной от мужа жизни.
Иду в детскую. Переодеваюсь в свою старую пижаму, фланелевую, желтую, с оранжевыми пчелками. Ложусь на свою старую кровать и закрываюсь не одеялом, а лоскутным покрывалом, которое бабушка очень любила. Его сшила ее мать, и баба Лиза сохранила его для меня. Начинаю вызывать в себе воспоминания о бабушке, чтобы не думать о Максиме.
Вот баба Лиза расчесывает мои волосы после ванной, нежно придерживая непослушные кудряшки. Мне уже лет четырнадцать. Мы учим стихотворение Цветаевой. И я повторяю за бабушкой два первых четверостишия, пока не звучит третье:
Одна у колдуньи забота:
Подвести его к пропасти прямо!
Темнеет... Сегодня суббота,
И будет печальная мама.
– Почему она ушла? Он ее выгнал? – спрашиваю я у сразу растерявшейся бабушки. Она продолжает расчесывать меня и молчит.
– Почему эта пришла? Кто ее просил приходить? Из-за нее она не вернется.
Бабушка ласково поднимает мою голову за подбородок, заставляя смотреть себе в глаза. Такие же карие, как у отца. У меня же они болотно-коричневые, что меня чрезвычайно огорчает.
– Она ушла сама. Так бывает. Он ее не выгонял, – бабушка говорит про маму и папу, поняв меня сразу, но не торопясь с ответом. – А Рита... Она нужна ему. Она помогла ему с тобой. И у всех нас, благодаря Рите, есть Машенька. Неужели ты хотела бы, чтобы и ее не было?
– Нет. Не хотела бы. Пусть Мышильда существует, – разрешаю я. – Но он мог уйти к Рите и к Мышильде. А она остаться со мной. Это же так просто и понятно. Она же мама...
Бабушка ничего не отвечает. Кладет расческу на чудесный туалетный столик, доставшийся ей от отца, и разрешает мне спать с ней, в ее спальне, на красивой и широкой кровати.
Чувствую, что сейчас опять заплачу, но уже из-за мамы. Поэтому начинаю считать синичек. Тьфу ты, опять Максим! Конечно, где синички, там и Максим. Долго ворочаюсь с бока на бок, пока не засыпаю просто от усталости.
Настоящее. Понедельник, утро.
Проснувшись около полудня, иду на кухню завтракать и только сейчас вспоминаю, что сделать этого не смогу. Холодильник пуст. Мы с Максимом не были в этой квартире больше двух недель.
В кофе-машине, конечно, есть кофейные зерна, но я никак не могу научиться ею управлять. Мои отношения с бытовыми приборами не складываются вообще. Фены и плойки ломаются при первом же использовании, в тостере всегда застревают и подгорают ломтики хлеба, пылесос нагло выплевывает пыль обратно.
Кофе-машина, которую еще бабушке купил в подарок Максим, по цене равнялась стоимости подержанного отечественного автомобиля и, загораясь десятками разноцветных кнопок, была похожа на инопланетный корабль или экран системы ПВО . Вдвоем с бабой Лизой мы были не совсем безнадежны: две кнопки, как включить и как выбрать наш любимый американо, мы выучили. Но этому фантастически красивому и бездушному монстру время от времени требовались то вода, то новые зерна, то очистка. Мы с бабушкой не понимали его подмигиваний красной лампочкой, и она в таких случаях варила кофе в турке, с тяжелой гущей и ароматной пенкой.
Даже не пытаясь включить кофе-машину, достаю из шкафа турку и пакет с молотым кофе. Так. Кофе есть, сахар тоже, несколько банок с разнообразными крупами. Кашу варить не хочется. Умею, но как у бабушки или у Галины Семеновны все равно не получится, да и молока нет. Правда, Максим приучил меня есть по утрам каши на воде. Значит точно, надо варить на молоке. Поход в магазин становится жизненной необходимостью и символом протеста.
В маленьком магазинчике в соседнем доме я покупаю свежий хлеб, молоко, пачку сливочного масла, банку шпрот и бутылку минеральной воды. В последний момент взгляд натыкается на прилавок с россыпями конфет в блестящих разноцветных фантиках. И память-предательница услужливо предлагает одну картинку из прошлого за другой.
Четырнадцать лет назад
Я сбежала от отца и Риты, пришедших в школу на разговор с учителем по ничтожному поводу: пятая двойка по физике.
Мы с Вовкой сидим на лавочке в парке возле школы. Мой друг самоотверженно ушел с уроков вместе со мной. Зима. Вторые сутки крупными хлопьями валит снег, и люди с ним не справляются: круглосуточно гудят под окнами снегоуборочные машины, одетые в яркие жилеты дворники без устали разгребают снежные завалы у подъездов, по дорожкам парка с метлой ходит усталая и хмурая женщина, она расчищает площадки возле скамеек и смахивает сугробы с деревянных сидений. Я сижу на холодной поверхности скамьи и, выставив ладонь, ловлю на нее снежные хлопья. Рука уже замерзла, и снег почти перестал таять. Вовка перехватывает мою руку и удерживает в своей.
– Не раскисай, Варька! Не будут же они тебя бить?
Они – это отец и Рита.
– Не будут, – кисло соглашаюсь я. – К бабушке запретят ездить. Дома у себя опять поселят.
– Тогда зачем весь этот спектакль с двойками по физике?
Встречаюсь взглядом с Вовкой. Он смотрит внимательно, насмешливо и ласково. Неужели все понимает, обо всем догадался? Не может быть! Мы дружим с ним с первого дня моего появления в новой школе, вот уже третий год, и практически не расстаемся. Он знает все мои секреты, кроме главного. Ему я рассказываю все, даже то, что не могу рассказать Сашке и Лерке. В рейтинге доверия он занимает вторую строчку, сразу после бабушки. О моей великой любви знает только она. Иногда мне кажется, что Вовка просто чувствует, что в присутствии его лучшего друга Максима Быстрова мое сердце меняет частоту ударов.
Я, конечно, гуманитарий, но не идиотка. Вместо двойки по физике вполне могу получить и три, даже четыре. Но тут такое дело... За полгода до окончания девятого класса учитель по физике стала прикреплять к слабым ученикам сильных, чтобы они в паре отрабатывали пробелы в знаниях последних. В случае удачной пересдачи подопечного наставнику ставили две пятерки в награду за эффективную опеку.
Лучшими в нашем классе по физике были Быстров и Сашка Тимофеева. Но Сашку уже назначили "буксиром", следующим в группе свободных наставников был Макс. И его подопечной должна стать я. И да. Вовка прав. Я получаю двойки специально, но никому и ни за что в этом не сознаюсь. Но учительница с невероятным упорством продолжает в меня верить и после очередной двойки просто говорит:
– Дымова, соберись. Ты можешь исправить положение.
Вот если "соберись" и "ты сможешь", то зачем родителей в школу?! Просто надо поручить Быстрову меня подтягивать. Что может быть проще?!
– Не куксись! – грея мою ладонь дыханием, бодро говорит Вовка. – Загляни-ка в мой карман.
– В который? – спрашиваю я. Вовка в куртке со множеством карманов.
– В любой! – он подмигивает мне и тянет мою левую руку к верхнему карману.
В нем оказывается большая шоколадная конфета в яркой красной обертке.
– А если бы я выбрала другой карман? – улыбаюсь я другу, чувствуя, как настроение заметно улучшается.
– Выбирай! – загадочно сияет Вовка.
Обыск обогащает меня сказочно: у меня в руках целая горсть шоколадных конфет, самых разных, ни одной одинаковой.
– Спасибо! – прижимаюсь к Вовке в порыве благодарности, дрожа от холода. Сегодня я в тонких колготках, было лень надеть утром что-то потеплее. Кто ж знал, что физичка так коварно поступит, и я, вместо того чтобы сидеть в теплом кабинете, буду мерзнуть в заснеженном парке? А казалась такой приятной, хоть и строгой женщиной.
Обожаю конфеты. Иногда это мой завтрак или ужин, а то и обед. Если, конечно, меня пытается кормить Рита. У бабы Лизы не покапризничаешь, все по полной программе: суп, второе и компот. И долгие чаепития с компании с соседом Михаилом Ароновичем.
– Пошли греться! – Вовка тянет меня к "Пельменной" в глубине парка. Мы часто сидим в ней после уроков всей компанией и болтаем. Иногда Игорь кормит всех нас вкусными пельменями. Он всегда при деньгах, может позволить себе кормить нас ежедневно. Но нам неловко быть нахлебниками, и мы часто отказываемся от угощения. Игорь смеется над нашим смущением и заявляет, что если захочет, то родители купят ему и саму "Пельменную". В его семье вообще все очень интересно устроено: родители развелись, у каждого теперь своя отдельная семья, но Игорь – единственный ребенок на толпу взрослых.
– У меня две матери, два отца, четыре бабушки, четыре деда и ни одного брата или сестры! – рассказывает нам Игорь в восьмом классе. – Не то, чтобы мне хотелось их иметь, но слишком много взрослых на меня одного. Да еще деньгами откупаются. Сколько попрошу – дают. Даже уже и просить неинтересно.
– Не проси, – наставляет Максим. – Они же реально откупаются. Им стыдно, что лишили тебя семьи.
Игорь досадливо морщится, но ничего не отвечает. Игорь – человек праздник, веселый, компанейский, но не откровенный. Чаще отшучивается. О своих проблемах почти ничего не рассказывает, впрочем, и в чужие не погружается.
В кафе тепло, даже жарко. Мы забираемся в дальний угол за двухместный маленький столик к угловой батарее. Вываливаю конфеты на стол. Вовка приносит горячий чай, и мы долго пьем его, поедая конфеты. Кожа ладоней, согретая чашкой, начинает топить шоколад. Мы смеемся, показывая друг другу испачканные руки.
И в это время в кафе приходит Максим. Он с порога безошибочно определяет направление и идет к нашему столу. Внимательный и какой-то странно грустный, даже усталый взгляд Быстрова медленно переходит с разбросанных по столу фантиков сначала на наши довольные лица, потом на шоколадные ладони.
– Глупо бегать от проблем, Дымова, – говорит он, глядя не на меня, а на Вовку.
– Мои проблемы – хочу и бегаю, – беззлобно огрызаюсь я. Внутренности ошпаривает волна кипятка – и это не чай, а радость от того, что он пришел. И я сразу придумываю себе, что из-за меня, ради меня.
– Сейчас принесу салфетки, – Вовка встает и проходит по залу, выискивая стол с вазочками для салфеток. Таковых не оказывается, и он идет к раздаче.
Максим садится на стул рядом со мной.
– Сейчас остальные подтянутся, – сообщает Макс и вдруг разворачивается ко мне всем корпусом вместе со стулом. Близость юноши оказывает на меня парализующее воздействие. Я глупо хихикаю и киваю ему в ответ.
– Зря ушла, – говорит Максим и смотрит на мои шоколадные пальцы.
Я снова киваю, заглядевшись на его строгие черты лица, тонкий нос, шевелящиеся губы. Он говорит что-то еще, а я смотрю на его рот и продолжаю кивать, не слыша слов.
– Чего киваешь? Меня к тебе прикрепили, слышишь? Заниматься надо. Прямо сегодня начнем, – разбираю я наконец.
Меня? К нему? Прикрепили?! Вау! А говорят еще, что я безмозглая кенгуру. Папа говорит, когда мы с Мышильдой начинаем носиться по квартире и я сшибаю очередные вазу, чашку, стул. Моя стратегия сработала! Теперь главное – не умнеть как можно дольше, чтобы растянуть время совместных занятий.
– Да я и сама могу, – неискренне сопротивляюсь я, прекрасно зная, что Быстров никогда не откажется от поручения, если уже согласился его выполнять. Человек с гиперответственностью. Спасибо ему за этот недостаток! Хочется кричать от радости и прыгать! Но нельзя этого показать. Вскакиваю со стула, уронив его на кафельный пол с громким стуком:
– Пойду Вовку с салфетками поищу или руки помою, – еле сдерживаясь, чтобы не расплыться в улыбке Чеширского Кота, бормочу я, не разжимая зубов.
– Иди, – говорит Максим и не двигается с места, чтобы пропустить меня, но другим путем мне из угла не выбраться.
Дальнейшее остается в памяти на всю жизнь и становится одним из моих любимых воспоминаний.
Максим не поднимается сам и не поднимает упавший стул, он берет мои запястья в кольцо своих рук и притягивает к своему лицу. Я стою, беспомощно глядя на него, а он (о боже!) наклоняется и смотрит на мои ладони, как тогда, три года назад, в день первой встречи. Медленно достает из кармана куртки носовой платок и, не поднимая к моему лицу головы, начинает вытирать мои пальцы.
– Я лучше вымою, – шепчу я, краснея и бледнея одновременно. Как говорится, то в жар, то в холод. Ноги дрожат – сейчас сяду на пол от переизбытка чувств и бешеной радости ожидания чего-то, что сейчас непременно случится. Я чувствую. Я знаю. Вот-вот...
Максим поднимает голову, фиксирует на мне взгляд серо-голубых глаз, удерживает мой ответный, не отпуская ни взгляда, ни рук, и кладет мой испачканный шоколадом мизинец левой руки на свои губы.
Мои глаза распахиваются настолько широко, что поднятыми бровями я чувствую кудряшки на лбу. Сейчас... Сейчас случится что-то необыкновенное, что навсегда изменит меня и его. Нас. И оно случается. Максим берет мой мизинец в рот и облизывает шоколад, не отпуская моего ошарашенного и сумасшедше счастливого взгляда.
Первое эротическое испытание в моей жизни заканчивается с приходом Вовки.
– Пойдем лучше руки вымоем, – говорит мне Вовка, с недоумением глядя на сидящего Максима, стоящую меня и лежащий стул.
– Пойдем! – почти кричу я, прижимая к короткому зимнему пальтишку вырванные у Максима руки.
– Пальто! – одновременно восклицают Максим и Вовка. Поздно! На голубом кашемире остаются шоколадные следы.
– Ерунда, – говорю я, когда Максим наконец встает и пропускает меня. Несусь в туалет. Да это пальто теперь мой очередной экспонат в музее имени ЕГО. Ни чистить, ни носить не буду!
Это шоколадное воспоминание заставляет меня расплываться в довольной "чеширской" улыбке уже много лет при одном взгляде на конфеты.
Настоящее
Выхожу из магазина. День яркий и солнечный, вполне подходящий для начала новой, свободной от Максима жизни. Природа не плачет проливным дождем, не моросит мелким дождичком, пытаясь совпасть с внутренним разочарованием героини, то есть меня, как это происходит в Милиным романах. Внутри звенящая пустота и злость, натянутая, как струна, а на улице нежно-теплый август, над головой насыщенно-голубое небо, цвета глаз мужа-изменника, на деревьях ни одного желтого листика – до осени еще далеко.
Медленно иду по двору, ни о чем не думая. Просто иду.
Шаг, второй, пятьдесят четвертый... Одна улыбка для Ольги Викторовны, нашей любопытной и всезнающей консьержки, вторая для Танечки, молодой мамы близнецов с первого этажа, спускающейся по широкой лестнице за руку с совершенно одинаковыми рыжими девчонками двух лет, третья... Да. Третью я адресую Михаилу Ароновичу. Надо позвонить ему в дверь по старой привычке, поздороваться и сказать, что у меня все хорошо... почти... спросить, как дела у него, восемьдесят лет все-таки. А я три дня у него на шее сидела, то есть на его диване лежала.
На нашей площадке только две квартиры. Бабушкина и Михаила Ароновича. На темно-зеленом коврике перед его дверью стоит картонная коробка. Странно! Наклоняюсь, чтобы рассмотреть поближе. В коробке кто-то шевелится. Раздается слабое мяуканье. Раскрываю коробку – действительно, котенок. Лежит на дне и пытается встать. Уже зрячий, абсолютно черный, наполовину выпутавшийся из женской серой шали, в которую, видимо, был завернут. Глаза серо-голубые, круглые. Третья улыбка не по плану достается пушистому трогательному комочку.
Звоню старику. Он долго не открывает. Терпеливо жду под дверью. Наконец она распахивается, и на пороге в женском розовом фартуке появляется приемный сын Михаила Ароновича – Георгий Михайлович, дядя Георгоша, как я его называла с детства, почему-то соединив маленькое имя Гоша и большое Георгий.
– Варюша! – подняв вверх руки, испачканные мукой, восклицает Георгоша, не скрывая искренней радости от нашей встречи. Ему около шестидесяти, он маленького роста, до плеча мне и до груди приемному отцу. Георгоша – военный врач, хирург-травматолог.
– Вареники стряпаю! – жизнерадостно говорит он мне. – Давай, проходи, отец на консультацию уехал, через пару часов будет.
– Спасибо, я уже придумала себе завтрак, – отдаю Георгоше дополнительную улыбку. Я молодец! Сама с собой договаривалась на три улыбки. Хватает сил на четвертую. – Это не ваш котенок?
– Котенок? – удивляется мужчина. – Нет, конечно, не мой. Ты что, какой котенок в такой квартире?
– Да, – соглашаюсь я. – Михаил Аронович с такой мебелью и таким полом на присутствие котенка не пойдет...
– Подбросили что ли? – сочувственно спрашивает Георгоша.
– Видимо, – растерянно отвечаю я, поднимая коробку и мучаясь от мыслей о том, что теперь с этим делать. По факту подбросили не мне, а им, коробка под их дверью стояла. Но нашла я, и теперь это моя ответственность.








