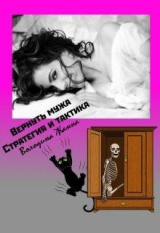
Текст книги "Вернуть мужа. Стратегия и Тактика (СИ)"
Автор книги: Жанна Володина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
Глава 35. Настоящее. Четверг. Мама
Ничто так не мешает спать по ночам, как неразгаданная тайна.
Стефани Майер "Сумерки"
Тогда лишь двое тайну соблюдают,
Когда один из них её не знает.
Уильям Шекспир "Ромео и Джульетта"
Как заснуть, когда руки и ноги не могут согреться ни под теплым одеялом, ни под шотландским пледом, ни при помощи бабушкиной грелки? В эту теплую августовскую ночь я мерзну, меня тошнит, у меня болит голова. Я жду утро, но оно никак не наступает.
– Варя! – Сашка нежно гладит меня по голове и дует в лицо. – Просыпайся! Ты кричишь! Тебе снится кошмар?
Испуганно сажусь на постели. Ночь или утро?
– Шесть утра, – сообщает Сашка. – Тебе надо еще поспать.
Нет. Не хочу обратно в этот сон. Мне снился папа, пугающий меня ответственностью за раскрытие какой-то тайны, которую он хранил много лет, а я предательски раскрыла. Рита, его успокаивающая и отпаивающая теплым молоком. Баба Лиза, укоризненно качающая головой. Максим, мрачный, холодный, злой, мешающий серебряной ложкой сахар в чашке с ежевичным чаем. Вовка, смеющийся и подбивающий меня подсыпать Максиму в чай соль. Лерка, подстригающая свои роскошные волосы перед зеркалом, неровно, небрежно, дергано. Сашка, насыпающая в миску землю и поджигающая пять красных свечек, пламя которых отражается на стенках огромного бокала с красным вином. Михаил Аронович, играющий в "кошачьи" шахматы с самим собой. И даже Ермак, пытающийся сломать мою входную дверь. У него долго не получается, и по квартире раздается только гулкий железный стук, словно кто-то бьет поварешкой по кастрюле. Потом к Ермаку присоединяется Сергей-Филипп, который ломом отжимает дверной замок и врывается в квартиру.
Нет. Спать я больше не буду. Принимаю душ. Пью кофе. И начинаю думать, когда же можно будет позвонить маме. Семь часов. Восемь. Девять. Встают девчонки. Мы неприкаянными тенями бродим по квартире. Ощущаем коллективную тревогу. Агент Ольга Викторовна докладывает, что огромный мужчина на огромной машине в ней же и спал и только что уехал. Сашка с Леркой быстро собираются и тоже уезжают. Прощаемся до завтра (если что!).
Сегодня у меня мама и Максим.
Девять тридцать. Набираю номер, который написал на старой открытке папа. Сильно тянет низ живота. Руки такие холодные, и пальцы кажутся синюшными.
– Да. Слушаю! – в трубке бодрый приятный мужской голос.
– Здра-здравствуйте! – сиплю я.
– Здравствуйте! – голос мужчины не теряет бодрости. – Слушаю вас.
– Я могу услышать Валентину Георгиевну? – спрашиваю я и не знаю, хочу ли услышать положительный ответ. Может, бросить трубку?
"Я могу услышать" – такие простые, шаблонные для телефонного этикета слова. И мне так удивительно их говорить. Они для меня полны особого смысла.
– Минутку подождите, пожалуйста, девушка, – слышно, как "бодрячок" кладет трубку и наступает тишина, в которую время от времени пробиваются звуки льющейся воды.
– Алло. Слушаю вас, – в трубке приятный бодрый женский голос.
У меня было два сценария начала разговора. Первый (реалистический) – Меня зовут Варвара Михайловна Дымова. Я бы хотела поговорить с Валентиной Георгиевной Дымовой. Второй (фантастический) – Здравствуй, мама! Но я неожиданно для самой себя выбираю третий (сюрреалистический) – Здравствуйте, я ваша дочь.
В трубке охают и слышно, как мужчина с беспокойством спрашивает:
– Валя! Что случилось? Кто это звонит?
– Варя? – женщина шепчет, словно только что сорвала голос. – Это Варя?
– Да. Это Варя, – дрожу от холода, сидя на диване, поджимаю под себя ноги. Яркое утреннее солнце заливает бабушкину гостиную.
– Он разрешил. Михаил разрешил тебе, – бормочет мама.
– Мы могли бы с вами встретиться? – спрашиваю я, борясь со слезами и проигрывая вчистую.
– Павел! – кричит мама. – Павел! Варя хочет со мной встретиться!
Шум в трубке. Непонятные звуки. Из носа начинает капать, чувствую, как он распухает. Со мной перестали разговаривать, и я не знаю, как позвать маму, каким словом окликнуть. Валентина или уже мама?
– Варенька! – приятный мужской голос теряет бодрость. – Можно вам перезвонить по этому номеру через несколько минут? Валюше плохо!
– Да, конечно, – поспешно говорю я, и меня накрывают короткие гудки.
Пять минут. Десять. Полчаса. В квартире тишина. И когда я теряю надежду и мучаюсь, набирать еще раз заветный номер или нет, раздается звонок.
– Варвара, это Павел Дмитриевич. Супруг вашей мамы. Для нас такое счастье, что вы позвонили! Сейчас Валюше немного нехорошо. Она прилегла. Вы могли бы к нам приехать? Я объясню вам, как доехать. Вы сможете сейчас приехать? Хорошо бы, чтобы сейчас, пожалуйста.
– Да, – отвечаю я. – Да. Я смогу. Сейчас. Говорите адрес, я приеду.
– Максим знает адрес. Он привезет вас? – говорит Павел Дмитриевич мне и кричит в сторону. – Она приедет, Валюша. Она уже едет!
Трубка начинает ходить ходуном в моих руках. Максим? Максим знает? Мой Максим?
Глава 36. Настоящее. Четверг. Мама (продолжение).
В жизни каждого человека бывают минуты,
когда для него как будто бы рушится мир.
Это называется отчаянием.
Душа в этот час полна падающих звезд.
Виктор Гюго «Человек, который смеется»
В отношениях есть два греха:
рвать живые отношения и
удерживать мертвые.
Мудрость из Интернета
Вы когда-нибудь испытывали ощущение пугающего полета? Может, когда опускались на скоростном лифте или качались на качелях с большой амплитудой? И страшно, и захватывающе одновременно. Согласны?
Через полчаса я увижу маму, которую не видела с пяти лет. Я так этого хотела и так давно перестала ее ждать, что сейчас мучилась от переизбытка противоречивых эмоций. Я ее увижу. Она все объяснит. Или попытается объяснить. И я должна буду как-то это принять. Или не принять.
Мама живет в старом районе города. Когда-то это был двухэтажный дом с двенадцатью коммунальными комнатами. Теперь это капитально отремонтированный частный дом с четырьмя квартирами и ухоженным палисадником.
Долго не выхожу из такси. Не могу себя заставить. Таксист участливо спрашивает, обернувшись ко мне:
– Адрес правильный, девушка? Или мы не туда приехали?
– Правильный, – вздохнув, отвечаю я и выхожу из машины.
Павел Дмитриевич оказывается интересным мужчиной лет шестидесяти-шестидесяти пяти. Красиво седеющий брюнет с элегантной бородой и усами. Он широко распахивает дверь, словно все это время стоял и ждал за ней моего появления.
– Добрый день, Варя! Я могу вас так называть? – радушно спрашивает он, моргнув подозрительно влажными глазами.
– Здравствуйте! – выдавливаю из себя и переступаю порог.
В дверном проеме между прихожей и комнатой стоит женщина. Я смотрю на нее и сглатываю слюну, которая начинает быстро скапливаться во рту, словно я голодна, и мне показали что-то вкусное. У меня в сумочке с собой та старая фотография, которую я нашла год назад в день смерти бабы Лизы. Лето. Берег реки. Стройная блондинка в полосатом сарафане, босая, держит в руках босоножки. Подол платья мокрый. Она его выжимает, смеется и влюбленными глазами смотрит на моего отца, тоже босого и протягивающего к ней руки. Изображение чуть смазанное, словно кто-то делал снимок набегу. Мама.
Я совсем не знаю, что мне делать. Обнять ее? Вряд ли. Мама протягивает мне руку, но не для рукопожатия. Она просто ее протягивает в мою сторону и, не дождавшись ответного жеста, безвольно опускает.
Кроме тоскливых мыслей о детстве без мамы, о том, почему ее не было в моей жизни так долго, я всегда ловила себя на желании узнать, похожи ли мы. И вот сейчас я вижу свои болотно-зеленые глаза на чужом лице, не похожем на мое. И еще светлые кудри до плеч, словно я перекрасилась в блондинку. И все.
– Варя, – тихо говорит женщина (Варя, это мама! – напоминаю себе), заметно расстроившись от того, что я не протянула руки, и сглатывает так же, как я. – Спасибо, что приехала. Проходи.
В большой комнате уютно и необычно светло. Мышильда назвала бы этот стиль скандинавским. Выбор цветов для интерьера напоминает северный пейзаж: утро бледное, туманное, песок белый и холодный, небо хмурое, свинцово-серое. Но такая палитра не угнетает и не печалит. Мятный, горчичный, бежевый, пшеничный цвета с легкими вкраплениями глубокого синего.
– Как у вас красиво! – против воли вырывается у меня, когда я смотрю на серебристо-серую стену с огромной черно-белой фотографией в синей рамке. Это годовалая малышка в белом платьице, босиком стоящая на песке и поднявшая вверх, на фотографа, довольную мордашку, испачканную шоколадом, растаявшую плитку которого она держит в протянутых руках. Я никогда не видела эту фотографию. И это я.
Снова сглатываю, нервно оглядываясь на хозяев. Они стоят рядом. Павел Дмитриевич обнял маму за плечи, нежно поддерживая.
– Давайте-ка я угощу вас моим фирменным чаем! – узнаю бодрый приятный голос, который слышала во время телефонного разговора. – Уверен, он вам понравится.
Пока мамин муж накрывает чайный столик, мы сидим на креслах, затянутых белыми холщовыми чехлами, напротив друг друга, и молчим. Мама смотрит на меня, зябко кутаясь в синий плед крупной вязки. Кажется, ее тоже знобит от волнения.
– Индийский чай! – торжественно объявляет Павел Дмитриевич, расставляя чашки. – С молоком, кардамоном, черным перцем и имбирем. Не побоитесь попробовать? Пока вас... тебя ждали, сварил, соблюдая исходный рецепт.
Мои рецепторы тут же запускают программу удовольствия, предвкушая горячее и острое блаженство. Первый ж глоток вышибает из груди стон удовольствия: действительно, крепко, острее острого и сладко.
– Я знал! – восхищенно говорит Павел Дмитриевич, напоминая мне средневекового алхимика, наконец получившего из свинца вожделенное золото. – Я говорил, правда, Валя, говорил, что Варенька любит острое, как и ты. И в этом вы похожи!
Мама поднимает глаза на мужа и слегка хмурится, словно испытывает неловкость за его слова. Мужчина смущается и торопливо говорит:
– Я оставлю вас. Вам надо поговорить, спросить друг друга о многом. Не буду мешать.
Когда мы остаемся одни, я задаю самый главный вопрос. И это уже не претензия, что она когда-то ушла, не крик души, почему ушла, и не обвинение, почему вернулась. Это самый важный для меня вопрос на этот момент моей жизни, потому что на все остальные у меня есть хотя бы варианты ответов. А на этот нет ни одного. Совсем.
– Максим? – говорю я, обжигая горло острой молочной субстанцией.
Мама наклоняет голову и внимательно смотрит на меня. В этом ее движении что-то вызывает беспокойство и кажется смутно знакомым.
– Он не рассказал тебе? – не удивляется мама и сама отвечает на свой вопрос. – Естественно, нет.
– Откуда вы... ты знаешь моего мужа? – спрашиваю я, согревая ладони об горячую чашку. Насмешливые солнечные лучи теплого, почти жаркого августовского дня рассеиваются, дробятся на солнечных зайчиков колышущейся на легком сквозняке бежевой занавеской, издевательски подлетающей время от времени. А мы обе мерзнем в этом райском красивом уголке домашнего уюта. Я спасаюсь чаем, а она пледом.
– Он нашел меня. Год назад, когда умерла... Елизавета Васильевна. Нашел и потребовал вернуться в твою жизнь. Чтобы, как он мне заявил, хотя бы объясниться.
– Зачем? – поражаюсь я. – И почему не раньше?
– Год назад наше с Пашей возвращение в Россию совпало с тем, что он... Максим узнал то, что мы с Михаилом скрывали больше двадцати лет.
– Что? – выдавливаю я, ничего не понимая. – Что вы скрывали? Зачем скрывали? И почему не сделали этого раньше? Ведь хотели?
Я достаю из сумочки старую новогоднюю открытку.
– Сначала я хочу знать, что здесь зачеркнуто.
Мама берет открытку и с удивлением ее рассматривает.
– Елизавета Васильевна сохранила? – горько усмехается она. – Больше некому. Миша бы не стал. Он бы просто выбросил.
– Не знаю, – честно говорю я. – Нашла у бабы Лизы. Так что там зачеркнуто?
– Папа просил тебя не ездить ко мне и не разговаривать со мной? – ласково спрашивает мама.
– Нет, – я снова честна. – Этого он не просил. Он со мной о тебе и о вас с ним вообще никогда не разговаривал. И я хочу знать почему.
– Почему не разговаривал? – мама приглаживает выбившийся локон и заправляет его за ухо. Догадка ошпаривает меня кипятком. Этого просто не может быть! Я неловко ставлю чашку с недопитым индийским чаем на стол, и она опрокидывается, оставляя маленькую белую лужицу на темно-синей поверхности.
– Простите! – бормочу я, начав молиться. Все мои молитвы поэтические. Настоящих наизусть я не знаю. Никогда не учила. А Вяземского учила.
Научи меня молиться,
Добрый ангел, научи!
Уст твоих благоуханьем
Чувства черствые смягчи!
– Ничего страшного, Паша! – негромко зовет мама.
Павел Дмитриевич появляется в комнате, начинает хлопотать возле чайного столика. Предлагает мне еще одну чашечку чая.
– Нет-нет, спасибо, достаточно, – искренне благодарю я его, и он опять уходит.
– Я, конечно, могу объяснить Мишины мотивы и причины многих его поступков. Но, думаю, ты и сама это сделаешь, когда все узнаешь.
– Вы готовы со мной поговорить? – спрашиваю я, снова переходя на "вы", давая ей возможность отступить, отказаться разговаривать дальше. Потому что я испугалась. Потому что разворошила то, что, папа прав, надо было скрывать дальше. Просто не знать и жить дальше. Не все тайны надо вытаскивать на свет и людской суд. Но теперь надо знать. Как и почему. Иначе все равно не будет покоя. Прости, баба Лиза, как ты была права, когда предупреждала меня об ответственности за открытие и хранение подобных тайн.
Мама странно на меня посмотрела, словно решала сейчас, в эту минуту, рассказывать или нет. Но что-то в моем взгляде убедило ее. Она побледнела и начала говорить, сначала негромко и неспешно, словно рассказывала сказку на ночь любимой дочери:
– Мы с Пашей в России чуть больше года. Сначала десять лет в Швеции. Потом около восьми в Норвегии. Павел Дмитриевич – профессор, специалист по скандинавской мифологии. Преподает в нескольких европейских университетах.
Я ее не перебиваю. По большому счету несколько минут назад стало понятно, что я могу не унести на сердце такой тяжелый камень. Сейчас почти не важно, каковы будут детали истории. Но они мне тоже нужны. Я буду за них цепляться. Потому что и ее, мою маму, мне хочется оправдать.
Мама кутается в плед и продолжает:
– Я очень виновата перед тобой, Мишей, Елизаветой Васильевной. Эта вина съедала меня, нет, разъедала, когда я только решилась на то, чтобы уйти. Но то, что произошло потом, было в сотни раз тяжелее. Я не прошу меня понять. Я прошу просто выслушать. Я знаю, что наша встреча – только начало больших потрясений. Я их заслужила. Вы – нет.
Мама морщит нос, стараясь не заплакать, и эта гримаса действует на меня хуже удушья. Теперь мне становится жарко.
– Мы долго расставились с Мишей. Он человек большого сердца, как и его мать. Но он не мой человек. Я почувствовала это тогда, когда встретила Павла. Тебе было годика четыре. Миша отправил нас с тобой в Прагу на Рождественские каникулы, пообещав прилететь следом, и не прилетел. Тогда очередной раз что-то случилось на одном из российских объектов в Азии, – мама стала задумчиво размешивать в своей чашке остывший чай. – Да. Я выходила замуж за военного строителя по сумасшедшей любви. И я не могу объяснить, куда она пропала, когда я встретила Павла. Он прилетел читать лекции, вечером пошел в ресторан нашей гостиницы на ужин. Мы с тобой ехали в лифте, и он тоже зашел в лифт.
Мама сцепила руки в замок, словно приготовилась защищаться:
– Он зашел в мою жизнь, Варя. И я ничего не могла с собой поделать. Вообще ничего. Я долго сопротивлялась не Пашиному напору, а своим чувствам. Миша все понял, сразу, когда приехал в аэропорт встречать нас. И сказал, что тебя я не получу никогда.
Мама делает большой глоток холодного чая и продолжает быстро, торопливо, словно на рассказ ей выделено определенное количество времени:
– Год! Я мучила всех целый год. Мишу, себя, Елизавету Васильевну, наверное, и тебя, маленькую, хотя тогда мне казалось, что ты ничего не понимаешь. Ведь мы все пока были рядом. Потом я ушла. Оставила всех вас и ушла. К Павлу. Он на тот момент тоже оставил жену и сына, жил отдельно и ждал. Ждал меня.
Мама смотрит на меня, не опуская мокрых, печальных, таких "моих" глаз:
– Павел ждал нас обеих. И Миша почти сдался, почти согласился оставить тебя со мной и Павлом. Но... Не согласилась Елизавета Васильевна.
– Баба Лиза? – шмыгнув носом, спросила я. – Почему?
– Павлу надо было в течение трех-четырех лет почти каждый месяц переезжать с места на место, причем из страны в страну. Бабушка справедливо рассудила, что для пятилетней девочки это тяжело и не полезно. И мы с Мишей согласились.
Мама встала, сбросила плед на диванчик у окна и встала ко мне спиной, продолжая говорить и смотреть в окно на цветущий дворик, добивая меня поднятыми в горе и печали узкими плечами:
– А потом случилось это сумасшествие. Миша уже жил с Ритой. Тебе исполнилось шесть лет. Миша присылал мне твои рисунки. Иногда отвечал на открытки. Не на каждую, но отвечал. Мы с Пашей на полгода вернулись сюда.
Мама говорила все тише и тише, перейдя почти на шепот:
– Сначала мы встретились с Мишей пару раз в кафе. Потом выяснилось, что он скрывает эти встречи и от матери, и от Риты. С Пашей начался сложный период. Мы ссорились, даже хотели расстаться. Он ревновал меня, я его. А у Миши была ты, и меня тянуло к нему, как магнитом. Это были странные и нелепые полгода.
Мама закашлялась и обернулась ко мне. Уже не бледная, а с лихорадочно красными щеками:
– Мы улетели в Осло. Там я с ужасом обнаружила... Хотела вернуться к Мише. К тебе. Это было несколько часов счастья: я имею в виду ту пару часов, когда я мысленно покупала билет на самолет и летела обратно. Я сочинила нелепую историю для Паши. Он бросил все дела, разорвал договоренности, и мы вернулись.
Я напряглась. Потому что не хотела слушать дальше. Не хотела ничего знать. Я и так все знала. С того, первого наклона маминой головы.
– Я знала, что когда-нибудь придет время, и я буду тебе и ей это рассказывать. Но я так и не смогла за двадцать два года подобрать такие слова, чтобы вы меня простили.
– Не надо ей! – в панике шепчу я. – Прошу тебя, не надо!
– Что ты! – мама бросается ко мне, но не решается обнять. – Конечно, я не скажу. И дело даже не в том, что я пообещала Мише и поклялась Рите. Дело в ней. Она такого не заслуживает. Я несколько раз срывалась, писала, звонила. Но Миша был тверд и сказал, что все и навсегда останется так, как мы... я решила тогда.
– Почему? – спросила я, все-таки заплакав.
– Через столько лет я могу объяснить, но не могу оправдаться, – мама тоже заплакала, как-то тоненько всхлипнув. – Ты можешь представить себе невероятное?
– Невероятное? – переспрашиваю я.
– То, что Максим тебя разлюбил? Что ты не единственная женщина в его жизни?
От неожиданности я перестаю плакать и смотрю на нее потрясенно. Она по-своему понимает мой взгляд:
– Вот и я не могу объяснить тебе, как я любила Павла. Это наваждение, болезнь, главное чувство в жизни. Сама жизнь.
– Папа оставил себе нас обеих? – спрашиваю я обреченно.
– Нет, – отвечает мама, вытирая салфеткой заплаканные глаза. – Это я оставила ему вас обеих. Тебя ему и бабе Лизе. А ее ему и Рите. И тогда казалось, что я смогу с этим жить. Я ошибалась. Там, в открытке зачеркнуто...
– Не надо! – перебиваю я. – Я знаю, там зачеркнуто... за Машу.
«Миша! С Новым годом тебя! Передай (знаю, не передашь) привет и пожелания здоровья Елизавете Васильевне и Варе. Я готова к разговору, к встрече в любое время и на любых условиях, которые ты предложишь. Поблагодари Риту за Машу. Валентина.»
Глава 37. Настоящее. Четверг. Рита.
Кто видел под микроскопом очаровательнейшее
создание божие, символ красоты земной – бабочку,
тот никогда не забудет ее кошмарно-зловещей хари.
Надежда Тэффи
Секрет только тогда бывает секретом,
когда ты мучишься, храня его.
Грегори Дэвид Робертс "Шантарам"
Смотрю на свою фотографию на стене, и завидую той маленькой Вареньке, которая так счастлива, хотя и испачкалась шоколадом. Зато попробовала.
– У меня нет такой фотографии, – говорю я маме. – Я ее даже никогда не видела.
– Да, она показалась мне самой подходящей для этого интерьера, – отвечает мама, сев в свое кресло.
Подходящей для этого интерьера. Лучше не скажешь.
Долгие годы я представляла себе нашу с мамой встречу. Ту, первую, когда я ее найду. Один раз Максим (это было за пару лет до нашей свадьбы, мы уже закончили школу и были студентами) спросил меня:
– У тебя есть самое заветное желание?
– Уже нет! – засмеялась я. – Со вчерашнего дня нет.
Вчера наши отцы окончательно согласились, что не позднее, чем через два года они разрешат нам пожениться.
– И ни одного маленького желания не осталось? – улыбнулся Максим, прижимая меня к себе и целуя в кончик носа.
– Осталось, – прошептала я его шее. – Одно, но очень большое. Гигантское.
– Поделишься? – спросил он мою макушку. – А я обещаю, что выполню его.
– А если не сможешь? – лукаво улыбаюсь, притягивая его голову для поцелуя.
– Смогу, – говорят его губы моим губам.
– Я хотела бы найти свою маму, – сообщаю я им.
– А Максим? Вы давно с ним общаетесь? – спрашиваю я маму, нервно теребящую белую салфетку.
– Общаемся? – удивляется входящий Павел Дмитриевич. – Мы виделись три раза. Первый раз он появился в августе прошлого года.
– Да, – подтвердила мама и слегка смутилась. – Наш домашний телефон был в бумагах Елизаветы Васильевны, которые Максим разбирал после ее смерти. Когда мы вернулись в Россию – обменялись с ней парой звонков.
– Максим тогда потребовал от Вали связаться с вами и, наконец, все рассказать, – Павел Дмитриевич осторожно берет маму за руку.
– Но Миша... Он сказал, что Маша не поймет никого из нас, – голос мамы дрожит. – Что Рита помнит мою клятву и очень на нее надеется. И что Варя... что ты уже переболела, и не надо тебя беспокоить.
– Понятно, – горько усмехаюсь я. – А второй?
– Второй раз через полгода, перед теми новогодними праздниками, – доложил Павел Дмитриевич. – Максим сказал, что Новый год – прекрасный повод...
– Очистить душу, – закончила за своего мужа мама.
– А третий раз неделю назад, – Павел Дмитриевич внимательно посмотрел на меня, словно пытался разгадать, о чем я думаю.
– Зачем? – сглатываю я.
– Сказал, что если я решилась поговорить с тобой, то теперь никак нельзя, надо подождать, – мама с беспокойством смотрит на мое, видимо, побледневшее лицо. – Все в порядке, Варя?
Конечно. В полном.
Моя мама оставила меня папе, потому что полюбила другого мужчину. Полюбила так сильно, что смогла отдать и свою младшую дочь.
Моя сестра Мышильда теперь по-настоящему моя сестра, по двум родителям, как будто все эти двадцать два года она была сестрой понарошку.
Мой муж скрывал от меня отношения с другой женщиной. И хотя я разрешила себе начать сомневаться в его измене, рядом со мной его нет. Потому что я его прогнала. Потому что я не дала ему не только оправдаться, но и вообще открыть рот. А он все-таки нашел мою маму, как и обещал.
Я поссорилась с папой, который сейчас скорее всего со страхом ждет, что я его разоблачу, и тогда Машка потеряет маму. Не ту маму, которая сейчас сидит передо мной. Нельзя потерять то, чего ты никогда не имел. А маму Риту, которая растила Мышильду на моих глазах как собственную дочь, любимую и единственную.
"Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пылало все поместье! А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!" – пел Утесов на бабушкиной пластинке, которую мы с Вовкой нещадно гоняли десятки раз подряд на старом проигрывателе "Юность 301".
Как мама наклоняла голову, как она заправляла за ухо выбившийся из прически локон, как остро и трогательно торчали ее худые плечики, когда она стояла, отвернувшись к окну, – мне не надо результатов теста ДНК или ее подробного рассказа. Я и так понимаю, что она и Машкина мама тоже.
Я с тоскливым ужасом понимаю, что мне больше нечего сказать маме. Вообще. Ответы на все свои вопросы я уже получила.
– Спасибо, – поспешно говорю я, вставая с кресла. – Мне пора.
Мама и Павел Дмитриевич молча идут за мной в прихожую. Неловкое молчание давит угнетающе.
– Варя! – окликает меня мама. – Прости.
И так странно слышать это ее "прости" именно в эту минуту прощания.
– Конечно, – неловко пожимаю плечами и, видимо, краснею. – Меня смущают и это слово, и Павел Дмитриевич, стоящий рядом с мамой, и внезапная потеря словарного запаса. Только какое-то давящее "конечно".
– Вы приходите к нам, пожалуйста, – просит Павел Дмитриевич, пожимая мне руку.
– Конечно, – бодро говорю я и улыбаюсь ему вежливо, точно зная, что больше сюда никогда не приду.
– Да, Варя, пожалуйста, – тихо вторит ему мама и добавляет. – Ты расскажешь Маше?
– Нет, – шепчу я. – Я не расскажу Маше. У нее уже есть мама.
Мама резко бледнеет и берет мужа за локоть, тот успокаивающе хлопает ее по руке.
– Наверное, это правильно, – соглашается мама, через несколько секунд придя в себя. – Пусть все остается так, как есть. Но я рада, что мы встретились с тобой, Варя.
– Я тоже рада, Валентина Георгиевна, – твердо говорю я, глядя ей прямо в мои собственные глаза.
Сашка везет меня на родительскую дачу к отцу. Я не стала брать такси, чтобы можно было хоть немного расслабиться рядом с близким мне человеком. Едем молча. Попросила подругу ни о чем не спрашивать, она кивнула. Сижу сзади, откинувшись назад и закрыв глаза.
"Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться". Как же прав был Булгаков! Мое заветное желание, которым я жила большую часть своей жизни, исполнилось. Столько лет я была наполнена им до предела. Оно выплескивалось наружу время от времени, расстраивая бабушку и раздражая отца. Теперь его исполнение принесло страшное опустошение. Я кажусь себе абсолютно пустой, состоящей из тонкой оболочки, похожей на тишью, податливую бумагу, хрупкую и нежную. А еще я знаю, как крепка и надежна такая папиросная бумага: ею заполняют пустое пространство в кожаных изделиях, в нее заворачивают обувь и подарки, она не промокает. Я не буду плакать. Потому что теперь мне не нужно ждать маму. И это, как ни странно, облегчение.
Смотрю на часы – три. До встречи с Максимом есть пять часов. Тоскливый ужас от встречи с ма... Валентиной Георгиевной сменяется тоскливой благодарностью. Он выполнил свое обещание, навсегда избавив меня от ожидания и вопросов. Я получила свои ответы, и они по капле выдавили из меня желание узнавать больше.
– Жду в машине? – спрашивает меня догадливая Сашка.
– Нет. Проходи в дом, я могу задержаться, – говорю я, испытывая противоречивое желание ворваться в дом и потрясти отца или спрятаться в бывшей детской комнате и не высовываться оттуда.
Папа с Ритой возятся в цветнике. Рита, оживленная и счастливая, что-то говорит отцу, жестикулируя и смеясь. Окликаю их, они одновременно оборачиваются, и Рита радостно машет мне рукой в перчатке и с совочком. Отец меняется в лице, побледнев и слегка пошатнувшись.
– Варя! – Рита подходит к нам с Сашкой. – Ты почему не позвонила, что снова едешь?
– То не дозовешься... – начинает ворчать отец, морщась, словно от зубной боли.
– То не выгонишь! – весело подхватываю я. – Извините, что не предупредила.
– Что ты! – обижается Рита. – Я имела в виду, что могла бы, если бы ты позвонила, что-нибудь вкусненькое испечь. А сейчас только пирожки с луком и яйцом из самого свеженького. Да! Еще борщ с мозговой косточкой! Как ты любишь, Варя.
– С мозговой, это здорово, – иронизирует Сашка. – Нам с Варькой не помешает добавочная порция мозгов. А то последние недели собственные слегка отказывают.
– Сашенька, ты хочешь борщ? – радуется Рита.
– Сашенька очень хочет борщ, – подталкиваю я подругу к дому. – Рита, накорми, пожалуйста, ее. И пирожок не забудь.
– Два! – просит Сашка, подмигнув мне. Сразу поняла, что Риту надо отвлечь от меня с отцом.
– А где Ермак? – подозрительно оглядываюсь я, не видя его кадиллака.
– О! – восклицает Рита и шепчет, взяв меня под руку. – Кирилл нам очень понравился. Машка его, правда, замучила своим вниманием, и он сбежал через пару часов после вашего отъезда.
– А где она? – спрашиваю Риту, чувствуя дрожь от волнения.
– Дуется на отца. Он не разрешил ей уехать с Кириллом. Сидит в своей комнате, читает.
Папин кабинет сегодня ощущается особенно мрачным и прохладным. Мебель цвета черного дерева, которая еще в детстве казалась мне предупреждающе строгой и устрашающе важной. Чучело белой полярной совы, настенное, большое, с распахнутыми крыльями, которое пугало именно своей белизной. Маленькая Мышильда, которая ходила в папин кабинет бояться совы. Брала меня за руку и звала:
– Пасли савы баяся.
И мы шли. Подходили к чучелу и заглядывали в его пустые стеклянные глаза, и Мышильда, недавно научившаяся выговаривать "р", говорила, грозя пальчиком:
– Маса тибя ни баися! Варрря тибе паказит!
И Варя показывала: прятала сестру за себя и показывала сове язык. Сова в ответ хмурилась и, испугавшись, Вариным голосом просила:
– Простите меня, девочки! Я больше не буду вас пугать!
Я выводила довольную Мышильду из кабинета, и она, сияющая от удовольствия, тянулась к моему уху:
– Влёт! Будит пугать!
Папа встает возле стола и смотрит на меня больными глазами:
– Знаешь?
– Знаю, – тихо отвечаю я.
– И что будешь с этим делать? – спрашивает отец сдавленным голосом.
– Что ты с этим делал столько лет?! – криком шепчу я.
– Жил, – папа садится за стол, словно хочет спрятаться от меня.
Сова, по-прежнему пугающе белая на черном фоне кабинета, смотрит на меня осуждающе.
– Сначала я хотела спросить у тебя "почему". Потом "как". Теперь я просто хочу не обидеть Риту и не ранить Машку.
– Был шанс, – отрывисто говорит папа, тяжело дыша. – Ты на него не согласилась.
– Я? – не удивляюсь его словам. Совсем. Но все-таки спрашиваю. – Что сделала я, кроме того, что родилась у нее и у тебя, у вас?
Папа снова морщится, то ли от досады, то ли боли:
– Стало легче?
– Стало тяжелее, – соглашаюсь я с его внутренними мыслями. – А как ты жил с этим годы?
Сова, кажется, приготовилась взлететь, по крайней мере, мне начинает казаться, что она чуть-чуть шевелит крыльями. " Маса тибя ни баися! Варрря тибе паказит!"
– Ты не мог не понимать, что все может рано или поздно раскрыться! Как так вообще получилось? – я все-таки не удерживаюсь от своего "как".
– Ни ты, ни она не были ей нужны. Я только освободил ее от...
– Детей? Ответственности? Семьи?
– Своей любви... – папа откидывается на кресле и расстегивает верхнюю пуговицу летней рубашки.








