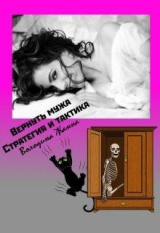
Текст книги "Вернуть мужа. Стратегия и Тактика (СИ)"
Автор книги: Жанна Володина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Глава 45. Настоящее. Пятница (поздний вечер). Михаил Аронович.
Что бы делало твое добро,
если бы не существовало зла,
и как бы выглядела земля,
если бы с нее исчезли тени?
Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита"
Гнев волка неудержим,
любовь неповторима,
верность бесконечна.
Мудрость из Интернета
Взволнованная встречей и признанием Максима, я молчу всю дорогу, не реагируя на реплики Мышильды и настойчивые взгляды Ермака в зеркале заднего вида. Противоречивые мысли бомбардируют мое сознание беспрестанно. В этот момент я особенно остро чувствую, как мне не хватает бабы Лизы. Многолетняя привычка делиться с ней самым сокровенным делала меня понимаемой и защищенной. А теперь, оставшись одна, я не знаю, кому облечь в слова свои сомнения.
– Останешься? – осторожно спрашиваю я Мышильду, от болтовни которой устала еще по дороге, когда мы подъезжаем к бабушкиному дому и я выхожу из машины.
– Нет! Что ты! – машет она на меня руками. – Папа велел мне быть на даче не позднее полуночи. Итак час накинул. Кирюша меня отвезет.
"Кирюша" неестественно и обреченно (так тебе и надо!) улыбается мне, демонстрируя хорошие манеры.
– Тогда поторопитесь, а то вашу карету, – окидываю взглядом белый кадиллак, – папа превратит в тыкву.
В окне кабинета доктора Паперного горит свет.
– Простите, ради бога! – умоляю я старого врача, открывшего мне дверь. – У вас горел свет, и я..
– Поступили совершенно правильно, Варенька! – радостно говорит Михаил Аронович. – Заходите, голубушка, я с вашей бабушкой разговариваю.
И мы идем в кабинет "разговаривать" с бабой Лизой. Садимся на диван и закрываемся одним пледом. Мы завели эту привычку, когда вместе с Георгошей вытаскивали старика из депрессии после смерти бабушки.
– Вот, Лизонька, – с легкой усмешкой ворчит Михаил Аронович, глядя на фотографический триптих бабы Лизы. – Мы с тобой ее воспитывали, сил не жалели, а она на чужих машинах с посторонними мужчинами по ночам катается.
– Подглядывали? – артистично ужаснувшись и прикрыв рот ладошкой, спрашиваю я.
– Бдил! – докладывает врач, отдавая честь. – Ибо волновался!
– Не волнуйтесь, со мной все в полном порядке! – горячо и почти честно уверяю я старого друга.
– Вы поговорили с Максимом? – умные, внимательные глаза старика зажигаются неподдельной радостью. – Вы дали любимому мужчине слово сказать?
– Вы изображаете меня какой-то... – обиженно силюсь подобрать необидное слово.
– Варей Дымовой? Честной, прямой, бескорыстной, ранимой, любящей? – тепло смеется Михаил Аронович.
– Вы меня балуете комплиментами, – нежно улыбаюсь я.
– Ну, на то и старики, чтобы молодежь баловать! – поучает сосед. – Простите мою назойливость, но почему вы сегодня одна, если вы все-таки поговорили с мужем? Не получился разговор?
– Получился, – тихо говорю я. – Многое стало понятным. Максим не изменял мне (боже! как легко произносить эти чудесные слова!)
– Естественно, – отмахивается от моих слов Михаил Аронович, словно я сказала какую-то несусветную глупость. – Это и так понятно было.
– Понятно? Было? – возмущаюсь я. – Кому?
– Всем, кроме вас, дорогая, – Михаил Аронович берет меня за руку.
– Откуда у вас у всех была такая уверенность? – подозрительно спрашиваю я старика, сама хватая его за руки.
– Наши глаза не застилала ревность, – мудро отвечает старый врач и тихо говорит. – Максим – человек очень сложный. Умный, твердый, жесткий, ревнивый. Но верный. Это видно сразу. Конечно, я – посторонний человек и могу ошибаться, но восемьдесят лет жизни – это, как говорится, не фунт изюму.
– Жесткий? – удивляюсь я такой характеристике. – Максим – очень выдержанный и спокойный человек, но совсем не жесткий. Вот его отец...
– Отец Максима? Константин Витальевич? – быстро переспрашивает Михаил Аронович.
– Да. Вы знаете, мы с ним сегодня днем... обедали вместе, – рассказываю я, не собираясь, конечно, сообщать доброму старику о теме и о содержании нашего со свекром разговора. – И его интерпретация сказки о Сером Волке и Красной Шапочке навела меня на мысль о том, что некоторые люди, действительно... настоящие волки.
Старик пристально смотрит на меня, хочет что-то сказать, но не перебивает.
– Мне так жаль Максима, – слезы копятся у меня в глазах, закрывая их солеными линзами.
– Ну, милая моя, жалость – это не то чувство, которое ждет от вас любящий муж, – поучает меня добрый мой Михаил Аронович.
– Я не этого Максима жалею, а того, маленького, оставшегося без матери, – у меня уже течет из носа и чешутся глаза. – Того, который боготворил отца, обманувшего его. Того, который чуть не потерял мать из-за отцовского малодушия и трусости. Помните, у Булгакова? Трусость – самый страшный человеческий порок.
– Помню, – задумчиво говорит Михаил Аронович. – Дело не в трусости. Вернее, не только в ней.
– А в чем? – хмыгаю я носом. – Малодушие и трусость – это его собственные слова.
– В эгоизме. Простите за заочный диагноз, но, основываясь на собственном опыте и редких, зато многолетних наблюдениях за Константином Витальевичем, позволю себе сказать, что здесь дело не только и не столько в себялюбии и своекорыстии, сколько в иррациональной форме удовлетворения личных интересов, – замечает старый врач. – Под это удовлетворение подведены не только личная идеология, но вся система его ценностных ориентиров.
– Это оправдывает его действия? – удивляюсь я.
– Это их отягощает, – констатирует Михаил Аронович. – И должен вам заметить, отчасти Максим Константинович – сын своих родителей, как и все мы.
Моя фантомная боль возвращается легким головокружением. Мама. Смогла бы я так, как она? Выбрать мужчину, а не ребенка? У меня нет ответа на этот вопрос.
– Максим совсем не похож на своего отца, – кидаюсь я на защиту мужа. – Он добрый, внимательный, чуткий...
– Многие поспорили бы с вами, милая, но вы говорите совершенно правильно. Он именно такой, ваш Максим. Для вас, – улыбается Михаил Аронович. – А большинство людей, его знающих, просто не поверили бы вам и вашим друзьям.
– Почему? – искренне недоумеваю я, не понимая подтекста, предлагаемого для расшифровки старым врачом.
– Варенька, – осторожно начинает Михаил Аронович, – как ваш старый друг, почти дедушка, я должен вас предупредить, предостеречь и, как бы странно и противоречиво это ни звучало, успокоить.
– Не понимаю, – бормочу я. – Что вы хотите этим сказать?
– Только то, что Максиму очень повезло – он встретил вас в тот самый момент, когда мог совершенно ожесточиться и, я бы сказал, уподобиться своему отцу. Смею предположить, что Константин Витальевич воспитал, нет, не воспитал – вырастил себе достойного во всех смыслах преемника. Имеющего все достоинства отца, умеющего безжалостно пользоваться всем арсеналом его возможностей и способностей воздействовать на людей и обстоятельства.
– Это плохо? – замираю я, вспомнив, как Максим признавался мне в том, что использовал в своих, не понятных мне интересах и отца, и Настю, и, как оказалось, меня.
– Это логично, обоснованно и ожидаемо, – вздыхает Михаил Аронович, кутая меня в шотландский плед. – Только это не должно вас пугать.
– Почему? – спрашиваю я по-детски, чувствую себя защищенной под этим старым пледом в этом, похожем на дворец, великолепном кабинете.
– Потому что это вызвано не эгоизмом, а обстоятельствами и любовью, – гладит меня по голове мудрый старик. – И это очень важно, Варя! Мотивы наших поступков, выбор средств для достижения цели.
– Все средства хороши? – догадываюсь я, тут же расстроившись.
– Вовсе нет! – возмущается Михаил Аронович. – Просто Максим не пойдет на сговор с совестью, как бы это ни выглядело со стороны. И дело вовсе не в кристальной честности. Я за свою долгую жизнь не встретил ни одного человека, обладающего таким великолепным достоинством. Уверяю вас, когда о человеке говорят, что он кристально честен, всегда преувеличивают.
– Я понимаю, – соглашаюсь я с ним, – совесть нужна обычному человеку, а не человеческому идеалу. Зачем идеалу совесть?
– Я вам больше скажу. Иногда, чтобы справиться с тенями, надо самому стать тенью. Хотя ханжи и теоретики, никогда не попадавшие в ситуацию подобного выбора, будут пафосно кричать вам, что надо тащить проклятые тени на свет, – начинает заметно волноваться мой старый друг. – Не верьте, моя дорогая девочка! Легко советовать попавшему в капкан зверю не ходить на прогулку в лес, когда тому уже перебило лапы. Заметьте, как много советчиков в любви – все знают, как любить правильно. Много советчиков и в выборе – это те, кому не надо выбирать самому.
– Вы меня агитируете за советскую власть? – шучу я, используя старую папину шутку.
– Я вас предупреждаю, – просто отвечает Михаил Аронович. – Но боюсь напугать, поэтому стараюсь объяснить каждое слово, каждый его смысловой оттенок.
– Объяснить что? – трясу я кудрями. – Что Максим не перенял волчью натуру своего отца? Я это и так понимаю сама.
Михаил Аронович странно смотрит на меня и грустно улыбается:
– Не понимаете. Не потому что наивны. Не потому что доверчивы. А потому, что раньше не сталкивались с тем, каким Максим может быть, а иногда и должен быть.
– Каким? Жестким и злым? – спрашиваю я совершенно спокойно. – Это не страшно, поверьте. Есть вещи пострашнее.
– Есть, – соглашается врач. – Вам, филологу, ближе и понятнее переносный смысл, метафоры, символика, аллегории. Так вот. То, вернее, тот, кто пострашнее, – это совсем не Константин Витальевич. Он себе льстит. Это не он Серый Волк.
– А кто? – хочется, как в детстве, залезть под одеяло с головой, там, в этой норке, не страшны серые волки.
Михаил Аронович снова гладит меня по голове:
– Настоящий волк в вашей сказке – это... Максим.
Прочитав в моих глазах все: от недоверия до возмущения – старик продолжает говорить скрипучим старческим голосом, словно читает внучке сказку на ночь:
– Но это другой волк. Сильный, голодный. Волк-однолюб. Вы же знаете, что волки, как и лебеди, создают себе только одну пару и на всю жизнь. Парадокс, Варенька, но собака – любимейшее человеком существо, очень, как бы это сказать, свободное в парных отношениях. А волк не может себе этого позволить. Он почти не приручается и не поддается дрессировке. Вы видели в цирке волков? Львы, тигры, пантеры, леопарды. Но не волки.
– И что мне с этим делать? – шепотом спрашиваю я, поежившись.
– Любить – если любите. Уйти – если сможете. Остаться – если верите. Но в борьбе за самку и за свободу волк может перегрызть не только всех вокруг, но и собственные лапы, – жестко отвечает Михаил Аронович и тут же смягчает свой ответ. – Но это все лирика, Варенька. Попытка украсить психоанализ. Наши с вами фантазии на ночь глядя, мои стариковские ассоциации. Возможно, это профессиональное наложение такие шутки с сознанием устраивает.
Мое сознание услужливо предлагает мне картинку: связанные тараканы с кляпами во рту усиленно пытаются выбраться из пут и совершить побег. Партизаны выставляют двойной караул.
– Михаил Аронович, – наконец решаюсь я. – Вы можете рассказать мне о моем дедушке?
Старик напрягается и садится прямо, словно ученик на уроке, получивший замечание за плохую осанку. Помолчав несколько минут, старый врач встает и отходит к своему столу. Достав что-то из верхнего ящика, возвращается ко мне на диван.
– Вот, Варвара Михайловна, ответ на один из ваших вопросов.
Это книга. Томик стихов Омара Хайяма. В книге сложенные вчетверо листки бумаги. На одном знакомым каллиграфическим почерком Михаила Ароновича написан текст стихотворения:
Я пришел к мудрецу и спросил у него:
"Что такое любовь?" Он сказал: "Ничего".
Но, я знаю, написано множество книг:
Вечность пишут одни, а другие – что миг...
То опалит огнем, то расплавит как снег,
Что такое любовь? "Это все, человек!"
И тогда я взглянул ему прямо в лицо,
Как тебя мне понять? "Ничего или все?"
Он сказал улыбнувшись: "Ты сам дал ответ!:
"Ничего или все!" – середины здесь нет!"
Вторая записка, написанная совсем другим почерком и подписанная "Алексей":
"Лиза! Невозможно жить в постоянном страхе, ожидая, когда ты поймешь, что сделала неверный выбор. Я вижу, как ты его любишь, как загораются нежностью и радостью твои глаза, когда он приходит к нам. Даже Миша, который еще не научился говорить, сначала тянет ручонки к нему, а не ко мне. Каждый день, называя нашего сына по имени, я вспоминаю, что он и назван в его честь. В самые важные минуты нашей близости мне постоянно мерещится, что ты представляешь его. Я устал ждать твоего признания, вечно сомневаться в себе и в тебе. Прости. Но я ухожу. Надеюсь, ты сможешь меня понять. Алексей. 25 апреля 1965 года".
– Что это? – пересохшее от волнения горло саднит. – Это мой дедушка писал?
– Да, – кивает Михаил Аронович. – Это письмо Алексея. Его прощальное письмо. Он оставил его на кухонном столе через год после рождения Миши, твоего отца.
– Мой дедушка ревновал к вам? – горькая догадка приходим на ум первой.
– К сожалению, – Михаил Аронович бледен и строг в своей бледности.
– Так ревновал, что бросил женщину с ребенком? – поражаюсь я.
– Мы дружили всю жизнь, семьями, до встречи Лизы с Алексеем, – говорит Михаил Аронович, уставившись немигающим взглядом на напольные часы. – Она полюбила его при первой встрече. Как говорят в сказках: раз – и навсегда. Я всегда был только другом. Я всегда был рядом. Я никогда не смел надеяться.
– Она знала? – беру его холодную, как лед, руку в свою.
– Она? – невидящий, туманный взгляд стариковских глаз останавливается на моем лице. – Она всегда это знала. Но всю жизнь любила только его. Я ждал. Она ушла раньше. Теперь я снова жду.
– Ждете? – всхлипываю я.
– Конечно, – торжественно говорит старик. – Жду встречи с ней, моей Лизой.
– Она не смогла вас полюбить? – с сожалением, осторожно погладив его руку, спросила я.
– Неправда! – возмутился Михаил Аронович. – Она тоже любила меня всю жизнь. Но не так, как я ждал и надеялся. Не так, как Алексея.
Мы сидим в тишине, отмеряемой мерным ходом антикварных часов, и следим за стрелками. Решаюсь продолжить разговор:
– Мой дедушка написал эту записку и просто ушел? И никогда не приходил? Как такое может быть? А сын? Папе был всего годик!
Михаил Аронович с ответной жалостью смотрит на меня:
– Приходил. Несколько раз. В течение нескольких лет. Лиза не пускала, даже разговаривать не стала. А потом, лет через пять, Миша еще не ходил в школу, Алексей исчез, и больше мы ничего о нем не знали. Вернее, Лиза даже не пыталась узнать.
– Она разлюбила его? – поражаюсь я.
– Нет, не разлюбила, – вздохнул Михаил Аронович. – Она его просто не простила.
– Почему? – почти плачу я. – Неужели его глупая ревность была сильнее любви? Семьи? Ребенка?
– Я не знаю многих подробностей, да если бы и знал, какое мы имеем право ее осуждать? – спрашивает меня старик.
– А вы? – слеза, выкатившись из глаза, виснет на кончике моего носа. Я не успеваю ее стереть – она падает на руку Михаила Ароновича, и он словно приходит в себя.
– Это я во всем виноват! – сетует старик, погладив меня по голове, как маленькую. – Я же все время был рядом. Незримой третьей тенью. Какой муж это выдержит?
– Но вы же просто дружили! – утешаю я его. – В чем ваша вина?
– Это она просто дружила. А я... – Михаил Аронович честно смотрит мне в глаза. – А я каждый день, каждую минуту мечтал, что она полюбит меня так, как его. Или почти так.
– Она любила вас! – уверяю я старика. – Я видела это, я понимала это с самого детства. Правда!
– Я был ее другом, тем, кто был рядом с раннего детства. Хранителем ее первых секретов. Помощником во всем. Товарищем в играх. Не более, – Михаил Аронович похлопал меня по руке. – Не волнуйтесь, Варя! Я крепкий старик в здравом уме и твердой памяти. Я прекрасно понимаю, что своей дружбой помешал их любви.
Тщательно подобрав каждое слово, я медленно и уверенно говорю:
– Бабушка была искренним человеком. Если бы вы мешали, она сказала бы вам или показала.
– Ваша бабушка была прекрасным человеком, – подтверждает Михаил Аронович. – И она никогда не сказала бы мне того, что могло обидеть, унизить или оскорбить меня.
– Разве дружбой можно оскорбить? – вторая соленая капля подбирается к кончику носа.
– Не оскорбить, нет, связать по рукам и ногам, – отвечает мне друг детства моей бабы Лизы, и я вспоминаю Вовку. Нежное, щемящее чувство потери сжимает сердце: если я останусь без Максима, я все равно не смогу быть с Вовкой. Вовка – мой Михаил Аронович. Бабушка! Я так люблю тебя, что начинаю зеркалить твою судьбу.
Прощаясь с Михаилом Ароновичем, крепко его обнимаю:
– Берегите себя! Теперь вы должны жить за двоих. Я так хотела бы быть вашей внучкой. Увнучите меня, пожалуйста!
Старик грустно смеется и обещает подумать над моим предложением. Я уже переступаю порог квартиры, когда Михаил Аронович окликает меня:
– Варенька! Проживите свою судьбу. Настоящая любовь сильнее той боли, которую она с собой приносит.
Глава 46. Настоящее. Суббота. Анна и Мила. Девичник.
– Вы не Достоевский, – сказала гражданка,
сбиваемая с толку Коровьевым.
– Ну, почем знать, почем знать, – ответил тот.
– Достоевский умер, – сказала гражданка,
но как-то не очень уверенно.
– Протестую, – горячо воскликнул Бегемот.
– Достоевский бессмертен!
Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита"
Когда тебе не с кем поделиться одинокими мыслями,
мысли начинают делить тебя между собой.
Харуки Мураками
"Человек, погруженный в мысли, бессмертен"
Сейчас приедут Мила с Анной. Мне лень вставать. Лежу в постели и рассуждаю: русские люди – те еще затейники, только у нас слово "работа" от слова "раб", а слово "увольнение" от слова "воля". Я, конечно, прекрасно понимаю, что это связано с крепостным правом, но, не выспавшись, чувствую себя совершенно разбитой. Меня измотал пришедший под утро сон.
Я иду в тумане по росистой траве. Ногам мокро, но не холодно, хотя роса довольно прохладная. Туман густой, как кисель. Впору кричать: "Ежик! Лошадка!". Но я кричу: "Максим!" В голые колени мне утыкается мокрый нос. Собака! Замираю от неожиданности и страха.
Я боюсь собак с тех пор, как нас с Вовкой, тринадцатилетних, чуть не покусали бродячие собаки: мы пришли на заброшенный пустырь, чтобы спрятать клад для игры "Двенадцать записок". Вовка тогда храбро пытался закрыть меня собой от пригнувшихся к земле и злобно рычащих барбосов. Собак спугнули Максим с Игорем, пришедшие за нами. Помню, я тогда разревелась от страха, напугав мальчишек. Вовка прижимал меня к себе и уговаривал успокоиться, Игорь пытался отвлечь шутками, а Максим, странно глядя на нас, молчал и терпеливо ждал, когда я замолчу.
Собака в моем туманном сне большая и серая. Она поднимает морду вверх, и я вижу ее круглые желтые глаза. Волк! Страх парализует меня, выкачивая весь воздух из легких одним рваным испуганным выдохом. Волк смотрит на меня и осторожно, очень аккуратно оскаливается. Максим?! Я падаю на колени в траву и без страха обнимаю волка за шею. Мокрая шерсть пахнет чем-то терпким и родным.
– Максим?! – почти кричу я, но никакой звук не вырывается из моего рта. Туман как будто поглощает все звуки, давит на уши, лезет в глаза. Волк позволяет себя обнять, утыкается носом в мою щеку и вообще ведет себя, как послушный домашний пес.
– Хороший мой! Любимый! – кричу я беззвучно, падая назад и увлекая волка на себя. Он опрокидывает меня навзничь и придавливает мощными передними лапами, когтями слегка оцарапав мне кожу. Волк начинает утробно рычать, напугав меня диким оскалом.
– Варя! Варежка! – слышу я голос Максима где-то сзади. Чьим-то мощным броском волк отброшен в сторону, в туман. Сильные, крепкие руки поднимают меня с земли и прижимают к чему-то твердому – это мужская грудь. Утыкаюсь в нее, не чувствуя никакого запаха. Вообще. Боюсь поднять глаза. Большая ладонь сначала ложится мне на затылок, потом сжимается, забирая прядь волос и за нее оттягивая мою голову назад, поднимая мое лицо. Чьи-то незнакомые губы прижимаются ко мне в крепком, подавляющем поцелуе. Мне нечем дышать. Я пытаюсь оттолкнуть незнакомца, но у меня ничего не получается. Поцелуй становится еще крепче, но каким-то другим. Словно мужчина отдает мне свое дыхание. Второй рукой он начинает гладить мою спину, прижимать к себе, вдавливая меня до хруста.
Отголоски сознания напоминают: этот человек бросил моего волка в туман. Волка, который нашел меня, пришел ко мне! Максима!
Я начинаю отбиваться, молотить незнакомца по плечам и каменной спине. Он нехотя отпускает меня, позволив дышать самостоятельно. Смотрю в его лицо и холодею от неожиданности: это Максим.
– Ты напугала меня! – взволнованно говорит муж. – Разве можно так близко подпускать к себе волка?
– Волка? – растерянно говорю я, с жадностью разглядывая родные, так хорошо знакомые мне черты лица.
– Ты ведь даже собак боялась раньше, – говорит Максим, погладив меня по плечам. – Замерзла?
С удивлением смотрю на себя: я босиком в легкой зеленой рубашке мужа. Мне внезапно становится холодно, и я начинаю дрожать, переступая с ноги на ногу.
– Я думала, что волк – это ты, – шепчу я.
– Я волк? – смеется Максим, легко поднимая меня на руки. – Страшный, большой и серый?
– Большой, – умиротворенно соглашаюсь я, тоже смеясь. – Но не страшный.
– А какой? – тихо и ласково спрашивает он, начиная целовать мое лицо, волосы, плечи.
– Сильный, умный, надежный, – я начинаю лихорадочно отвечать на его поцелуи.
– Надежный волк? – удивляется, чуть отстранившись, Максим. – Вот уж никогда не слышал о таких.
– Он такой один, – убежденно отвечаю я. – И только мой.
Из глубины тумана я слышу знакомую легкую мелодию песни "Moon river" в исполнении Одри Хепберн. "Лунная река" поставлена на мой телефон рингтоном. Максим снова наклоняется ко мне, согревшейся и счастливой на его руках, чтобы поцеловать, но не успевает – я просыпаюсь.
– Варенька! – торжественный голос Анны я узнаю не сразу: еще не отошла ото сна. – Мы можем сегодня увидеться? Редактор торопит меня с первыми главами.
– Да, конечно, высылайте, – бормочу я, оглядываясь вокруг в поисках волка и Максима. Бабушкина спальня пуста. Черт! Девять утра!
Помучившись и пожалев себя полчасика, я иду с планшетом на кухню. За работой всегда забываю о времени, и, когда приезжает Анна, уже полдень.
– Чудесная история! – искренне хвалю я Анну, и она краснеет от удовольствия.
Новая книга о нежной и наивной девушке, попавшей в мир теней и магов. Она храбро сражается с Верховным магом, бегает от него по всем мирам, но он настигает ее везде и всегда.
– Правда! – с воодушевлением говорю я. – Вы стали писать как-то сочнее, глубже что ли...
– Я влюбилась! – сообщает, снова покраснев, помолодевшая на глазах Анна. – Отдыхала в санатории неделю и там познакомилась. Совершенно удивительный человек! Ухаживает за мной по-королевски.
– Анна! – вскочив со стула, я бросаюсь обнимать старшую подругу. – Я так рада за вас!
– А уж как я за себя рада! – смущается Анна. – После смерти мужа, да и до нее, я и не надеялась, что встречу человека, которому понравлюсь.
– А как ему ваши книги? – спрашиваю я, сгорая от любопытства.
– Он еще не знает, что я пишу, – говорит Анна, улыбаясь. – Вот эту книгу я хочу показать ему первой.
– Хороший выбор! – подтверждаю я.
– Варя! Можно спросить? Вы были заняты некоторое время и давно со мной не занимались. Я вас напрягаю?
– Не говорите глупости! – журю я Анну. – Я готова и к корректуре, и к занятиям, с удовольствием.
Мы варим крепкий кофе и перебираемся с чашками в гостиную.
– Начнем? – спрашиваю я, ломая плитку любимого горького шоколада. – Ваш Верховный маг, как там у вас, "обожает теплые халаты и, соответственно, халатно относится к своим обязанностям".
– Захотелось пошутить, – объясняет Анна. – Это ведь однокоренные слова, я правильно понимаю?
– Нет, – отвечаю я. – Халат – слово заимствованное, а халатный – старославянизм. От слова "халад", "хлад", "хладный", то есть холодный. Историческое чередование "ла" и "оло": халатным называли того, кто холодно, прохладно относился к поручениям.
– Равнодушно? – догадывается Анна. – Надо же, как просто, я и не подумала даже.
– Это весьма занимательно, – начинаю рассказывать я. – Ругательство "мразь" от слова "мороз", "смородина" от "смрад" – так называли любой резкий запах, позже у этого слова осталась только негативная окраска.
– Очень интересно! – воодушевляется Анна, отхлебывая горячий кофе. – Принцип помню: город и град, ворота и врата, здоровье и здравие, голос и глас – я знала, а про эти слова и не догадывалась. Спасибо! Слушайте, Варя, моя подруга утверждает, что кофе сейчас среднего рода, в новостях сказали. Это правда?
– Нет, неправда, – не соглашаюсь я с "новостями" из новостей. – В образцовой речи кофе мужского рода, в разговорной допустим средний род, причем закреплено это словарем Ушакова еще в сороковых годах прошлого века. Но интеллигентный человек всегда выбирает форму мужского рода.
– Вы сварили прекрасный кофе! – говорит пафосно прилежная моя ученица, и мы с Анной чокаемся кофейными чашечками.
– Кстати, обратите внимание на числительные, что вы используете, – добавляю Анне в чашку густой свежий кофе. – Верховного мага у вас сопровождают "пятеро волков и пятеро волчиц".
– Да. Считаете, плохо придумано? – расстраивается Анна. – Надо меньше волков?
– Не надо ни меньше, ни больше, – успокаиваю я писательницу. – Просто и волков, и волчиц не может быть пятеро, только пять.
– Почему? – удивляется Анна, осторожно поставив на блюдечко чашку.
– Это собирательное числительное, оно сочетается с существительными, обозначающими лиц мужского пола. Лиц, то есть, человека. А если про животных, то пятеро может быть только волчат, потому что это название детеныша.
– Точно! – вспоминает Анна. – Еще там что-то про ножницы и часы.
– Да, – смеюсь я. – Про парные предметы и существительные, имеющие форму только множественного числа. Шестеро ножниц, семеро часов, восьмеро суток, девятеро санок, десятеро носков.
– Господи! Есть слово "восьмеро"? – поражается выданной информации Анна.
– Есть, но оно устаревшее и разговорное, как и девятеро, и десятеро. Их вообще лучше заменить на восемь, девять и десять, – объясняю я.
– Я ничего этого не помню, мне кажется, в школе мы это не изучали, – огорчается Анна.
– Изучать были должны, – говорю я. – Вы просто или забыли, или пропустили эту тему. Помните же вы про ножницы и часы.
Мы еще не меньше часа правим текст фэнтези-романа и доходим до главы про злобного вурдалака.
– У вас намеренно так много волков в этой книге? – удивленно спрашиваю я, думая о своем.
– Это же оборотень! – оживляется Анна. – Мой главный отрицательный герой, тоже влюбленный в героиню. Разве оборотень обязательно волк?
– Для славянской мифологии, думаю, да, обязательно. Для европейской – нет, – меня напрягает присутствие волка в моей жизни в течение последних нескольких часов, и я терпеливо рассказываю, сама получая удовольствие от разговора. – Это слово подарил нам Пушкин. До него было слово волкодлак: "волко" – волк, "длак" – шерсть. А у Пушкина "вур" – вор, мешок. Вор в волчьем мешке, то есть в волчьей шкуре.
– Поразительно! – восхищается Анна. – Вы знаете, Варя, может быть, вы и правы. Я, наверное, все-таки пойду учиться, хоть и старая уже. Сейчас столько возможностей учиться дистанционно!
– Замечательная мысль! – поддерживая я ее.
К двум часам дня появляются Мила с Цезариной. Терьер выиграл очередной конкурс, и Мила зовет нас вечером в ресторан обмывать йоркширскую медальку.
– Берите подруг, Варя, и приходите в ресторан. Я сброшу на телефон адрес, только место выберу и заказ сделаю, хорошо? – наступает на меня Мила.
– А хорошо! – бодро соглашаюсь я, провожая гостей. – Гулять так гулять!
– Сашка, как Ваня? – наконец дозваниваюсь я до Сашки, до этого телефон подруги был все время выключен. – Что с телефоном?
– Да разрядился, зараза! – сетует Сашка. – Мы с Ванькой проспали двенадцать часов. Все в порядке, подруга. Ложная тревога. Вот ведь ребенок! Вчера все болело, температура. А сегодня скачет, как горный козел в период гона. Хоть к кровати привязывай. И в школу поиграли, и в гараж, и в зоопарк. Сейчас он волк, а я лисица.
Да что ж такое-то! Откуда столько волков вокруг меня? Так и до паранойи недалеко.
– Есть предложение похулиганить в ресторане! – рассказываю я Сашке про приглашение Милы.
– Похулиганить? Женской бандой? Это ж девичник! – Сашка хохочет. – Заметано! Звони Лерке!
– Тогда сначала в Нарнию! – соглашается на девичник Лерка, до которой я дозваниваюсь быстро. – У тебя ни одной новой тряпки. Надо обновиться!
"Нарнией" Лерка называет свой платяной шкаф, который ее мифический отец набивает подарками ежемесячно. Время от времени Лерка заставляет нас выбирать что-нибудь себе. К шести часам вечера мы с Сашкой у Лерки.
– Ну? – требовательно спрашивает Сашка. – Какие новости?
Мы лежим в Леркиной комнате на ее огромной кровати втроем (Сашка всегда шутит, что это кровать для Лерки, ее принца на белом коне и, собственно, самого коня), и я рассказываю лучшим подругам и о встрече со свекром, и о поездке к Игорю, и о встрече с Максимом.
– Константин Витальевич такое тебе сказал? – огорченно переспрашивает Сашка, расстроившись из-за своего кумира. – Я считала его идеальным мужчиной. Хотя... разве признать свои ошибки – это не поступок сильного мужчины?
– Сильного? – мне сложно показать свекра подругам своими глазами. Надо видеть его потрясающе умный взгляд, чувствовать мощную энергию, исходящую от него и буквально подавляющую чужую волю, ловить легкую интонацию превосходства. – Здесь не только сила. Еще что-то...
– Я понимаю, – посмотрев на меня огромными прекрасными хрустально-серыми глазами, тихо говорит Лерка. – У меня такой отец. Я в трудом представляю, как Максим столько лет живет рядом с таким магнитом. Можно давно сбить все ориентиры.
– Глупости! – Сашка бросает в Лерку подушкой. – Шикарные мужчины! И Константин Витальевич, и отец твой. И Макс Варькин. Отборные экземпляры. Такого мужика привлечь – проблема, а уж заставить полюбить...
– Зачем заставлять? – Лерка совершает ответный бросок. – Нельзя заставить любить. Можно заставить бояться, сомневаться, презирать, но любить... Нет, нельзя.
– Заставить не значит совершить насилие, – смеется Сашка. – Заставить – пробиться к сердцу через панцирь равнодушия, превосходства, эгоизма. Сделать так, чтобы человек изменился.
– О! Шурик! – я отбираю у них подушку, которую они не оставляют в покое. – Да ты ритор! Может, тоже писать начнешь?
– Ну уж нет! – фыркает подруга. – Таких писателей больше, чем читателей. Расплодимся и будем читать только друг друга!
– А Максим? – Лерка гладит мою руку. – Вы смогли поговорить? Он всё объяснил?








