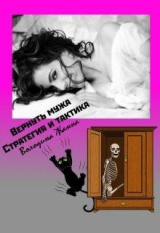
Текст книги "Вернуть мужа. Стратегия и Тактика (СИ)"
Автор книги: Жанна Володина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Глава 40. Настоящее. Пятница (утро). План.
Говорите, когда вы сердитесь, -
и вы произнесете самую лучшую речь,
о которой будете жалеть всю жизнь.
Генри Бичер
План, что и говорить, был превосходный:
простой и ясный, лучше не придумать.
Недостаток у него был только один:
было совершенно неизвестно,
как привести его в исполнение.
Льюис Кэрролл «Алиса в стране Чудес»
– Если вы входите в категорию ревнивцев, то вам непременно нужно начать над собой работать. Ревность не только лишает вас положительных эмоций и разрушает психику, но и превращает жизнь в ад, занижая самооценку, – лохматый и бородатый дяденька в очках с толстой роговой оправой, похожий на мультяшного домового Нафаню, гнусавым голосом просвещал зрителей телевизионного канала и меня, свернувшуюся калачиком на диване в гостиной и смотрящую телевизор. Нафаня доверительно сообщил, что ревность может быть здоровой, придающей перчинку пресным отношениям, и патологической, уничтожающей отношения навсегда.
– Хотите знать основные причины вашей ревности? – спросил Нафаня меня, почесав густую бороду.
«Да!» – подобострастно закивали мои тараканы, доставая блокнотики для конспектирования лекции.
– Прежде всего, это негативные установки, заложенные в нашем подсознании, часто из детства и юности, – сурово сказал Нафаня, подписанный внизу экрана как доктор наук Геннадий Заполошный.
– С моим подсознанием все в порядке, – обижаюсь я на Нафаню. – И у Макса полная семья, чудесные родители, в доме достаток.
«Шшш!» – недовольно шипят крайне заинтересованные тараканы, поднося к губам пальчик.
– Часто ребенок борется за любовь и внимание матери или отца. Вот скажите мне, – допытывается у меня Нафаня, – разве для маленького мальчика мать не идеал любви?
– А? – спрашивают меня тараканы, перестав записывать.
– Конечно, идеал! – радуется Нафаня, ответив на собственный вопрос. – А отец? Кто же он?
– Кто? – растерянные тараканы пожимают плечами.
– Отец – эталон поведения! – всплескивает руками профессор, поражаясь нашей недогадливости.
– А для девочки? – спрашиваю я Нафаню, садясь на диване.
– Для девочки, этой маленькой женщины, все наоборот! – почти взвизгивает от удовольствия ученый. – Мать – образец поведения, а отец – идеал любви.
Задумываюсь: неужели это так? Мой папа – мой идеал любви? А мама? Может, Нафаня прав. Ее не было со мной, и у меня не было эталона поведения женщины?
Тараканы после вчерашних разборок подлизываются, тут же согласившись с моей версией.
– Фигушки! – сопротивляюсь я. – У меня была баба Лиза. У меня была даже Рита.
– Вторая распространенная причина ревности – страх, – гнусавость голоса профессора ужасно нервирует. – Страх одиночества, страх быть отвергнутым, страх не соответствовать придуманному партнером образу. Это причина ревности наиболее характерна для женщины.
Тараканы выразительно приподнимают вверх палец: «Вот первопричина!»
– Вы обо мне?! – поражаюсь я их коварству. – Я не боюсь!
Тараканы усмехаются и не верят.
– Женщины стремятся к подражанию, мужчины к соперничеству. Что главное в мужской ревности? – снова экзаменует Нафаня и, как плохой учитель, сам же и отвечает. – В мужской ревности главное – секс и гнев, в женской – это страх и эмоции.
"Точно! – подтверждают тараканы. – Сами видели!"
Десять часов назад
Максим смотрит на билеты, лежащие на полу.
– Ты возил ее в Париж! – кричу я, и сама себе неприятна. Унижаться до крика баба Лиза считала проявлением низкой культуры и неуважением не только к собеседнику, но и к себе.
Максим поднимает на меня глаза, в них если не удивление, то растерянность точно.
Тараканья толпа, возглавляемая плюгавеньким, теснит двух либералов-сородичей, посмевших поддержать Максима, в угол, улюлюкая и присвистывая. Два смельчака с достоинством отступают, стараясь не поворачиваться к противнику спиной.
– Да, – говорит Максим, подняв на меня такие родные голубые глаза. – Но это почти последняя часть истории. В Париж летают не только в романтическое путешествие.
– Расскажи мне о сложной адвокатской судьбе! – ёрничаю я.
– И не по работе, – Максим трет тыльной стороной ладони небритый подбородок. – По личному делу. Я не мог в этот раз позволить себе пустить дело на самотек.
– Личное дело, о котором не может знать жена? С молоденькой девушкой Настей? Ха-ха! – очень надеюсь, что хохот мой хотя бы чуть-чуть гомерический.
Два предателя, запертые в углу тараканьей толпой с бейсбольными битами, достают... шпаги и готовятся к бою, отсалютовав противнику. Ничего себе! Как изменились эти перебежчики за какой-то час, копируя своего кумира.
– Смысл верный, тон нет, – осторожно говорит Максим. – Чтобы понять, тебе надо...
– Выслушать! У тебя была куча времени! – отрезаю я любую возможность продолжения диалога. – Если бы не эти билеты, я бы еще была готова...
– Эти билеты, – с досадой посмотрев на клочки бумаги на полу, морщится Максим, – часть сложной и не очень красивой истории. И я готов рассказать ее.
– А я не готова слушать! – бешусь я. – Вернее, не собираюсь слушать. Ты мог тысячу раз начать ее рассказывать. И тогда, в первый раз, по телефону, когда сидел с ней в кафе и врал мне. И потом, когда пришел сюда две недели назад. И сейчас, когда я позвала тебя сама.
– И что мешает тебе меня выслушать?! – Максим слегка повышает голос. – Я приходил к Михаилу Ароновичу. Я звонил ему, тебе.
– Три раза! Ты звонил мне три раза! – восклицаю я.
– Ты не взяла трубку. Если бы была готова поговорить, взяла бы. Или перезвонила, – отвечает на мой крик Максим. – Ты была в таком состоянии, что Михаил Аронович посоветовал подождать, пока ты не успокоишься. Я был с ним не очень вежлив, прости. Я приезжал на дачу. Я приходил на Милину презентацию, к Игорю в клуб. Дважды. Второй раз лучше не вспоминать...
– Ты назвал мою ревность глупой, а твою как назвать? – не свожу глаз с его жесткого любимого лица.
– Мою? – горько усмехается муж. – Выбирай: безрассудная, острая, тягостная, подозрительная, жгучая, давящая... А главное – бессильная и мучительная.
– Ты так хотел рассказать о себе и о ней, что спрашивал только обо мне и о нем, – констатирую я.
Распугав толпу острыми наконечниками шпаг, дезертиры выбираются из угла и встают спиной друг к другу, защищая тыл.
– Не сдержался, извини, – Максим делает шаг навстречу мне.
– Нет уж! – отскакиваю я. – С меня достаточно! Ты пришел рассказать правду, принеся с собой еще одну ложь! Если бы я случайно не увидела эти билеты, ты бы уже утащил меня в постель. (А я бы... Я бы не сопротивлялась!)
Максим болезненно морщится:
– Варя, тебе не идет хамство.
– А тебе очень идет... благородство.
Максим смотрит на меня как-то отрешенно.
– Уходи! – гоню я его.
– Нет, – Максим садится на стул. – Хватит бегать, Варя! На этот раз мы поговорим, и ты меня выслушаешь.
– Иди к черту, Быстров! – злюсь я. – Тебе не придумать ничего романтичнее Парижа. Мне плевать на твои дела, на твоих клиентов!
Раздавшийся неожиданно внутридомовой звонок заставляет меня подпрыгнуть на месте.
– Варенька! – восторженно обращается ко мне Ольга Викторовна и осторожно добавляет. – Тебе доставка. Пускать?
– Доставка? – теряюсь я, лихорадочно оглядываясь на Максима.
Если это Ермак, я его убью! Хотя... Просто отлично! Вовремя! Ревность желчью поднимается со дна желудка и тут же вызывает тошноту.
Тараканы, махнув рукой на окруженных предателей, оставляют их в покое. Им гораздо интереснее, кто пришел и что принес.
– Конечно, пускать! – неартистично оживляюсь я. – А что это? Снова цветы?
Максим реагирует на "снова" поднятой правой бровью. Прекрасно! Не одному тебе мучиться!
– Пропускаю курьера! – подобострастно докладывает консьержка.
Растерянно смотрю на "доставленное". Я и ожидала цветы. Но чтобы такие... Это потрясающей красоты свежая лаванда, упакованная в коробку тоже лавандового цвета. И что-то завернутое в мягкую бумагу фисташкового цвета. Судя по прямоугольной форме, это картина или фотография. Картина. Чудесная зарисовка в стиле Прованс. На старомодном комоде выбеленного дерева стоит старый глиняный кувшин с букетом лаванды. Цветов так много, что несколько цветков выпали из букета и лежат прямо на страницах раскрытой книги.
– Poésie lavande. Лавандовая поэзия, – перевожу я название картины и резко спрашиваю. – Я разве просила подарков из Франции?
Тараканы, встав полукругом и обнявшись, поют "Марсельезу".
– Из Франции? – отреагировала только бровь Максима.
Он встает со стула и берет из моих рук коробку с цветами.
– Во-первых, кроме французского, есть надписи на русском и на коробке, и на картине. "Отборная французская лаванда". Вряд ли французы так сделали бы. Во-вторых, по закону о карантине растений, при международном перелете перевозить их и даже семена запрещено без специального разрешения. И цветы, и картина из России.
– Да? – теряюсь я на пару секунд, потом спохватываюсь, забираю у Максима коробку и прижимаю к себе, очень стараюсь разбавить радостный тон полувлюбленными интонациями – О! Наверное, это Кирилл!
Я тоже могу быть убедительна и умею считать. Во-первых, кроме Кирилла или Вовки некому, но Вовка не должен, после нашего последнего разговора он не стал бы (надеюсь!), и я ни за что не буду использовать его для задуманной провокации. Во-вторых, надо держать марку, и пусть это будет Ермак. Хоть на что-то сгодился. Нет, вру. Еще он спас Коко (мне стыдно!). В-третьих, гипотетически это может быть Игорь. Но после "разоблачения банды заговорщиков" он вряд ли стал бы снова так "шутить".
Максим слегка хмурится.
– Очень приятный молодой человек! – доверительно сообщаю я мужу, словно он моя лучшая подружка, которой можно передать на хранение самый страшный секрет.
– Разве он не поклонник Мышильды? – спрашивает Максим голосом снеговика. Я, конечно, со снеговиками еще на разговаривала, но именно такой тембр голоса и представляю, зимний, холодный, даже ледяной.
– Ну, пока никак на нее не переключается, – еле сдерживая внутреннюю дрожь, беспечно говорю я, будто для меня это не проблема.
– Переключить? – жестко спрашивает муж, снова забирая из моих рук коробку и бросая ее на стол.
– Иди к черту, Быстров! – повторяюсь я от бессильной тоски и злобы. Очень хочется сделать ему больно, задеть так, чтобы его вышколенные многолетними тренировками и военными сборами собственные тараканы дрогнули. – У меня свой Париж. И он лавандовый.
– Варежка, – Максим пытается взять меня за руку. – Пока не принесли еще что-нибудь или кого нелегкая не принесла...
Мое любимое прозвище звучит теперь как чужое, непривычное, словно украденное. Прячу руки за спину.
– Нелегкая принесла тебя! – рычу я, демонстративно наклоняясь за билетами и не удержавшись от сарказма. – Сохранил на память?
– У меня есть вполне разумный ответ, но сомневаюсь, что поверишь, – отвечает Максим спокойно, но я вижу, что эмоции он сдерживает с трудом.
– Правильно сомневаешься, – подтверждаю я и, чтобы занять руки, достаю вазу, начинаю распаковывать лаванду.
– Если бы не билеты? – вдруг отрывисто спрашивает муж.
– Что если бы? – стою к нему спиной и не поворачиваюсь. Некстати вспомнилось, как ма.. Валентина Георгиевна и Мышильда умеют спиной выражать глубокую печать. Мне сейчас позарез нужно спиной выразить равнодушие и легкое презрение. Правильно говорит Сашка: всё, даже эмоции, надо перед важными встречами репетировать.
– У нас был шанс поговорить, если бы ты их не увидела?
Не выдержав, быстро, резко разворачиваюсь к нему лицом (планировала плавно и с достоинством):
– Серьезно?! Ты пришел разговаривать со мной, но не собирался рассказать о вашем вояже?
Тараканы складывают бумажные самолетики и устраивают соревнования "чей улетит дальше".
– Это не вояж. Она не моя клиентка. Теперь уже не клиентка, – так же резко швыряет слова Максим. – Я обещал, что не расскажу тебе как можно дольше. Я проклял себя за это обещание. И дело не в том, что я нарушу данное слово. Что оно теперь стоит, когда я тебя почти теряю? Ты вообще не должна была узнать. По крайней мере пока. Но ты узнала, а я не вырулил ситуацию. Я подвел вас обеих. Она не поймет.
– Ты шизофреник? – не верю своим ушам. – Ты переживаешь, что подвел нас обеих? Что ОНА не поймет. Не Я? ОНА?
– Я говорю не о Насте, – впервые в моем присутствии муж произносит ЕЕ имя, устало, почти шепотом.
В его голосе нет нежности, не буду врать, но даже просто ЕЕ имя из ЕГО уст мне слышать тяжело.
На столе звонит и вибрирует мой телефон. С недоумением смотрю сначала на экран: "Константин Витальевич". Потом на Максима. Он, увидев имя, быстро хватает телефон со стола.
– Я просил тебя ей не звонить, – за столько лет я ни разу не слышала, чтобы Максим разговаривал таким тоном. Просто никогда. Он спокоен, но при этом убийственно, чудовищно гневен. Гнев этот ощущается физически, вибрирует вокруг Максима, как воздух над асфальтом во время сильной жары. Видели, как это бывает: изображения объектов кажутся искаженными из-за потоков воздуха, поднимающихся над нагретой поверхностью. – Да. Если понадобится, то не поговоришь никогда.
Тараканы от страха закрывают глаза и прячутся друг за друга.
Максим бросает телефон на стол.
– Если ты не догадался, то это мой телефон, – до трясучки злюсь я. – И Константин Витальевич позвонил не тебе, а мне. У тебя и твоей Насти дурацкая привычка брать чужие телефоны.
– Константин Витальевич переживет. А Настя – просто молодая дурочка, с телефоном по-дурацки получилось, – бросает странную фразу взбешенный Максим.
И я некстати вдруг внутренне горжусь и собой, умеющей понимать его состояние, даже если лицо его не отражает истинных чувств, и им, умеющим – нет, не просто держать лицо, а по-мужски держать себя в руках. Хотя Лерка как-то давно говорила, что это одна из причин ранних мужских инфарктов.
– Как у тебя все просто! – поражаюсь я, сжав кулаки и сдерживая примитивное по своей сути желание наброситься с ними на мужа. – То жена – дурочка, то любовница!
Тараканы одобрительно кивают, поддерживая мое негодование, но близко подойти по-прежнему боятся. Букмекер осторожно начинает брать ставки. Пока пятьдесят на пятьдесят: любовница против жены.
– Настя не любовница, – сквозь зубы говорит Максим.
– Не-кли-ент-ка-не-лю-бов-ни-ца? – переспрашиваю я Максима, распаляясь. – Ты обнимал ее! Вытирал ей слезы! Даже целовал!
Тараканы азартно мечутся и меняют прежние ставки. Плюгавенький выкрикивает: «Сто к одному на Настю!»
– Это было до... – с отчетливым ощущением досады в голосе, говорит Максим.
– До того, как ты решил мне изменить? – находчиво и горько подсказываю я.
– Я никогда не изменял тебе. Ни в мыслях. Ни физически. В том смысле, который ты вкладываешь в эти слова, – Максим снова устало проводит тыльной стороной ладони по небритым щекам.
– У этих слов есть какой-то дополнительный смысл? – совершенно дурею я.
Два таракана-мушкетера, растолкав беснующуюся возле букмекера толпу, ставят на Варвару Дымову, вернее, Варвару Быстрову.
– Не у слов. У твоих ощущений. Ты для меня человек, пропитанный этими двойными, тройными смыслами. В этом ты очень напоминаешь мне Елизавету Васильевну.
– Я видела то, что видела. Слышала то, что слышала, – сопротивляюсь я, цепляясь за остатки женской логики и не понимая, его слова – комплимент или упрек.
Мои мысли не укладываются в формулу "не любовница – не клиентка", да еще с дополнительными вводными: "теперь не клиентка", "говорю не о Насте", "Константин Витальевич переживет". Я, честное слово, гуманитарий.
– Я тоже видел и слышал то, чего когда-то боялся больше всего на свете, – говорит Максим. – Но я готов выслушать твои объяснения, хотя ничего двусмысленного в твоих словах Владимиру я не вижу. А я умею искать и находить двойной смысл в сказанном, можешь мне поверить. Все было предельно ясно: ты его любишь. Сильно. Давно. И боишься с этим чувством не справиться.
На тараканьей бирже начинается настоящий ажиотаж: все ставят на Варю. Только плюгавенький не суетится, а потирает передние лапки и напоминает присутствующим, что Максим Константинович "хотят и могут" не только объясниться, но и выслушать.
«Кровь ударила ей в голову и побежала по тонким жилам, разнося по телу отчаяние, обиду, злобу и решимость одновременно,» – вспоминаю я один из перлов Милы.
– Мы возвращаемся к тому, с чего начали? – почти не удивляюсь я, с опаской глядя на еще оставшуюся в живых вторую белую кофейную чашку.
– Без этого мы не сдвинемся с места, – твердо говорит Максим.
– Что ты хочешь? – прямо спрашиваю я.
И Максим бьет по мне своими следующими словами:
– Я хочу того, чего не вернуть. Чтобы все было так, как до того проклятого дня. Чтобы ты не поехала в этот дурацкий торговый центр...
– Чтобы я не увидела... вас? – подхватываю я, до боли сжимая кулаки и впиваясь ногтями в ладони.
– Да, – подтверждает Максим с сумасшедшим блеском в потемневших глазах. – Это был бы лучший вариант для всех. Для меня, для тебя, для нее, для моих родителей.
Догадки, одна глупее и невероятнее другой, начинают меня терзать:
– Я должна поверить во что-то, связанное с твоей семьей?
Тараканы, окончательно запутавшись в наших показаниях, берут тайм-аут и устало обмахиваются полотенцами.
– Мы смотрим индийский сериал о внезапно найденной сестре, потерянной в глубоком детстве или выкраденной с целью выкупа? – нервно смеюсь я. – Ты хочешь составить конкуренцию Миле и Анне? Брутальный мужчина – автор любовных романов с невероятным сюжетом? Неплохо.
Максим странно смотрит на меня и тоном человека, глубоко разочарованного в самом себе, говорит:
– Она мне не сестра.
– Даже у Цезарины имя короче! – меня совершенно сносит его ответ, странно, но я в глубине души так на него надеялась, ведь тогда все встало бы на свои места. Ну почти все. – Не-лю-бов-ни-ца-не-кли-ент-ка-не-сест-ра?
Максим отвечает вопросом, но о другом:
– Я все понял неправильно и ты говорила ЕМУ о чем-то другом, а не о своей любви?
Плюгавенький берет руководство хаосом в свои руки и предлагает сыграть в русскую рулетку, достав наган, вращая барабан и проводя инструктаж: «Название этого оружия происходит от латинского слова revolve (вращать) и отражает главную особенность револьвера: наличие вращающегося барабана».
– Я говорила ему о любви, любви всей своей жизни, – злобно вредничаю я, ничего не собираясь объяснять, но и не собираясь лгать.
– Тогда зачем тебе мои объяснения про меня и Настю? – так же зло говорит почти чужой Максим. – Ты уже вынесла вердикт, назначив ее моей любовницей. Какая разница, что между нами?
Внушаемые тараканы бросают револьвер и собираются играть в суд присяжных.
– Ты хочешь сказать, что меня ждут объяснения только тогда, когда я что-то объясню тебе? – ничего больше не слышу, кроме этих слов, "про меня и Настю".
– Теперь – да. Совершенно верно, – Максим снова садится на стул, всем своим видом показывая, что он здесь надолго.
Плюгавенький, вырядившись в мантию, стучит деревянным молоточком по подставке, изображая из себя строгого судью. Надо же! У моих тараканов и барристер есть!
– Пошел к черту! – третий раз за вечер я грублю мужу. – Ты похоже сам еще не придумал, как ЕЕ назвать. Придумаешь – дай знать!
Максим закрывает глаза и, помолчав минуту, абсолютно спокойно отвечает:
– Я жду твоей вменяемости. По-другому разговор не получится. И вовсе не потому, что не смогу оправдаться. Я должен знать, что между тобой и Владимиром происходит. Максим второй раз официально называет лучшего (бывшего лучшего!) друга полным именем.
– Ты с Анастасией-Цезариной летаешь в Париж, а я невменяемая?! – как говаривал классик, "в зобу дыханье спёрло". Правда, у героини Крылова от радости, у меня – от злости. Если ты сейчас не уйдешь... Клянусь...
– Ты вызовешь полицию? – невесело смеется Максим и объясняет свой неуместный смех. – Я твой муж, человек дееспособный, с документами, трезвый. Они даже не поедут. Или ты сочинишь историю о насилии? Уверена?
– Более чем! Уходи и билеты не забудь, – отвечаю я, поймав себя на мысли о том, что в течение всего нашего разговора испытываю вполне объяснимое чувство, которое долгие годы было мне почти незнакомо. Досада, раздражение, обида – да. Но злость в таких количествах – явный перебор. Помню, как объясняла Анне, что в одной из ее книг по отношению к одному из героев слишком часто употреблялось это слово, что надо стараться употреблять синонимы. А сама? Да что со мной?
Максим безотрывно смотрит на меня пару минут, потом говорит:
– Смысл моей работы – суметь договориться. Со всеми: с клиентом, со следствием, с прокурором – хотя это не наш юридический принцип. Я имею в виду не сговор, не тайное соглашательство, запрещенное законом, а понимание противоположной позиции.
Тараканы, избрав группу присяжных, рассаживаются в зале суда, приготовившись слушать речь адвоката.
– Грош мне цена, если я не могу с собственной женой договориться.
– Просто твоя собственная жена не твоя собственность, – каламбурю я.
– Не собственность, – соглашается адвокат Быстров, – здесь главное, что моя.
Несколько тараканов-присяжных вытирают платочками слезы умиления. Наверное, это женщины. Интересно! С гендерной точки зрения я еще о своих тараканах не думала.
– Не надо использовать на мне свои адвокатские приёмчики, – огрызаюсь я.
– И не думал, – отвечает бледный Максим. – Ясность мышления предполагает ясность языка. Ни ты, ни я не можем мыслить ясно. Но это не повод отказываться от разговора. Если ты думаешь, что тогда, когда ты нас увидела, я мог просто выкрикнуть пару слов, остановив тебя и успокоив, то вынужден сказать – нет, не мог и не стал бы. Я сотни раз мысленно переиграл эту ситуацию по-другому. Уже после я нашел много, как мне кажется, достойных и верных способов тебе все объяснить. Но... post pugnam cum pugnis, non unda, после драки кулаками не машут.
– Увлекся латынью? – спросила я, как тогда у него спросил Вовка.
– В моей жизни было только два увлечения, – отвечает Максим, и по мрачному выражению его лица я понимаю, что он тоже вспомнил про Вовку.
– Два увлечения, – тихо повторяю я, прижимая пальцы к вискам, они пульсируют так сильно, что мне больно.
«Что я говорил!» – судья плюгавенький злорадно усмехается.
– Это Варя-девочка и Варя-женщина, два совершенно разных человека, каждую я люблю по-своему. И это единственные женщины, к которым тебе стоит ревновать.
Присяжные начинают аплодировать, несмотря на стуки молотка плюгавенького. В тараканьих рядах раскол. Плюгавенький быстро сменяет маскарадный костюм судьи на кожаную тужурку комиссара и начинает вербовать добровольцев. Присяжные отходят налево, под знамена двух отщепенцев.
– Кроме меня, внимать твоему ораторскому искусству некому, – говорю я мужу, помахав перед его лицом билетами. – Все это прекрасно, но не отменяет Париж.
– Я объясню и это, – Максим явно не собирается уходить и не двигается с места, положив ногу на ногу.
– Это квартира моей бабушки. Это моя квартира. И я принимаю в ней только тех, кого хочу видеть сама, а не тех, кто хочет видеть меня.
– Например, Вову и Кирилла? Их ты хочешь видеть? – тут же нападает Максим.
– Да! Хочу! – отбиваюсь я, начиная лихорадочно запихивать билеты в карман его пиджака. – Хочу и приглашу. Никто не мешает тебе приглашать в нашу... в свою квартиру твою Настю. Или ты купил ей отдельную?
Плюгавенький комиссар уже собрал из моих тараканов отряд ополченцев. Гренадеры Максима, стоящие фронтом напротив, изо всех сил сдерживают иронические смешки. Еще немного – и я не справлюсь с ситуацией: мое тараканье войско падет в неравной схватке.
Максим хмурится, словно не может на что-то решиться, потом говорит:
– Она там уже была. И пока ты не сделала неверные выводы, давай я начну с самого начала.
У меня в голове шум и боль, как от удара, словно Максим разбил об нее вторую чашку.
Группа тараканов, отработавшая присяжными заседателями, начинает сомневаться в выборе предводителя.
– Если ты сейчас не уйдешь, – прости, дорогой словарь синонимов, но злость переполняет меня, – я за себя не отвечаю!
– А пора бы уже, – говорит Максим, резко встает, забирает из моих рук пиджак и уходит.
Настоящее. Пятница (утро). План.
Утром, выпив две чашки зеленого чая и не сумев запихнуть в себя ни кусочка еды, иду к Михаилу Ароновичу.
Старый врач очень рад. В квартире густо пахнет ванилью и коньяком.
– Варвара Михайловна! Наконец, и обо мне вспомнили! Или вас запахи приманили? Георгоша испек коньячный торт.
– Я за последним конвертом, – с порога сообщаю я. – Как вкусно пахнет!
Михаил Аронович внимательно смотрит на меня и спрашивает ласково:
– Вы чем-то расстроены, дорогая? Давайте-ка ударим глюкозой по расшатанным нервам!
– Ничем таким, что нельзя было бы пережить! – бодро отвечаю я. – Коньячный торт звучит так же здорово, как и сам коньяк!
– Похоже, у сына, наконец, появилась женщина, – шепчет мне Михаил Аронович. – Он для нее печет с утра до вечера, когда не на дежурстве. Ушел недавно в новом костюме с тортом.
– Ушел с тортом? – расстраиваюсь я.
– Он два испек. И для нас с вами. Еще Ольгу Викторовну угостим.
Михаил Аронович привычно усаживает меня за кухонный стол и наливает чай.
– Как вы думаете, Михаил Аронович, ревность ведь не обязательно признак любви? – внезапно даже для самой себя спрашиваю я.
Врач сочувственно качает головой, словно понимает причины моего беспокойства:
– Не обязательно, Варенька, не обязательно, вы правы. Иногда это попытка развлечься, некий азарт. Психология, природа у ревности сложная. Я считаю ее деструктивным, эмоционально-негативным состоянием. Она результат расхождения представлений о том, как есть и как должно быть. Вы о себе, простите, или о Максиме?
– О нас, – отвечаю я. – Если вообще еще есть это "нас".
– Оно всегда будет, слишком много у вас связано друг с другом. Столько лет жизни не вычеркнешь просто так. Поверьте человеку, любовь которого почти равна длине его жизни.
– Вы очень любили ее? – тихо спрашиваю я старого друга моей любимой бабы Лизы.
Михаил Аронович широко мне улыбается, улыбка эта преображает его морщинистое лицо, делая молодым и привлекательным:
– Почему любил? Люблю. Что изменилось? Она ушла чуть раньше. Я уйду чуть позже. Это ничего не меняет.
– Вы ревновали ее? – спрашиваю, почти не надеясь на ответ. Бабушка не одобрила бы такого личного вопроса. Но я привыкла считать Михаила Ароновича почти дедушкой.
– Да, – спокойно отвечает старик. – Но было это очень глупо, в раннем детстве. Потом, поняв, как она умеет любить... Не меня, другого, я понял и себя. Это трудно объяснить. Но против такой любви время и другие люди бессильны. Как бы пафосно это ни звучало, бессильны войны, революции, болезни, смерти.
Люди и время бессильны против такой любви... Как точно сказано. И вовсе не пафосно.
Мы пьем чай с тающим во рту коньячным тортом. Георгоше на пенсии точно надо открывать свою кондитерскую.
– Как у вас дела? Как здоровье? – ласково спрашиваю я друга.
– Все прекрасно, Варенька, спасибо! – энергично откликается на мой вопрос Михаил Аронович. – В пределах стариковской нормы. Я ж дедушка.
– А вы знали моего дедушку? – решаюсь спросить и об этом.
Михаил Аронович, помолчав, отвечает:
– Знал, Варя. Конечно, знал. Он жил с Лизой в этом доме.
– Вы расскажете мне... – начинаю я, но сосед меня перебивает:
– Меня тут пригласили в одну школу. Как ребенка войны, рассказать о моем отце и том времени. Вот думаю – идти или не идти?
– Конечно, идти! – восклицаю я. – О вашем отце должны знать. Я помню, как любила о нем слушать. Он настоящий герой, спасший столько человек и в госпитале, и в концлагере. Вы из-за него врачом стали?
– Да. Я врач в четвертом поколении, представляете! – важничает Михаил Аронович и достает фарфоровую фигурку. – Смотрите, Варя, коллега подарил. Вы ж поэму наизусть знаете?
Теркин. В зимнем обмундировании, с гармонью, сидит на привале, делает самокрутку. В левой руке кисет. Густая каштановая челка поднялась волной под сдвинутой набекрень шапкой с красной звездой.
На бис декламирую, радуясь возможности вспомнить:
А гармонь зовёт куда-то,
Далёко, легко ведёт…
Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ.
Хоть бы что ребятам этим,
С места – в воду и в огонь.
Всё, что может быть на свете,
Хоть бы что – гудит гармонь.
Выговаривает чисто,
До души доносит звук.
Опьянев от второго куска торта смело напоминаю:
– Что насчет конверта? Вскрываем? – и мы идем в кабинет.
– Я хотела все вернуть, – говорю я столу-императору, грифонам на подлокотниках кресел и сейфу-тайнику.
– А теперь? – осторожно спрашивает настороженный Михаил Аронович.
– Я не понимаю себя. Сегодня я почувствовала, что могу все вернуть, но уже не знаю, надо ли такой ценой, – честно отвечаю я родному мне человеку.
Михаил Аронович выглядит потерянным и расстроенным.
– Я вас огорчила? – беспокоюсь я. Мне бы не хотелось, чтобы старый врач стал сомневаться в своих способностях.
– Вы меня... не огорчили. Потешили самолюбие и профессиональную гордость – да. Но мне не этого хотелось. Впрочем, это тоже результат. Сверяйтесь.
«Мне уже ничего не надо», - читаю я каллиграфически идеально написанное предложение под равномерный ход антикварных напольных часов.
На выразительном лице врача тенью пробегают десятки разнообразных эмоций, от досады до нежности.
– Вы хотели чего-то другого? – догадываюсь я.
– Не важно, чего хотел я. Важно, что надо вам, дорогая моя любимая девочка, – вздыхает Михаил Аронович. – Вы позволите мне сказать?
Мы садимся на диван и старик, откинувшись назад и закрыв глаза, начинает говорить:
– Прожив на этом свете восемьдесят лет и давно приготовившись к тому свету, я считаю себя вправе дать вам еще один совет. То, что я скажу, знают абсолютно все. Кто-то даже понимает. Но действуют, говорят, живут люди, словно это не так. А поймут все, почти все, кто мог уберечь свою любовь, но не стал или опоздал.
Михаил Аронович открывает глаза и выпрямляется, худой, строгий, честный:
– Исправить можно все, кроме смерти. Это трудно, затратно по времени и силам, больно или обидно, сложно физически или психологически. Но можно. И никто не убедит меня в обратном. И я говорю не о прощении изменника, не о склеивании разбитых чувств. Я, внучка самого дорогого мне человека, говорю о любви. Той самой, о которой пишут и будут писать книги, снимают и будут снимать фильмы, той самой, которую не всем дано в жизни встретить, той любви, которую столько людей только мечтают испытать, а к вам она уже пришла один раз и навсегда.
– Михаил... – пытаюсь сказать я, но он не дает себя перебить.
– Варвара Михайловна, – строго и твердо говорит он. – Имейте уважение к старости.
Краснею от стыда и беру его сухую теплую руку в свою.








