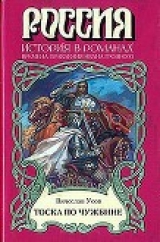
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц)
3
Добравшись до Печор глубокой ночью, Михайло Монастырёв заночевал в стрелецкой слободке, проспал заутреню и по свету отправился в обитель.
У деревянного острога – предбашенного укрепления с мостом через ров – его остановили сперва стрельцы, потом монах-привратник с уныло-недоверчивым лицом. Грамотку от Нагого Монастырёв не мог ему показывать, только сунул под нос печать чёрного воска и велел вести к игумену. Вратарь, не получив привычной денежки, сердито сдал его другому иноку. Тот повёл Михайлу через тройные железные ворота Никольской башни с пристроенной церковью. В каменном переходе было темно и гулко, от стен тянуло застоявшимся зимним холодом. Михайло облегчённо перекрестился, когда за последними воротцами замерцала красная лампада перед образом Одигитрии – воинствующей Богоматери. От церкви по Кровавому пути, плотно мощённому камнем, его повели вниз, к ручью, а затем направо, мимо колодца, к дому игумена.
На крыльце тоже сидел бездельный здоровенный инок, хмуро велевший Михайле оставить саблю, нож и шапку. На саблю он взглянул с заметным вожделением. Вот кого не выносил Монастырёв, так это иноческий чин: сколько они доброй земли запахали, сколько крестьян на них работает, а проку? Он вообще не понимал, зачем нужны монахи. Каждый сам себе богомолец и за свои грехи ответчик...
О задушевном друге Неупокое Михайло думал как о притворно принявшем постриг ради спасения от казни и не верил в бессрочное пострижение. В поручении Нагого он видел туманную возможность возвращения и был убеждён, что Неупокой ухватится за неё.
Сильвестр внимательно, но непонятливо вчитывался в письмо Нагого. Речь шла не о простом свидании. Именем государя Нагой просил или требовал (у царских слуг эти понятия сливались), чтобы Арсению не только дозволили беседовать с Монастырёвым «сколько им надобет», но дали бессрочный отпуск для поездок во Псков или «куда ему путь ляжет, а про то ведает наш посланный да государь».
– Чего просит Афанасий Фёдорович, – укорил Сильвестр, – есть соблазн инокам. Чем Арсений их лучше?
– Чем твой измарагд на перстне лучше простых каменьев? – враждебно улыбнулся Монастырёв.
– Станешь дерзить, я тя окорочу!
Сильвестр переждал волну гнева. Не по чину ему свариться с простым дворянином. Наглый посланец прав: Арсений по уму, по духу подобен изумруду среди цветных стекляшек. Сильвестр испытывал к нему хозяйственную ревность.
– Ступай в братские кельи, тебе укажут.
Мощёный дворик перед трапезной и кельями был, словно сковородка, залит густым солнечным желтком. Майское солнце отражалось в радужной слюде окошек, тепло и тишина настаивались на запахе распускавшегося за стеною сада, оттуда свежо, пьяняще тянуло разгаром весны, любимого времени Михайлы да и всякого воинского человека: весной подсохшие дороги, осыпанные лепестками яблонь, звали к опасным странствиям, изменчивой любви и неизменной военной славе. Михайло не допускал мысли, что здоровый духом и телом Неупокой не испытывал тех же тревожных и счастливых порывов.
Неупокой читал (что ещё делать узнику, посетовал Михайло). В своей унылой ряске и шапочке-скуфье, плотно облёкшей его большелобую голову, Арсений выглядел не то чтобы больным, но как бы подсосанным изнутри, без приличных мужчине запасов. У него и прежде сабельный удар был слабоват, теперь и вовсе обмякла кисть. Михайле, привыкшему к матерым и нагловатым рожам новых товарищей, друг показался каким-то неродным. Они обнялись – сперва с умеренной дружеской теплотой, а через минуту, будто распробовав вкус разлуки и встречи, крепко сжали руки, чувствуя подступающие слёзы. Издалека прихлынуло и охватило их тепло колычевского подворья, и стало до рыданий жаль тех невозвратных месяцев, милых хозяев, разорённого гнезда, и оттого ещё жгучее была радость встречи, означавшей, что они-то живы... Арсений слёзы удержал, Михайло не пытался. Что может быть слаще слёз в первые мгновения встречи? Мгновения эти как первый снег: ещё на пелене его ни лисьих, ни заячьих следов, ни волчьего поскока... А разговор Михайле предстоял нелёгкий, он вдруг усомнился, что Неупокой верно поймёт его.
Тот без заметных сожалений затянул застёжку на книжном переплёте, достал из потайной печуры фляжку и протянул Михайле.
– Ещё поживём, – сказал Монастырёв, утирая глаза и губы. – Ещё поскачем да порыщем... Лх, Алёшка, хорошо на свете, помирать не хочется!
Узкое лицо Неупокоя пересекла морщинка. Он тихо попросил:
– Зови меня Арсением.
Михайло снова ухватился за платочек, вышитый ласковой подружкой. Вернул Неупокою фляжку:
– Кто повязал, тот и развяжет, всё поправимо, друг ты мой любезный! А я к тебе с приветным словом от большого человека, да и с поминком.
Он надел на палец Неупокоя кольцо Умного и повернул как положено. Будто само время, в колечко свёрнутое, повернул. Неупокой смотрел на кольцо как на червя, заползшего на палец.
– Кто же теперь непогожими делами ведает у государя? – спросил он, не поднимая на Михайлу глаз.
– Афанасий Фёдорович Нагой.
– Вот кто тебя послал...
– Алёшка... Арсений! Тьфу, запутаешься с вами! Ты что же, собираешься до конца жизни в обители постничать? У тебя иной норов, я тебя в штаденском кабаке помню!
– То всё ушло, Михайло. Верни перстень Нагому, скажи – отряхнул-де инок Арсений прах мира у ворот обители. Душегубские милости мне не нужны.
– Да ты-то нужен! Война у стен, как конь голодный, ржёт. У тебя некий ключ в руках, тем ключом многие ворота можно отворить. И жизней сберечь не одну тысячу. Ты знаешь цену тайной службе!
Арсений неожиданно улыбнулся:
– Михайло, помнишь моего Каурку? Не ведаю, куда его... А мне не жаль. Прочёл я в некоторой книге, будто в сказках наших есть сокровенный смысл. Три коня – Сивка, Бурка да Каурка – суть три сословия: на сивом священник едет, каурый – воинский, а бурый в соху запряжён.
– Что ж, ты на сивом теперь поскачешь?
– Я к бурому приглядываюсь, Михайло. Один он добро творит. А бьют его без милости и гладом морят. Мне его жаль.
– Давай распряжём его да с голоду передохнем.
– Но и нагайкой гонять его по пашне – всего лишиться!
– Шкура у него не наша, выдюжит.
Однако Михайло был смущён. Он убедился, что с другом за год произошла непонятная, но глубокая перемена и то, что самого Михайлу вдохновляло на службу, на подвиги, Неупокою стало безразлично. Нагой же постарался внушить Михайле, что узник Печорского монастыря вцепится в заветное колечко, только тяни его... Ещё он намекнул, что от успеха этого поручения зависит вся дальнейшая служба Монастырёва. Только теперь Михайло сообразил, что Нагой мог вызвать Дуплева в Москву, приказать и потребовать. Не вызвал, послал Михайлу, – значит, сомневался?
– Арсений, ныне не о пахарях речь. Война шутить не станет.
– Я её видел, знаю. Мерзко.
– Заутра грянет, что станем делать? Прятаться по обителям? Я не на войну тебя тяну, а по дружбе прошу о помощи. Ты с князем Полубенским начал игру, он твою, а не Ельчанинова наживку схватил. В бумагах Посольского приказа только про деньги сказано, что долги Полубенского уплачены, о прочем Ельчанинов невразумительно толкует. А вразумительное – в умной твоей головушке. Оттого, верно, и не срубили её, когда всем рубили. А сил и денег на Полубенского потрачено немало...
– Ещё и жизнь одна невинная потрачена на него.
– Выходит, зря?
В келье повисла ветхая холстинка тишины – так бывает, когда, проснувшись, ждёшь колокола и угадываешь, что эта чёрная холстинка вот-вот порвётся, надо вставать... Но в глубине сознания бунтует, ворчит вчерашняя усталость: не встану! Что-нибудь жалостное наговорю старцу-будильнику...
Неупокой заговорил.
Сперва о самом тягостном – о перстне князя Полубенского, надетом на одеревеневший палец Крицы в Трокайском замке. Служебнику Неупокоя не повезло, когда они проникли в это гнездо литовской тайной службы, и труп его, с кольцом-печаткой Полубенского, вызвал сильные подозрения. Затем про обещание Полубенского не вмешиваться, когда Никита Романович пойдёт на Пренау. По слабости или иной причине, но Полубенский обещание сдержал. Про торговлю именами лазутчиков – Неупокой Граевского продал без малейшего убытка, Полубенский – Генриха Штадена, вовремя ускользнувшего от Умного. Ну а про деньги, уплаченные за него виленским евреям, Нагой знал. В каждом отдельном промахе князь оправдался бы перед панами радными, но вместе они бросали на него слишком чёрную тень, создавая впечатление устойчивой и злонамеренной связи Полубенского с русской разведкой. Паны жили в большой недружбе, в вечном взаимном подозрении, по-волчьи ожидая, кто захромает первым. Чтобы угрызть. Особенно опасен Полубенскому пан Троцкий Остафий Волович, он самого примаса[18]18
...самого примаса... – Примас – в Католической и Англиканской церквах почётный титул главнейших епископов.
[Закрыть] готов подозревать в измене. Такая должность, такая ненависть к Москве.
Известно, прутья можно поломать по одному, веник – не поломаешь. Русские могут подкинуть этот веник прямо к воротам Трокайского замка. Князь Полубенский об этом помнит. Должен помнить.
Ещё одно соображение: Стефан Баторий круто взялся за сплочение Речи Посполитой. Вернётся он с победой из-под Гданьска, магнаты и шляхта объединятся с ним. В такие времена с изменников, с подозреваемых особый спрос. Ведь закон «горлом мает каран быть» означает, что изменнику заливают в горло свинец. Это полезно для сплочения народа перед войной. И это тоже понимает Полубенский.
Увлёкшись, Неупокой заговорил забытым языком тайной службы, словно к нему вернулось прежнее рвение, когда он жизней невинных не жалел ради успеха. Опомнившись и устыдившись, он замолчал. Живым видением возникло перед ним длинное наглое лицо князя Александра, подпорченное порочной жизнью и внутренней привычной лживостью, но с человеческим укором в сталистых глазах. Вот сидит человек в Инфлянтах и не подозревает, что в тесной келейке Печорского монастыря затягивается на сетке для него последняя ячейка. Опальный инок и сын боярский из обедневших княжат ломают его судьбу... А может быть, как раз подозревает, мучается воспоминанием, ищет лазейку и такую же возможность оправдаться, какую год назад нашёл Филон Кмита? Но Кмита честно признал свою промашку, а Полубенскому сей путь заказан – и по обилию промашек, и по характеру. Он предпочтёт солгать.
Колокол медным трепетом наполнил келью. Пора было идти к обедне. Арсений повёл Михайлу в пещерную церковь. Мостки к ней вели мимо «Богом сданной пещеры» – подземного склепа для иноков. Арсений на минуту завёл туда Михайлу – поклониться праху строителей обители и просто поглядеть. Такого Монастырёв ещё не видел... Но, заметив, как он резко помрачнел и съёжился при виде дубовых колод с покойниками, Арсений быстро вывел его на Божий свет.
Подземный Успенский храм тоже не произвёл на Монастырёва радостного впечатления. От земляного свода, подпёртого кирпичными столпами, стало ему душно. Он едва следил за службой, спохватываясь, когда креститься, кланяться. Руки стали тяжёлыми, чужими. Всё время помнились мертвецкие колоды за земляной стеной. После стояния в ожидании казни на Поганой луже здоровое сознание Михайлы сумело изгладить саму мысль о неизбежной смерти. Тут вдруг навалилось, окатило земляным холодом. Он понимал: причина – близкая война, где его могут убить. Он жадно хватанул воздуху, сквозившего из-за царских врат, и зашептал молитву. Отпустило.
Службу вёл сам игумен. Его белые руки завораживали молящихся, отвлекая даже от сияющего образа Успения Божьей Матери. Михайло следил за их обдуманным полётом, помаванием и воздыманием и думал, что, наверно, он так же не прав в своём раздражительном отношении к другим сословиям, как и Неупокой. Нельзя считать ненужной, тунеядной деятельность духовных, как несправедливо называть «порозитами, сиречь подобедами» дьяков и воинских людей, в одном крестьянском труде видя правду и спасение. Сказано: не мир, но меч! И о духовных: не хлебом единым... России никуда не деться от войны, её придётся проволочь по летним дорогам, как тяжкий воз, хотя и сам Михайло, и десятки его знакомцев предпочитали мирную службу. Мирную, но денежную, сытую – вот в чём загвоздка. Война – это земля и деньги... Но если ты обречён на смертельную опасность, как обойтись без слова надежды и утешения?
Все сословия и чины необходимы в государстве, приходил к выводу Михайло, вовсе уже отвлёкшись от литургий. Государь с приказными и думными людьми должен приглядывать за всеми. Порядок нужен, домострой, строение дома. Наверно, в такой возраст входил Монастырёв, когда строение дома кажется главным, прочее – суета. Он обещал себе: вернусь с войны, займусь своим имением, покажу, каков хозяин новгородский дворянин. Не только чеканами можем махать. Господи, дай вернуться, а рану нетяжёлую, да золотой на шапку. Более ничего не нужно, остальное – сам...
4
Тринадцатого июня 1577 года царь прибыл в Псков.
В городе скапливались войска. Покуда война не началась и никого, кроме посошных мужиков, не задела болезненно, убыточно, псковичи за своё беспокойство получали от неё немало прибыли. Как ожидалось, вздорожал овёс, за ним припасы – вяленая рыба, сушёное мясо (в походе, как и в странствии, посты не соблюдались), сало, сыры, мука. За две недели были распроданы запасы кожи и железа. К постоям жители порубежного города привыкли, Ливонская война тянулась более десятка лет.
Судя по толчее на улицах и росписи полкам, в поход на Южную Ливонию – Инфлянты – поднялась едва не вся дворянская Россия. После смотра в Новгороде один только Большой полк увеличился едва не вдвое, в нём стало почти четыре тысячи детей боярских, не считая их боевых холопов. Четыре тысячи татар, мордва и черемисы усиливали впечатление пестроты. Всего детей боярских и дворян собралось одиннадцать тысяч, около шести тысяч стрельцов, полторы тысячи казаков и четыреста семьдесят пушкарей. Полная роспись, поданная государю через неделю после прибытия во Псков, насчитывала шестнадцать тысяч пятьсот пять человек.
– Пятеро – это мы, которые тебе, государь, замки без крови отворят, – сказал Афанасий Фёдорович Нагой. – Тайная служба.
– Хвалилась кукушка, – поощрительно засмеялся Иван Васильевич.
Обычная неуверенность, мучившая его перед началом всякого рискованного дела, уничтожалась внушительными цифрами. Он постоянно напоминал себе и ближним, что Баторий осаждает Гданьск, а у Ходкевича в Инфлянтах не наберётся двух тысяч шляхтичей и драбов. Особенно приятно было известие, что московитов всё ещё ждут под Ревелем, на севере.
– Я чаю, – осмелился шутливо возразить Нагой, придав своему голосу мягкость персидского бархата, – что пушки, кои посошные сегодня во Псков втащили, можно бы дальше не волочь.
– Наряд пришёл! – обрадовался государь. – Молодец. Воронцов, я его запомню.
Он ценил свой пушечный наряд, его слепую огненную мощь, чем-то родственную царскому гневу. Охотно награждал мастера Чохова за всякое художество, даже не воплощённое в железе, – многоствольную станковую пищаль или осадную пушку в виде пенька, полуаршинным дуплом глядящую в небо. Сегодня тринадцать тысяч мужиков и четыре тысячи лошадей втащили в Окольный город сорок четыре орудия: «Орла», стрелявшего двухпудовыми ядрами, «Медведя», «Соловья Московского» и «Волка» с ядрами по пуду, двух «Девок», «Собаку» и «Лисицу». Эти считались тяжёлыми пищалями, а пушки «Павлин», «Кольчатая» и три «Ушатых» бросали ядра по тринадцати пудов.
Грохочущая мощь оставила Нагого равнодушным. Он предпочёл бы, чтобы в предстоящем походе было поменьше шуму, а больше тихих, убедительных речей. Всякое ведомство старается выпятить своё значение; Афанасий Фёдорович был убеждён, что его Приказ посольских и тайных дел сыграет в этой войне решающую роль. Но государя завораживали числа – вес ядер, количество посошных и воинских людей... Нагой умел вовремя уходить в тень.
– Принц Арцымагнус явился по твоему указу, государь.
– Много с ним немцев?
– Четыре сотни, государь. Да пешие гофлейты. Надо бы их вперёд пустить. В замках все коменданты – немцы.
– Подумаем.
Это означало – думай ты, Афанасий. Представь соображения. А государь, как по черновику, пройдётся правящей рукой.
Датскому принцу Магнусу, королю Ливонии, Нагой не доверял. Тот не был в большой чести у немцев, а шведы и литовцы вовсе его не признавали: «голдовник русского царя...» Выдавая за него дочь отравленного князя Старицкого, ещё игравшую в куклы, царь дал за нею только тысячу крестьян, ставших по ливонским законам крепостными, два замка в Западной Ливонии да сундук с платьями, а про деньги сказал так: «На них ты, чего доброго, наймёшь войско, и нам придётся отбирать у тебя замки кровью. Конечно, ты честного королевского рода, но ты человек...»
Магнус был человеком слабым и неудачливым. Стоило ему выехать из собственного замка, оставив в нём жену с двумя приёмышами – не его ли незаконные дети? – как туда ворвались шведы, всё погромили и пограбили. Тысячу мужиков он раздал своим рыцарям и мызникам, испытывая постоянную зависимость от них. Он дважды осаждал Ревель, один раз – Пайду, всё безуспешно. Но теперь, явившись во Псков, потребовал главенства над всеми русскими и немецкими войсками в Ливонии. Нагой догадывался об истоках этой неожиданной самоуверенности.
До ливонских немцев дошло наконец, что только Магнус, опиравшийся на силу Москвы, способен защитить их хозяйственную самостоятельность от литовцев, шведов и самих московитов. Им было выгодно иметь такого короля, как и Ивану Васильевичу: сама слабость Магнуса служила гарантией от опасных неожиданностей. Выгоднее было сдать замок Магнусу, нежели русскому воеводе. Покуда Магнус правит частью Ливонии, помещики-мызники могут рассчитывать на сохранение своих земель и крепостных порядков. Русский наместник поломает всё.
Тут чаяния немецких и русских землевладельцев не совпадали. У безземельных детей боярских с начала войны горели глаза на обихоженные земли, населённые трудолюбивыми и подневольными крестьянами – эстами, латышами. Взятие Юрьева, а позже Пайды и Пернау сопровождалось раздачей имений-мыз, отобранных у немцев. И поход в Инфлянты должен был завершиться тем же... Наконец, было бы неосмотрительно отдавать Магнусу лишние замки, то есть власть над страной. Поэтому решили, что управление его распространится только к северу от реки Гауи, или Говьи. Там жили эсты, а к югу – латыши.
Афанасий Фёдорович надеялся, что Магнус возьмёт свои замки без крови. Не дураки же немцы, чтобы ждать подхода русских. К югу от Гауи замками правили литовцы во главе с вице-регентом князем Полубенским. Он внесёт свою долю в это бескровное завоевание, каким представлялся Нагому новый Ливонский поход. А пушки, что ж, – они понадобятся, когда свежие войска подойдут к Риге. В ней видел Афанасий Фёдорович главную цель. Но он никак не мог понять, какую цель поставил перед собою государь.
5
«Трисолнечного Божества благоволением, и благостью, и волею...»
Нагой хотел, чтобы Иван Васильевич направил князю Полубенскому короткое письмо с грозным намёком на прошлые дела. Иван Васильевич едва сдержался, чтобы не прибить Нагого. Царь не торгаш, готовый на сделку с душегубцем и предводителем разбойничьей ватаги из драбов и вольных «рыцарей». Послание царя должно быть грозным и поучительным, в нём будет главенствовать одна высокая и не затёртая от злоупотребления мысль, как в церковной проповеди. Иван Васильевич избрал тему самодержавства.
Он начал, как всегда, издалека. Истоки жизни на земле, Адам и Ева, убийство Авеля и древняя история народов – всё подтверждало самодержавный символ веры, который Иван Васильевич вколачивал в сознание Полубенского: не тщись избегнуть общей участи, одолеть волю Божью, направленную на создание всемирного правильного и сурового порядка. Люди охотно уклоняются от истинного пути. «Но человеки есть нечисть родственная». Потому люди не могут без царя: «Бог, сходя к немощи человеческой, и царство благословил». Он же дал государям образец власти в мудрости царя Давида и самодержавии кесаря Августа, ему же «дарова не токмо римскою властию, но и всею вселенною владети».
Владеть вселенной... Это не только радость самодержца, но и благодеяние народов. Объединив их, враждующих бессмысленно, отец-единодержец, обладая мудростью Давида, сделает мир счастливым. Это объединение будет предшествовать Страшному Суду, ибо он наступит не раньше, чем душам станет тесно в загробном мире. Не для того ли неисповедимой волей создаются великие государства, умножая народы и сталкивая их в кровопролитных войнах?
Иван Васильевич отчётливо видел нить, протянувшуюся к нему от повелителя вселенной Августа: «Еже Август кесарь Римский... постави брата своего Пруса... от Пруса четырнадцатое колено – Рюрик прииде княжити в Русии и Новгороде». Вот чей прямой потомок удостоил тебя писанием, «нашего княжества Литовского дворянин думный и князь Олександр Иванович Полубенский»!
Робкий вздох писца сбил мысль Ивана Васильевича. Он поиграл железной свайкой – не поучить ли дурака? Писец был верен и добросовестен, и если позволял себе робкое сомнение, то по важнейшему поводу. На чём же он споткнулся, бедный?
На словах «нашего княжества Литовского». Упёрся подслеповатыми глазами в стенку, сказать боится. Не воспаряет узкий разум в высоты, открытые царю. Иван Васильевич не оговорился: нашего! Истина – это то, что существует не сию минуту, а протяжённо, на обозримом отрезке времени, в истории. Литва прирастёт к России по естественному закону собирания земель, как и Киев с городками, и вся Ливония, и Польша... Королю Баторию он так писать не стал бы, а Полубенскому надо напомнить: давно ли ты, дуда скоморошья, клялся Ельчанинову, что будешь голосовать за наше царское величество?
– Так и пиши: «Безгосударское место Литовское».
Пусть хоть на миг, читая послание царя, князь Полубенский заглянет в будущее. Заспотыкалось пёрышко – непривычно ему после божественных глаголов вдруг перейти на эдакое: «Ты вицерент над висельниками, которые из Литвы от виселиц ушли! С тобою ни единого доброго человека нет из Литвы, а то все воры, да тати, да разбойники. А владеешь – городов с десять нет, где тебя слушают. А Колывань за Свейским, а Рига особе, а Задвинье за Кетлером... Всего у тебя ничего!»
Нагому с его посольскими понятиями не понравится письмо. Не скажет, но подумает, что такой глумливый конец не соответствует торжественному зачину. Иван Васильевич не унизится до пояснений. Надо быть глухим к письменному слову, чтобы не уловить всей убийственной прелести этого перепада. Он ещё добавил скоморошества, уподобив Полубенского целому набору свистелок – дуде, пищали, самаре, разладе, нефирю (то всё дудино племя!). Нехай у всех создастся впечатление, будто Иван Васильевич читал, читал князю мудрую книгу наставлений, потом закрыл её и врезал по сусалам медным корешком!
Писец, уловив наконец замысел, смеялся вместе с государем. «А пишешься Палемонова роду, ино ты полоумова роду». Литовские магнаты вели свои роды от Палемона, племянника Нерона, бежавшего от свирепого дяди на Неман. Укусив, надо догрызать. Иван Васильевич сделал последний заход в историю: «А с сею есмя грамотою послали к тебе воеводу своего князя Тимофея Романовича Трубецкого, Семёновича, Ивановича, Юрьевича, Михайловича, князя Дмитрова, сына великого князя Олгерда, у которого твои предки Палемонова роду служили». Князь Трубецкой самой короткой цепочкой был связан с великим князем Литвы Ольгердом. Трудно найти более подходящего посланца к гордому Полубенскому.
И адрес был поставлен со всеми титулами: «Великого княжества Литовского дворянину доброму, князю Олександру Ивановичу Полубенскому, дуде, вицеренту блудящего рыцарства Ливонского разогнанного, старосте Вольмарскому, блазню». То есть шуту!
То же, ради чего было написано, по представлению Нагого, это письмо, уместилось в трёх строках: «И ты бы меж нас с Степаном Обатуром миру не рушил, и на кровопролитие християнское не прагнул, и из нашие бы вотчины из Лифляндские земли поехал со всеми людьми, а мы своему воинству приказали, не велели литовских людей ничем крянути».
Так это удивительное послание и полетит в Инфлянты с Трубецким, а там и дальше, выше – в смутные небеса грядущего.







