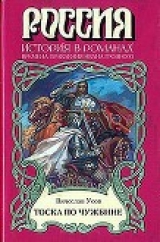
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 42 страниц)
Не сразу они увидели в Антонии врага. Население острова стало подозрительно увеличиваться. Пришельцы возвели церковь Троицы. Недалеко стоял их же амбар с вяленой рыбой, запасённой на зиму. Однажды осенней ночью он запылал, огонь метнулся на церковку... «Само возгорелось, – мглисто усмехался Заварза. – Мы понадеялись – не решатся-де святые отцы остаться в зиму без припасов. Остались, не устрашились. Церковь отстроили заново. Потому – деньги завелись у них, великий князь подсобил. А нам от Москвы никакой помочи николи не шло, хоть в голодные годы. Им – пошло». Ещё бы: иноки молились «о плоду чрева» юной красавицы Елены Глинской...
Антоний пробовал сломать крестьянский мир изнутри, деньгами привлекая к своим работам малоимущих и настраивая их против «мочных хозяев» вроде Заварзы. В скудные годы это удавалось ему. Игнатий убеждался, что вовсе не мир нашёл на тихой речке Сии, а ту же неуёмную вражду, от которой бежал из Москвы.
Тогда, под треск купальского костра, он и решился заговорить об учении Феодосия Косого. Крестьянам, в изумлённом молчании слушавшим его, нетрудно было догадаться, кто чада, а кто – псы. Даже Харитон не возражал, притомившись службой и застольем, а Заварза воскликнул с облегчением:
– Вот ты хто? До нас, милый, сие учение в пересказе доходило, да путали люди много. Вроде как ты посланный того Федоса?
Игнатий строго опустил глаза...
Из всех купальских игр, осуждённых Церковью, общим было веселье у костра. Первыми прыгали через него молодые парни, мощно отталкиваясь от кочки длинными ногами прирождённых охотников и пастухов. Игнатий смотрел, как они летят через костёр, опаляя босые пятки и выгоревшую крашенину портов, плотно обтягивавших мускулистые икры, и что-то обнадёживающее мнилось ему в этом полёте. Он приборматывал: «Сила, сила...» Вспоминалось постороннее: решёточные сторожа на улицах Москвы возле таких же ночных костров, разъезды детей боярских вокруг Кремля. К чему сие? Сопоставление несопоставимого мучило Игнатия, как неразгаданный, но многозначительный сон.
Когда шальной огонь унялся (зато невидимым столбом поднялся над углями стойкий жар), начали прыгать девушки и молодые семейные мужики. Прыгали в очередь – то девка, то мужик. В их негласном соперничестве чудилась некая скоромная подоплёка, будто женатые показывали, что ещё не прочь погоняться, была бы тропка да тёмный лес. И молодухи были, видимо, не прочь... Вдруг через рассыпавшийся костёр с диким козлиным криком метнулся старый Заварза, вызвав общее ликование. Его долголетняя крепость внушала сельчанам надежду не только на собственное здоровье – кровь одна! – но и на стойкое благополучие всего их чёрного мира.
В живом свете лучин дышали тесовые плахи пола, до желтизны отмытые с песочком. С началом августа ночные зори гаснут, во благовремении наступает тьма, сообщница тайных дел. Люди, собиравшиеся в просторной нижней горнице Заварзы, знали, что дело их тайное, но благое, как и всякое взыскание истины.
Игнатий толковал крестьянам учение о Троице – откуда оно явилось и в чём противоречит разуму. В Евангелии не сказано о Троице, а только о сошествии Святого Духа, он же – Слово, благая весть. Образ Бога обретал единство, мир тоже становился ясен и един. Крестьяне чувствовали себя избранными чадами, поставленными превыше тех, кто до сих пор давил и обирал их, а правды божественной не знал. Боярская власть, освящённая заблудшей Церковью, теряла грозное обаяние.
Всё это крутым тестом ворочалось, перемешивалось и запекалось в горячих мужицких душах, внезапно озарявшихся догадками и старыми обидами. Слова же рождались трудно, крестьяне охотней слушали, откликаясь одними вздохами. Игнатия, привыкшего к вольным беседам с болтливой монастырской братией и языкастыми посадскими, внимательная тишина скорее тяготила, за нею чудилось непонимание. «Вопрошайте!» – взывал он к людям, боясь, что свет, открывшийся ему, не достигает непроглядных печных глубин. Смущённый ропот отвечал ему из полутьмы горницы, одни хозяева Заварзины решались на вопрошания от имени молчаливого мира.
Непостижимым путём они приземляли самые возвышенные вопросы, переходя от учения о Троице к праву Антония на ежегодные поборы. Вдруг перескакивали на подати вообще: кому и за что их платят?
Заявление Игнатия, повторившего слова Косого, что подчиняться земным властям «не подобает», вызвало замешательство и робкую поправку Кости Заварзина: подати-де идут в казну на управление государством. На что другой крестьянин возразил сердито, что деньги больше не на управление, а на воинский чин идут.
Так, переваливаясь из божественной в мирскую колею, шли тайные собрания в доме Заварзы. Игнатий не обманывался – тайна была непрочной, в лучинной полумгле скрывались и несогласные с учением, и просто соглядатаи Антония. Зато и проповедовал он самозабвенно, горячо, с готовностью принять мучение, гонение. Смысл собственной жизни открылся ему.
Гонение настигло его раньше, чем укрепился лёд на Сии.
Однажды, когда Игнатий, сотворив молитву, готовился ко сну, старец-будильник позвал его к игумену. Антоний жил в отдельной избе, в верхней её светлице, а ниже, в подклете и горнице с зарешеченными окнами, хранилось монастырское имущество. При входе старца-казначея или келаря скрип деревянных шипов и петель тревожил Антония, но он не велел смазывать их маслом. Здоровая запасливость с годами вырождалась у него в мелочную прижимистость и подозрительность.
Едва Игнатий, согнувшись под низким косяком, переступил порог Антониевой кельи, сзади его схватили и вывернули локти. Со скрученными вервием руками Игнатий выслушал приговор:
– Ты сеешь смуту в сём тихом крае. Речи твои о Троице ребячьи, с чужого голоса козлом поёшь. – Игумен удовлетворённо переждал басистое хихиканье иноков. – Мы слово Божье и просвещение несём в эту тёмную страну, ещё одну свечу возжигаем под хладными небесами. Ты, книжный человек, тщишься задуть её. Посему, составив перечень прегрешений твоих, пошлю тебя в Москву на святительский суд.
Иноки развернули Игнатия и вытолкали в сени. Антоний крикнул вслед:
– Страна наша велика, да скрыться тебе в ней негде, бумага из-под земли достанет!
Последнее игуменское благословение промыло Игнатию очи. Только теперь он понял, как прав Косой. Но в каморе воротной башни, куда его вкинули, наказав вратарю беречь еретика пуще самих ворот, Игнатий возблагодарил Господа за неисповедимость путей его: Косой в Литве только своё учение спасает, а Игнатий духовными детьми обзавёлся, у него теперь и в зарубежье будет о ком помнить, кого любить... Всё его дело ещё впереди!
Оказия в Москву задерживалась. Человеку же приходится есть руками, а не по-собачьи – пастью. На третий день с оголодавшего Игнатия сняли верёвочные путы. Два дня он отъедался и отлёживался. Ночью в стожок сена под стеной кто-то швырнул горящее смолье, огонь перекинуло на крытую корьём конюшню – и церковь Троицы в четвёртый раз оказалась в огненной опасности.
Парнишку из монастырских детёнышей, в переполохе сбившего замок, Игнатий не узнал, но на той стороне протоки его, мокрого до нитки, ждал с сухой крестьянской одежонкой Костя Заварзин. Он знал такие тропы, какие ни монахи, ни сам землепроходец Антоний не разведали.
Северная дорожка в Литву была уже протоптана. Из Соловков по ней недавно бежал старец Артемий, да и не он один...
3
– Ты возвращался к ним? – спросил Неупокой Игнатия. Он мог не спрашивать: ломаные морщины морозными трещинами метили щёки странника. Призвание, открывшееся Игнатию на далёкой Сии, обрекло его на дорожную тоску, на испытание бездомьем, голодом, пространством...
Крестьяне Псковщины охотно принимали учение Косого о едином Боге, о человеческой, а не божественной сущности Христа и особенно о «самовластии», то есть свободе и равенстве людей перед властями. Неупокой, выдумывая дела то в Пскове, то в дальних сёлах, испрашивал у игумена «отпуски» на несколько дней, чтобы сопровождать Игнатия. Они устраивались обыкновенно по ночам в самой большой избе, куда сходились мужики ближайших деревень. Неупокоя поражало, как жадно они искали не сокровенного, а житейского смысла в Писании, толкуемого Игнатием ясно и непредвзято. Притчи о талантах, зарытых в землю, о блудном сыне и девах, вовремя запасшихся маслом для светильников, находили у крестьян неожиданный отклик: они сочувствовали другому сыну, не бродяге, всё время помогавшему отцу вести хозяйство, но не удостоившемуся заклания тельца; над незапасливыми девами они смеялись, как над дурными, бесхозяйственными жёнами, и радовались разъяснениям Игнатия, что труд их, зарытый в землю, даёт им вечное право на неё.
Лишь притча о смоковнице, проклятой Иисусом за бесплодие, вызывала их дружное недоумение: ведь сказано, что «время смокв ещё не подошло», чем же дерево виновато, что Христу не ко времени захотелось плодов его? Об этом, возвращаясь под утро в дом Вакоры, заговорили Игнатий с Неупокоем.
– Сколько брожу я по крестьянским хижинам, – признался Игнатий, – и слушают они меня прилежно, а одно сомнение одолевает меня: что, если время их смокв ещё не подошло? Толкую им о самовластии, а утром они идут на урочные работы – проруби расчищать, в извоз...
– Ты хочешь, чтобы они за дреколье схватились?
Они брели по звонко-мёрзлой, с обледенелыми горбами, разъезженной дороге, особенно глухой об эту тёмную пору конца Рождественского поста. В предрассветном сумраке, мешавшемся с лунным светом, сосновые леса по обе стороны долины пограничной Пиузы были непроницаемы и заворожённо-тихи. Множество близких и дальних деревушек укрылось за лесами, как древле укрывались от татарских и немецких набегов, а ныне, похоже, от своих... Возьми их там, в засеках, если они заупрямятся и встанут дружно за свои права, объединённые крестьянской «рабьей» верой!
– Я вот об чём подумал, – задумчиво проговорил Игнатий, – что, если печорским старцам дать бой, как на Сии? Только без сожжения церкви...
Дня через два Арсений испросил у старца-казначея разрешения заглянуть в денежные книги последних лет. Тот выдал ему восемь кормовых и оброчных книг и оставил на утренние часы в монастырском хранилище.
Арсений определил, что доля земли, которую крестьяне пахали на монастырь, выросла за четыре года вдвое. За монастырскую пашню казна не требовала податей. А они росли – «на ямчужное (пороховое) дело», «на вспоможенье ратным людям», на строительство дорог. До 1570 года число крестьянских дворов в монастырских деревнях возрастало, а позже – будто мор прошёл. Тех, кто оставался в крестьянском звании, не переходя ни в бобыли, ни в детёныши, старцы отягощали новыми оброками, требовали денежного содержания всевозможных работников – кирпичников, плотников, «за извоз», «за проруби» и даже за какие-то мясные «полти, и за гуси, и за сторожи, и за овчинное дело». Оброк поднялся до рубля за выть! За то же время хлеб в Замосковье подорожал в полтора раза, на Севере – вдвое. Значительную часть оброка старцы брали хлебом, но по старой, десятилетней давности, цене...
Уворовав листок бумаги из казначейской стопки, Арсений выписал долги деревень по Пачковке и Пиузе. Переждав Рождество, чтобы не омрачать праздник ссорами, он отправился в новый обход. Нечаянно или по наитию Неупокой приурочил его к двадцать девятому декабря – памяти младенцев, убитых по приказу Ирода, искавшего новорождённого Христа. В России в этот день детей с постели поднимали розгами.
В избах Мокрени, Прощелыки и Лапы Ивановых стоял весёлый визг, перемежавшийся внезапными воплями, если кому-то перепадало всерьёз. Горше всех орали чада Лапы, припоминавшего им прошлые провинности и лень. К нему первому Неупокой и торкнулся.
Его не ждали. «Благослови, Господи» повисло в кисловатом и лёгком воздухе протопленной по-чёрному и уже проветренной избы. Лапа растерянно стоял под полатями, испытанным детским убежищем, но не с лозой, а с настоящей ремённой плетью с костяным грузиком на конце. Предмет невиданный в крестьянской избе и уж тем более не предназначенный для ритуального избиения.
Лапа отшвырнул нагайку, будто резная рукоять обожгла ему руку. Корявым чёрным пальцем ноги он даже подпихнул её поглубже под лавку. Неупокой, по-своему объяснив его смущение, на ту же лавку сел.
Но Лапа не успокоился, а заходил вокруг с видом обездоленного пса. Неупокою надоело, он нагнулся и поднял нагайку.
Её затёртая костяная рукоять маслянисто блестела, от сплетённых ремешков ещё тянуло лошадью. Вдоль витой серебряной проволоки на рукояти просматривалась надпись: «Шарап».
Дыхание у Неупокоя перехватило: Шарапом звали его предшественника, утопшего – утопленного? – в Пачковке. Арсений, сказать по правде, тогда на Мокреню погрешил, но разбирать душегубство отказался. Однако дело твоё тебя и под землёй найдёт!
Лапа вёл себя по-юродски: отбежал в угол к иконам и стал пришёптывать что-то святому Власию, ярко намалёванному на зелёном поле. Неупокой спросил:
– Коня куда дел?
– Детёныши поймали, – скрипнул Лапа. – Нагайку я в траве сыскал.
– Что же, ты его один решил али в сговоре?
Дети притихли на полатях, перестали хлюпать. Одно и слышно было, как шершавые пятки Лапы шаркают по глиняному полу. Из-за кухонной занавески выглянула его могучая жена. Лапа косо оглянулся на неё и вдруг деревянно, с маху ударился коленями об пол. Неупокоя пробрал озноб от ног к животу. Из Лапиных неповоротливых губ протянулось, как слюна:
– Помилуй, святой отец! Помилуй...
Внезапное раскаяние настигает душегубцев и покрепче Лапы. Совесть годами задыхается под тяжестью греха и вдруг бунтует, вырывается... Иные даже казнь принимают как избавление.
Неупокой спросил:
– Он тебе больше прочих досадил? – Лапино «бес попутал» он прервал окриком: – Не уклоняйся! Ты с чернецом, а не с губным старостой говоришь.
Знала или нет хозяйка об убийстве, но бабьим сердцем сразу угадала, что от решительной этой минуты вся жизнь её семьи зависит. Бросившись рядом с мужем на колени (но не с размаху, а тяжеловесно опершись на руку, измазанную капустной начинкой), она сумела произнести одновременно:
– Не губи нас, отец святой! – И мужу: – Кайся, как на духу, ор-рясина!
Рядом с её рыдающим и злобным визгом – на неожиданное несчастье, на судьбу! – голос Лапы звучал почти равнодушно. И прежде поражало Неупокоя, как ровно, отчуждённо рассказывали убийцы о том, что составляло их мучение. Словно чужими руками Лапа окунал Шарапа головою в неглубокий омуток.
Только однажды нераскаянная страсть прорвалась у него:
– Он землю ел, что изведёт нас с Прощелыкой в половники, как Мокреню!
– Ел?
– Горстью! Схватил с борозды, раззявил рот и запихал. Ажно забыл себя от злобы. Вот, говорит, землю ем, что не дам тебе подняться, а станешь ты одну обительскую пашню раздирать да за кусок хлеба мне в ноги падать!
– За что он ненавидел вас, семьянистых?
– Мы, видно, старцам супротивники. В то лето я ему на псковском Торгу ненароком цену сбил. Он два воза овса привёз, да я один... Ненароком получилось.
– Нынче ненароком, завтра...
– Воистину, отец святой. Он так и баял. Нам-де волю дать – монастырское хозяйство в запустение придёт.
Рука Неупокоя сама легла на оплешивевшую голову преступника. Блёклая кожа с остатками волос была орошена прохладным потом – как при горячке, когда минует смертельный жар. На Неупокоя глянули глаза измученного вола.
– Встань, – велел он Лапе. – Слушай прилежно. Грех твой неискупен, ответишь за него перед Божьим престолом. Но добрым делом сможешь облегчить свои мучения. Сколько денег вы соберёте всей деревней до Крещения?
Невыносимо было даже то краткое мгновение, когда Лапа догадливо заглянул ему в глаза... Неупокой задрожал побелевшими губами и, забыв о чёрном клобуке, стиснул нагайку:
– Ты об чём подумал, смерд, пёс?! – Зеленоглазый Власий воззвал из угла, Неупокой очнулся. – По себе судишь, стяжатель? Вот у меня грамотка с вашими долгами. Для вашей пользы надобно всей деревней разом рассчитаться со старцем-казначеем. Осилите?
Лапа читать не мог, разбирал цифирь. Он живо подсел к лучине, почти не гаснувшей в короткие рождественские дни. Жена его, отставив каменный зад, затопала на кухню. Она была убеждена, что запах пропечённого, пропитанного капустным соком теста способен размягчить самое ожесточившееся сердце...
...Крещенские морозы поторопились, ударили второго января. Полозья семи саней, подтянутых к воротам монастыря заиндевелыми лошадками, визжали настойчиво и пронзительно. Замерзшая стража, не спросясь начальства, поторопилась впустить крестьян с припасом, радуясь, что кладовые обители не пустуют. Только в ограде, когда передний возчик Прощелыка начал придерживать своего вздорного конька на спуске к нижним кладовым, на него налетел подкеларник:
– Куды в неурочное время? Служба второго часу дни идёт!
– У вас всё служба, – морозно огрызнулся Прощелыка, – а у нас хозяйство! Нам неколи часы считать. Ин подождём келаря да посельских, рассчитываться с вами станем. Вишь, деньги привезли, и хлеб, и полти.
Полти – разрубленные пополам коровьи туши – высовывали из-под рогож сизо-красные ноги и окорока. Крестьяне по совету Лапы Иванова забили всю лишнюю скотину, чтобы не скармливать ей сено, а мясо – в морозы оно до середины марта пролежит! – решили сдать по цене псковского Торга. Старец-казначей упрётся, но тут уж придётся стоять стеной. Даже Мокреня соглашался стоять стеной, почуяв силу мира.
Вскоре и келарь и казначей забыли о молитве. В нижнем дворе, у каменно замерзшего ручья, крик стоял, как возле лотка менялы. Детёныш, бравший воду из колодца, так заслушался, что у него прихватило ведро. Вода в том году стояла высоко, мороз упорно стягивал её в игольчатые кристаллы, на срубе нависли ледяные глыбы...
Посельский старец Трифон кричал Арсению:
– Какой ты пристав, если не надоумил сих уродивых, что долги им даны не на едино лето! Нихто покуда с них платы не требует. Што за притча, прости Господи, што за спех?
– Они расторговались, деньги появились, – смиренно оправдывался Неупокой. – Для чего честному крестьянину в долгах коснеть? Да и обители прибыток.
– Какой прибыток? А рост?
Ляпнув, Трифон прикусил язык. Не следовало так откровенно показывать крестьянам, что монастырь, подобно ростовщику, наживается на них. Послушники и стрельцы из охраны ворот, чувствуя свою промашку, вздумали было заворачивать мужицких лошадей – дескать, не в срок явились, сами виноваты. Стёртые копыта оскальзывались на обледенелой дороге, вышла одна неприличная замятия, Прощелыка размахался тяжёлой рукавицей... Наконец явился игумен Сильвестр.
В последние недели он чувствовал себя неважно, весь сосредоточился на внутреннем состоянии и в денежные дела не вникал. Хозяйством заправляли келарь и казначей, забывшие, когда отчитывались перед соборными старцами. Поэтому игумен никак не мог понять намёков казначея.
– Отдали тебе деньги, ну и выбели из книги их долги, – сказал он, поворачиваясь к дверям подземной Успенской церкви. Келарь с другого бока что-то возмущённо зашептал ему, указывая на полти мяса. Сильвестр взглянул на них брезгливо: – Продай! Рыбы купишь.
– Господи, да в продаже ли дело! – взвыл старец-казначей. – Отец строитель, да задержись на миг! Ведь разоряют нас крестьяны!
– Как?
Злоумышленникам трудней всего отвечать на простые вопросы. Казначей начал объяснять и запутался. Наверное, игумену из той глубины или выси, куда уходит внутренний человек, готовя себя к самому значительному и страшному, а для монаха – долгожданному событию, смешно и жалко было слушать его.
Слабо улыбнувшись, Сильвестр обратился к Арсению:
– Ты приставом у сих честных поселян? Так не твоё ли дело присмотреть, чтобы не обманули их?
Во всём он разобрался... Но, как странник в пути, без сожалений сбрасывал и стоптанные поршни, и пропотевшие онучи: тлен!
Но келарю, и казначею, и посельским старцам ещё хотелось долго топтать житейские дороги, дышать и радоваться. Они уже прикидывали, переглядываясь, как разберутся с мужиками и Арсением после ухода игумена. Трифон свежим глазом присмотрелся к мужикам, поразился огню, льдисто полыхавшему из-под заиндевелых ресниц, и, вспомнив, видно, что жить ему нечем, кроме трудов этих раскалённых людей, до времени смирился:
– Добро, страдники. Сдавайте припас да приходите в малую трапезную с деньгами. Там посчитаемся, нихто вас не обманет.
Сани, с болезненным визгом отдирая примерзшие полозья, потянулись к кладовым.
Прошло четыре дня. В канун Крещения грянуло необычное тепло, с северо-запада наволокло серых, набухших снегом туч. Всенощную стояли под пение метели. Даже в пещерный храм затягивало воздух со свежим снежным запахом, от алтаря веяло не ладаном, а мёрзлой хвоей. Но язычки свечей стояли прямо, как лезвия ножей... Свечи в ту ночь полагались на всю братию, каждому своя. Грубо отёсанные каменные своды и столпы из кирпича озарялись ровно, без теней. Каждая свечка, возмечталось Неупокою, есть разум, зажжённый Богом во вьюжной вселенской ночи; как же могла бы воссиять земля, если бы мысли всех людей горели согласно, источая одно тепло, без жжения... Перед концом службы метель утихла, наворотив сугробы и надувы. Детёныши еле расчистили тропинку. Зато как чуден был выход иноков с зажжёнными свечами прямо в синий предрассветный сумрак, на заснеженный двор! Стрельцы смотрели со стены – истинно огненный ключ бил из пещеры прямо на снег и растекался под оголёнными, иззябшими липами...
Только никто не слышал, как посельский старец Трифон сказал своему приставу Арсению, приблизив к его лицу свою свечу с дрожащим, взбесившимся пламенем:
– Ты их подбил на богомерзкое дело! Ты!
Арсений только улыбнулся. Его свеча горела ровно.







