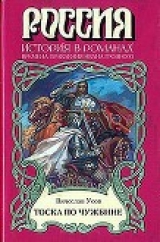
Текст книги "Тоска по чужбине"
Автор книги: Вячеслав Усов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц)
3
В версте от Печорского монастыря ручей Каменец сливается с речкой Пачковкой. Она упорно пробивается на север, как будто помнит о главном прибежище здешних вод – Псковском озере. Не сразу примиряясь с неизбежным, ручей срезает, обнажает округлый бок горы до красного песка, пока спокойная Пачковка не обессиливает его. За их борением с вершины следят привычные ко всему старые сосны, так затенившие свои подножия, засыпанные тысячелетним слоем игл, что только ягель да тощий хвощ растёт у их корней.
Взбодрённая, усиленная Каменцом Пачковка прилежно строит и размывает свою долину, то круто уклоняясь в сторону, то принимая в себя корытообразные овраги, давая людям возможность приспособить для хозяйства незаселённые куртины на пологих склонах и луговины на террасках. Хлеб лучше сеять на высотках, вплоть до водораздельных просторных пустошей и гарей, а овощи, особенно капуста – вторая после хлеба еда крестьянина, – охотнее росли в низинах, затопляемых не каждый год. Деревеньки в три-четыре двора были негусто разбросаны по лесистой долине Пачковки, крестьяне приспосабливались к её бездумной разрушительной и созидательной работе, всякий хозяин наособицу. Они селились на монастырских землях охотнее, чем на дворянских, надеясь, что крохи от иноческих льгот перепадут и им.
Земли для старожильцев и новоприходцев у обители хватало. Многие отдавали свои имения по договору – с правом пользоваться доходами «до скончания живота», пожизненно: время было такое, что жить за монастырём казалось безопаснее. После убийства Корнилия государь подарил обители несколько деревень в десятке вёрст к югу, в Паниковичских лесах, с сельцом Погорелым (что тут же вызвало опасные шутки у едва опомнившейся от страха братии). А по Пачковке и пограничной Пиузе лежали деревеньки Веречея, Живоглядка, Нави, Дальняя... В них жили мрачноватые хозяйственные псковские крестьяне и чухонцы – эсты, латыши. Они выращивали небогатый хлеб и изобильный лён, шарили неводами по илистому дну озёр, в которых не водилась только золотая рыбка, и разводили чёрных породистых коров и неказистых, но выносливых лошадок, привычных к простой работе. Монастырю крестьяне платили пятую долю урожая и исполняли разные работы – от пахоты до прорубей, а государству давали облегчённые подати и посошных на войну.
Земля – чужая, жилище – временное. Если уходишь, оставляешь монастырю всё хозяйство и строения, как оставляем мы на земле по смерти прикопленное, наработанное – неведомо кому...
По праздникам монастыри ставили своим крестьянам «кормы» – угощения. В день Рождества Богородицы у стен Печорского монастыря, между Никольскими воротами и стрелецкой слободкой, выставлялись длинные столы под грубыми льняными скатертями. На них дымились наваристые щи, крутая каша на коровьем масле и разварное мясо с уксусом, благо восьмое сентября пришлось в тот год на воскресенье, скоромный день. Пили сладкий квас на патоке, сильную бражку и жидковатую медовуху. Монахи, как всегда, ели отдельно, однако Трифон привёл Арсения к крестьянской трапезе, чтобы представить будущим подопечным.
Во всяком обществе есть свои первые и последние, и первые не желают смешиваться с последними ни в работе, ни в еде. Длинные столы давали повод выделить худшие места – в конце и лучшие – возле старца, творившего предобеденную молитву и назиравшего за порядком. Неупокой, покуда слабо разбиравшийся в крестьянском мире, узнал, что звание крестьянина носит здесь далеко не каждый, а только тот, кто в состоянии платить полные подати в казну и монастырские оброки – ругу. Крестьяне ценили своё звание и гордились им. Если по слабости хозяйства их, не оправдавших льгот, переводили в половники, бобыли или захребетники, это считалось большой потерей и унижением. На трапезе крестьяне грудились в голове стола, несильно тесня друг друга, как бы ревнуя к старцу-назирателю. Среди них первыми почитались старожильцы.
К ним и подвёл Неупокоя Трифон, вполголоса заметив, что вот эти трое – из деревушки Нави на Пачковке, где утонул посельский пристав, предшественник Арсения.
Крестьяне торопливо положили ложки и поклонились подошедшим. За столом были, разумеется, одни мужчины, хотя и женщин не обидели – они с детишками угощались в рощице неподалёку, разложив на платках монастырскую снедь... На мужиках были чистые светло-серые или белые свитки, опускавшиеся ниже колен, и холстинные порты, тесно облегавшие ноги. На сапогах и кожаных поршнях[7]7
...и кожаных поршнях... – Поршни – старинная обувь, сделанная из одного куска кожи и собранная вокруг щиколотки на ремешке.
[Закрыть], надетых, верно, при самом подходе к монастырю, не было видно дорожной пыли.
– Снедайте, православные, – разрешил Трифон, усаживаясь на лавку так, чтобы видеть всех. – Налей-ка нам, брат Савва, чем наших оратаев келарь потчует. Мёд монастырский в царских палатах славен...
– Мёд монастырский, сбор крестьянский, – бойко встрял остроносый и, видно, злой мужик со слишком резким голосом. – А пчёлы – Божьи!
Монах во главе стола грозно глянул на него, но бойкий уверенной рукой взял себе новый кусок хлеба, что, видимо, считалось неприличным без разрешения старшого. Сидевший рядом лысоватый и полнолицый крестьянин укоризненно подтолкнул его круглым плечом.
– Когда тебя, Прощелыка, окорот возьмёт? – осадил Трифон бойкого. Он объяснил Неупокою: – Вот ведь два брата, а будто от разных матерей – Лапа да Прощелыка Ивановы. Лапа семьянистый и безотказный на всякую работу. – Лысоватый улыбнулся с нарочитым добродушием. – Этот же – истинно Прощелыка, на монастырское изделье будто на казнь волочится, да и свои угодья подзапустил. Был работящий, а чем старее, тем злее и ленивее. Отчего так, Прощелыка, покайся нам!
Любое выражение шло Прощелыке, кроме покаянного. В каждой его ужимке, движении узковатых плеч и не по-крестьянски гибких, цепких рук сквозила какая-то сварливая задиристость. Лёгкий, но непривычный хмель медовухи разбередил в нём то возмущённое, давимое, что в трезвом виде прикрывалось уклончивым угрюмством. Голос Прощелыки сорвался:
– Чего корячиться? Сколь ни намолоти, весною баба уж по сусекам скребёт. Обители – отдай, в казну – отдай! Толку от той работы.
– Обитель тебя не разорила, землю дала! Государевых податей ты платишь пять алтын да три деньги, считай – шесть пуд ржи. Прочее всё твоё.
– Моё! Нас трое здоровых едоков да дети малые! Я в сие лето собрал сорок да восемь пуд. На год нам полёта пуд едва хватает, у нас приварок не монастырский, мяса не едим, ерши – какие попадутся... Вот и считай: вам – восемь пуд, в казну – шесть, на семена – двенадесят. Нехватка получается!
– Ты не едину рожь сеешь.
– Овёс да ячмень на продажу, да на кашу, да корм скотине. А то и соли не укупить... Эдак-то лето за летом побьёшься да махнёшь рукой.
– Отчего Лапа не махнул?
Едва Трифон с Прощелыкой начали считать, Лапа бросил есть и так и вцепился в них сияющими глазками. Видимо, разговоры об урожае и расчёты были ему всего на свете слаще, любопытнее. Теперь он вклинился:
– А на посилье просит Лапа, ему дают?
Трифон пытался отмахнуться, но захмелевший Лапа наседал. Из их уклончивого разговора, приправленного ссылками на старину, Арсений уяснил, что Трифон почему-то сдерживает хозяйственную ревность Лапы. Тот уже третий год просит прирезать к его полю кусок пустующей земли сверх обычного надела – выти. Посилье предполагало, что Лапа станет платить больше оброка, обители – прибыток. Но Трифон не давал, а с тем же доскональным знанием крестьянского хозяйства доказывал, что у Лапы при его полуторном наделе и без того каждое лето образуется излишек: семнадцать пудов ржи и до восьмидесяти пудов овса.
– У меня две лошади! – возмутился Лапа так, что даже темя его с редкими белёсыми волосками зарозовело, а толстая грубая губа по-детски задрожала. – Их соломой кормить?
– Сорок пуд ты на торг свезёшь!
– Сорок свезу, – чуть утешился Лапа. – А дал бы мне тот клинышек за оврагом, я бы и сто свёз.
– Куды тебе такие излишества?
– Обогатеть хочу!
Лапа ответил так серьёзно и простодушно, что мужики вокруг расхохотались. Назиратель пристукнул ложкой: смеяться за трапезой – грех. Насытился, молитву сотворил – отойди в сторону и смейся себе. Трифон воспользовался, чтобы уйти от разговора о посилье:
– Пошли, брате Арсений, далее, нива наша обширна, покуда обойдём!
Только ему, сердечному, не дали далеко уйти: от того же стола бочком отбежал и догнал его тощеватый, весь какой-то вялый и в то же время суетливый мужичонка:
– Отец Трифон, а как же просьбишка моя? Которую седмицу жду.
Трифон задёргал плечами и лопатками, будто ему за откинутый куколь заполз жучок.
– Мне, Мокреня, старец-казначей пеняет: ты-де его покрываешь, он-де другое лето оброк не платит, ему-де льготы не давали, а он не платит! Зря землю занимаешь, Мокреня!
Крестьяне редко называли друг друга по христианским именам, разве при поминании, по смерти. Прозвища получали обыкновенно смолоду, но этот явно был переименован в зрелом возрасте – уж очень верно и обидно. Ребёнок, юноша не вызывает такого жалостного и неприязненного чувства.
– Я поднимусь! – не веря себе, пообещал Мокреня.
– Чаю, из бездны адовой легче подняться, нежели из твоея скудости, тунеядец. Вот у вас новый пристав – отец Арсений. Он приглядится и решит, когда перевести тебя в половники.
– Не обижай, святой отец!
– Тебе же легче, глупый: подати с тебя снимем государевы.
Они ещё испили медовухи у стола монастырских детёнышей – работников по уговору, за долги и по обетам. С ними толковать о хозяйстве не пришлось, разве попенять на медленную уборку хлеба и выслушать хмельные клятвы, что до Воздвижения последний сноп птицей улетит с поля. Повеселевший Трифон направился в берёзовую рощу.
В ней на приволье, среди подсохшей травки, расположились женщины и дети. Трифону кланялись, а на Арсения посматривали с почтительным любопытством и некоторой жалостью: женщине трудно объяснить, зачем молодой мужчина, не калека и не урод, обрёк себя на чёрное безбрачие. Поймав на загорелых лицах под белыми убрусами две-три вопросительные улыбки, Неупокой сердито натянул клобук: «Аще чернец без куколи сквозь град пройдёт, яко и блуд сотворит...»
– Вакора! – окликнул Трифон. – Ты снова с жёнками трапезуешь! Не стыд тебе?
Возле берёзки сидела над костерком иссохшая женщина в низко надвинутом на лоб коричневом убрусе и чёрном, как бы вдовьем, опашене[8]8
Опашень – старинная русская мужская одежда – долгополый кафтан (из сукна, шёлка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.
[Закрыть], а рядом – кряжистый и длиннорукий мрачноликий мужик. Тугая борода и вылезающие из-под колпака неприбранные космы были сильно побиты сединой – не старческой, а болезненно-бесцветной, как после неизгладимых потрясений. Так же бесцветны были глаза у женщины, вовсе терявшиеся на тёмном лице. Справа и слева угнездились девчонка лет семи и угрюмый отрок, мучительно похожий на отца. Теплинка-костерок горел у них без надобности, для одной видимости домашнего приюта. На ветке, прикрытая чистым платом, тихо висела плетёная люлька с таким же тихим, ненавязчивым младенцем. Так и запомнился Неупокою Вакора – с детишками, над костерком, источавшим запах дыма и пожарища...
– Новоприходец, – объяснил Трифон. – Посадил его, сироту государеву, на землю, ныне он за меня Бога молит. Молишь, Вакора?
Вакора блёклой улыбкой не ответил – отвязался от Трифона. Имя показалось знакомым Неупокою.
– Откуда ты?
– С Шелони. За Венедиктом Борисовичем Колычевым жил.
Прошлое стискивает сердце, как похоронный звон. Ты только обрадовался бестревожной жизни, тебе напомнили.
– Добрый был у тебя господин, Вакора. Царство ему Небесное.
– В Небесном Царстве разберут его добро... А только, чаю, нас казнили да разорили за его грехи.
Жена остерегающе взглянула на Вакору. Не сильных людей она боялась, а собственные раны бередить. Трифон пристукнул посохом:
– Беседуйте, мне недосуг. Отец Арсений приставом назначен к вам на Пачковку, ты от него, Вакора, не таись.
Уловив искреннее сочувствие нового пристава, Вакора разговорился, за месяцы молчания развязал неповоротливый язык – вдруг захотелось побеседовать о наболевшем. Чужое угощение расслабляет.
Речь Вакоры напоминала движение сохи по свежему пожогу – то и дело приходилось вздёргивать держала над корягой или кочкой. Особенно когда он глухо упомянул о старшем сыне, затоптанном конями озлобленных соседей Колычева. На пепелище оставаться он не мог. Не только потому, что новому владельцу – Годунову не было дела до разорённой вотчины, – и пашня, и завалившийся двор одинаково пахли смертью. Жена, конечно, заикалась насчёт родной могилки и лёгкой жизни за государевым любимцем, – женщины, как трава, умеют и слёзной росой облиться, и снова зазеленеть на гари... Вакоре обрыдло всё. «Жизнь прахом, Бог отнял всё моё строение земное...»
Известно, дом его погубителя Леонтьева тоже был разорён. Вакора из вражьей конюшни забрал лошадь и со всей рыдающей семьёй подался на закат. В дороге или ранее созрела у него обиженная мысль – искать прибежища у немцев или в Литве. Но когда на Рижской дороге стрельцы Печорского монастыря перехватили его, Вакора примирился с тем, что Бог привёл его куда задумал.
Каким укромным, защищённым от многомятежного мира представился Неупокою двор монастыря, такой же тёплой, отгороженной от прошлого показалась Вакоре лесистая долинка речки Пачковки. На дальнем пустом починке Трифон указал ему место для огорода, избы и пашенки, выдал «на льготу» семян и делового леса. И стал Вакора жить, бросив мечтания о прибытках, только бы прокормиться до новин. Он так и своему отцу духовному сказал: «Желаю быть яко белка или птица, они же не загадывают далее весны».
Нрав человека – судьба его. Не суждено было Вакоре стать Божьей птицей. Иные думают, что запасают на седмицу, а не хватает и на два дня. Вакора запасал на зиму, вышло – с излишком на год. У него было своё понимание запаса. Он работал, как привык, и не впервые убедился, что, если сделает всё зависящее от него, а жена умно распределит полученное, прибыток непременно образуется. Правда, на первые два года Вакоре дали льготу – освобождение от податей в казну и монастырского изделья – по сути, облегчённой барщины. Так для того и дали, чтобы он вновь испытал тягу к работе и стяжанию.
Вакора часто поминал некий сарай из камня, брошенный прежними хозяевами его починка. Прилежные чухонцы использовали для хозяйственных построек валуны, собранные на пашнях, скрепляя их раствором на извести и песке, подобно замковым башням. Построить каменную конюшню нелегко, зато надолго и безопасно от огня. Вакору поразила вера прежнего хозяина в прочность владения землёй, в свою устойчивость на этой земле, равно как и бережливость его. И самому поверилось, что возле тяжелокаменной конюшни его потомственный крестьянский род укоренится, разрастётся и обогатеет. Каменная конюшня надёжней прикрепила Вакору к новой земле, чем льготы.
4
Неупокой полюбил свою тесную келью. На окончине всегда лежало несколько новых книг из монастырской либереи[9]9
Либерея — библиотека.
[Закрыть], в стенной печуре – две-три заветные. Над изголовьем ложа с набитой волосом подстилкой и шерстяным одеялом в стену был вмурован железный штырь – подсвечник. У другой стены – столик с покатой столешницей, возле него – скамеечка. На двух крюках висели запасная ряска, свитка, овчинный полушубок. Более ничего не было в келье, даже кувшина для воды: ныне ты воду отдельно от братии пьёшь, завтра – мёд!
Втайне от братии Неупокой творил так называемую умную молитву:
«Присобирая помышления и не разрешая им парить, стисни свои руки и соедини ноги ровно, и не сгибай стана, и очи смежи, и ум соедини, ум же и сердце возьми на небо...» Будто против течения выгребая, он достигал состояния, описанного Симоном Исповедником: «Стало страшно, воистину страшно, и выше слов. Зрю свет, его же мир не знает, посреди келии на одре сидя; внутри себя зрю Творца мира, и беседую, и люблю, и вкушаю, питался добре единым видением и соединяясь с Ним, небеса превосхожу!» В самые сокровенные минуты литургии не постигал Неупокой так ясно, что все сокровища человека, и ад, и рай его сокрыты в нём самом и это достояние никто отнять не может. «Что сотворит мне человек?» Но приходили и еретические мысли: есть ли Бог вне меня? Вдруг всё, что мы объединяем под именем Святого Духа, тоже заключено лишь в виде света в душе человеческой? Ведь заповедано в Писании: «Если вы скажете, что Бог на небе, то птицы небесные опередят вас; если в воде, то рыбы... Бог в нас и вне нас». Арсений выплывал из своей молитвы-размышления как из глубокого сна – в смятении, но это смятение было счастливым, вопреки остережениям обученного разума.
Чем меньше оглушают человека мелочные заботы и злоба дня, тем напряжённей занимают его вопросы духовной жизни. Арсению казалось, что вместе с его обителью весь мир безмолвно погружается в осень, сквозь её тяжкую позолоту он не слышал внешних голосов, а внутренние голоса всё требовательнее спорили о самом странном и важном для души: откуда мы пришли или приведены в этот нелепый и прекрасный мир? Что станет с нами после смерти? Что есть Бог? Тяга к духовным исканиям была в нём развита с юности заволжским старцем Власием, но в стремительном и жестоком течении последних лет могла проявиться разве излишними мучениями совести. Теперь у него были тишина, покой и книги.
В одну из них – «Диоптру» – он вчитывался с жадным изумлением, часто вспоминая почему-то (хотя какое это имело для него значение?), что её видели на столике у государя. В мнимой ясности суждений Филиппа Пустынника было какое-то еретическое очарование. Филипп задолго до Неупокоя задался целью по-своему «постичь Божественное – откуда я (Душа) пришла, и по какой причине, и кто создатель мой, и почему он поместил меня в тебе, плоти смрадной, и куда я потом пойду, с тобой наконец расставшись?». Душа, как ученица, вопрошала плоть! Арсения объединяло с автором сознание, что без подобных вопрошаний она не может жить, ибо в ней будет гнездиться подозрение, что бытие бесцельно и бессмысленно.
Краса всего живого не примиряла его с бессмысленностью, наоборот: чем краснее разгоралось бабье лето, тем жальче становилось, что каждый алый и жёлтый листик гибнет безнадёжно, навсегда. И так хотелось, чтобы твоя погибель была не навсегда! Одной привычной веры в воскресение Неупокою было мало, а в книгах он находил неутешительные ответы. Плоть говорит Душе: «Ведь ты не прежде меня возникла, но вместе со мной... Я же, когда рождаюсь, несовершенным младенцем пребываю: и ты тогда сразу ничего не можешь делать... А если какому-либо из моих членов случится погибнуть, ты в деле его снова становишься бессильной. Аще же мозг мой уязвлён будет мечом, ослеплена бываешь, немысленна и скудоумна вся! Уразумела ль ты, Душа, что без меня ты и гроша не стоишь? Ведь не в себе ты зачалась, а во мне составилась. Бестелесной Душа и бездушным тело живое не бывают...» Проклятый грек. Язвящий, безжалостный рассудок.
Судорожно листаются страницы, покрытые блёклыми завитками букв. Писец чернила делал из сажи с клеем, без закрепляющих добавок. Бедными были и заказчик, и писец.
«Весь мир был создан для Души. Ведь пастбище сначала, потом – скоты». Невелико утешение: сколько лугов пропадает втуне! Но ежели принять, что мир был создан Божьим Духом для Души, то не окажется ли сам он только нашим или божественным мечтанием?
Чувствуя, как мутится и искривляется его рассудок, Арсений выбегал из кельи, чтобы ещё раз убедиться в твёрдости видимого мира. Закатный небосклон калился на солнечных углях, как край сковороды, неколебимо стояли стена и башни под тесовыми кровлями, в просветах звонницы стекали с брусьев чугунные капли колоколов, а из поварни шёл кислый запах ржаного теста. Непрочно выглядела лишь негасимая лампадка в нише у входа в погребальную пещеру. Всё было нужно и понятно, кроме смерти. Неизбежность её обессмысливала сами начала жизни. Как никогда, хотелось верить в воскресение для жизни вечной. Временная, хоть и счастливо долгая, не нужна была жизнь.
«По воскресении которое тело блудника мучимо будет – сморщенное в старости перед смертью? Но иное оно по сравнению с соделавшим грех. Или же то, что осквернено страстью? А где старческое?»
Иные догадки были непереносимы. «Не представишь ли перед очами своими Христово судилище, когда тебя окружат внезапно и близкие, и далёкие, и малые, и великие, обиженные тобой... Куда ни возведёшь око, увидишь лишь озлобленные образы!» Три лика, облитых смертной белизной, представились Неупокою: подьячий Скука Брусленков, обманный гонец Безобраз и верный, простодушный Крица... Он содрогнулся и пролепетал кощунственное моление: «Да не воскресну и не увижу их никогда!»
Сомнения Арсения не часто, но всё же прорывались при посторонних. Однажды это случилось на исповеди у Сильвестра. Игумен, отпустив ему грехи, сказал: «Суждения о сих явлениях пусты, как гадания о солнце в глубине ночи. Красу луча постигнем мы не раньше чем на восходе».







